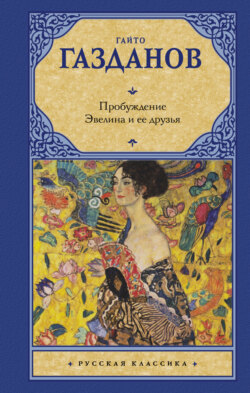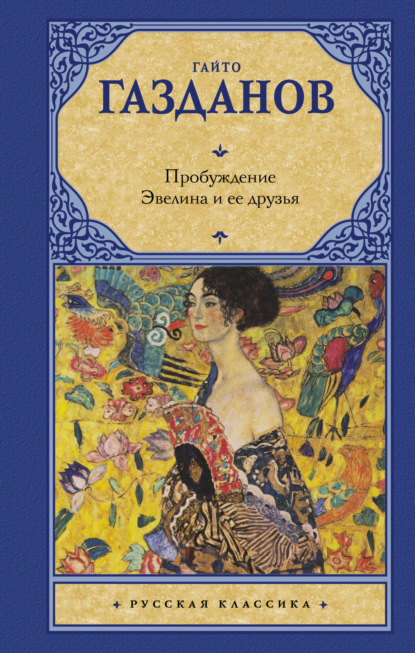© ООО «Издательство АСТ», 2024
Пробуждение
Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer
Нет нужды надеяться достигнуть цели, добиться успеха, если не приложишь сил и настойчивости.
Вильгельм Оранский
Пьер Форэ уехал из Парижа скорым поездом, отходившим с Аустерлицкого вокзала в половине девятого утра. Это было второго августа. Третьи сутки подряд лил бесконечный дождь, и в ночь, предшествующую отъезду, Пьер просыпался каждые два или три часа и всякий раз слышал все тот же шорох влажных листьев под своим окном, против которого рос высокий каштан. Ему иногда начинала казаться нелепой мысль о поездке в отпуск: не все ли равно, где мокнуть под дождем – в Париже или в какой-то далекой глуши, за сотни километров отсюда? Но билет был куплен давно и приходилось ехать, независимо от того, казалось ли это целесообразным и своевременным.
В сущности, это вышло случайно. Вероятнее всего, Пьер остался бы в Париже, если бы не встретил две недели тому назад Франсуа, того самого, которого в лицее товарищи называли «сусликом» и который теперь был журналистом. Франсуа пригласил его в кафе, они сидели на террасе и разговаривали.
Франсуа сказал:
– Быстро проходит все-таки время, а? Ты куда едешь на лето?
– Никуда, собственно, останусь в Париже.
– Почему?
Пьер пожал плечами и ответил, что ему никуда не хочется ехать.
– У меня идея, – сказал Франсуа. – Приезжай ко мне. Помещение у тебя будет бесплатное, расходы на еду будем делить поровну. Я летом живу у черта на куличках – никого вокруг, только река и лес. А? Что ты скажешь?
И он объяснил Пьеру, что несколько лет тому назад ему достался по наследству небольшой кусок земли в одном из южных департаментов; там было несколько деревьев, колодец и полуразрушенный дом с маленьким флигелем.
– Развлечений мало, – сказал Франсуа. – Тишина зато необыкновенная, только по вечерам кричат лягушки в пруду недалеко. Газа нет, электричества тоже нет. Ты погружаешься в четырнадцатое столетие – без газет, без журналов, без радио. Деревья, вода и трава, больше ничего. И еще нечто вроде пещеры, где ты будешь жить, – шершавые стены, земляной пол и хромая табуретка. Это тебе подходит?
Пьер согласился, не подумав и изменив на этот раз своей обычной медлительности в решениях.
Через несколько дней после этого он пожалел о своем согласии, но Франсуа уже не было, он уехал в Орлеан, откуда должен был отправиться к себе на юг, не заезжая по дороге в Париж, и предупредить его о перемене решения у Пьера не было возможности. Он заблаговременно купил себе билет, уложил в чемодан все, что было нужно, и вот теперь, второго августа, он сидел в вагоне и ехал в эту самую глушь, о которой рассказывал Франсуа.
В его купе ехал старый крестьянин со своими тремя сыновьями – молчаливые люди с загорелыми лицами и руками, в неловко сидящих на них городских костюмах, явно купленных в провинциальном магазине готового платья, – и какая-то толстая дама с двумя детьми: некрасивой девочкой лет десяти, которая то дремала, то читала книжку с картинками, и мальчиком лет семи, единственным пассажиром, не умолкавшим ни на минуту: – Мама, вот там стоит паровоз! Мама, почему он не двигается? А на нем нет механика? Нет, вот механик! И вот кочегар! А вот контролер! Почему наш паровоз не гудит? Вот идет дама с девочкой! Вот идет носильщик! Паровоз будет делать: ту-ту-ту! Почему мы еще не уезжаем? Ту-туту! Осторожно, поезд сейчас будет отходить! Нет, он еще не отходит!
Толстая дама отвечала: – Да, мой миленький. Нет, мой миленький. Да, мой миленький. Нет, мой миленький. Обветренные лица крестьян были каменно неподвижны. Пьера раздражали и голос мальчика и его детская глупость, но он тоже молчал. Он вышел в коридор, но там нельзя было протолкнуться, люди сидели на чемоданах, занимая проход, какой-то солдат просто лежал на полу, подстелив под себя газету. Пол равномерно вздрагивал от движения поезда. Пьер посмотрел вниз, на газету; под левым локтем солдата были видны слова «убийца из ревности», но следующие строки пропадали где-то между поясницей и спиной, и только значительно ниже, еще в одном месте острым углом вырисовывался кусок столбца, на котором можно было прочесть: «Утопленница Луары наконец опознана. Речь идет о…» – Ту-ту-ту! – кричал мальчик.
– Да, мой миленький, – отвечала толстая дама. – Мама, ты видишь, идет дождь! – Да, мой миленький. – Мимо забрызганных стекол вагона мелькали мокрые заборы, люди под зонтиками, шагавшие по дороге, которая то появлялась, то исчезала, птицы на телеграфных проводах. Было прохладно и сыро. Пьер сел на свое место в углу, притиснутый толстой дамой, не выпускавшей из рук вязанья. Крестьяне ели хлеб с сыром и колбасой, отрезая каждый кусок перочинным ножом и поднося его ко рту, и запивали еду красным вином, которое расплескивалось в стакане от вздрагивания поезда.
За окнами вагона стелился влажный туман, пересекаемый тем же бесконечным дождем, пролетал белыми клочьями пар от паровоза, дымились смутно возникающие и тотчас исчезающие поля. В купе стоял упорный запах овернского сыра, красного вина и чего-то несвежего и трудноопределимого, и от этого Пьера начинало тошнить. Он снова вышел в коридор, долго стоял там, но наконец устал и, вернувшись на свое место, сел и закрыл глаза.
Сначала он не думал ни о чем и только невольно вслушивался в равномерное вздрагивание поезда. Затем вдруг перед его глазами возникла – он никогда не мог понять потом, почему именно, – маленькая книжка с твердой обложкой, которую ему подарил отец, когда Пьеру было девять лет, книжка сберегательной кассы с записанной в ней суммой в сто франков. В те времена его отец, – Пьер помнил его грузным человеком с отвисающими щеками, которые, казалось, никогда не были ни особенно небритыми, ни свежевыбритыми, – в мешковатом костюме, с палкой или зонтиком в руках, – в те времена его отец придавал большое значение сберегательным кассам. Это, впрочем, продолжалось недолго и было вдобавок чисто теоретическим, но заняло известное место в той эволюции принципов, как он выражался, которая была любимой и всегдашней темой его рассуждений. Уже несколько месяцев спустя он говорил, что сберегательные кассы – это ловушка для наивных и доверчивых людей и спекуляция на скупости. Кроме того, у отца Пьера никогда не было денег – ни в сберегательной кассе, ни где бы то ни было вообще, хотя он занимался коммерческими делами и все жалел, что у него нет достаточного оборотного капитала. Он был необыкновенно словоохотлив, многоречив и отличался способностью говорить с жаром о чем угодно – о кулинарии, о принце Уэльсском, о капитализме, о балете, о политике, о скачках, о литературе. Обо всем этом у него было очень приблизительное представление, но это не имело значения, потому что любой вопрос служил только предлогом для того, чтобы он, Альберт Форэ, мог как-то использовать ту непонятную и чисто словесную энергию, которая была для него характерна. Он как-то шутя сказал жене в ответ на ее очередной упрек в многословии:
– Можешь мне поверить, дорогая: когда я стану молчалив, это будет значить, что дело плохо. Ты это запомни.
Но несколько лет спустя, когда это действительно произошло, никто не вспомнил о его словах, которые оказались совершенно пророческими. Он замолчал, не произносил ни слова неделями и только изредка тяжело стонал. Он знал, что он умирает, задолго до того, как это стало понятно окружающим, – и когда он остался наедине с этой перспективой смерти, ему нечего было сказать, так как все слова были бесполезны. Он не думал об этом, ему никогда не приходила в голову мысль о возможности какого-то праздного и воображаемого диалога со смертью, но он чувствовал ее неудержимое приближение и ждал конца с тем тупым и неизменным ужасом, который совершенно парализовал в нем всякое желание сказать что бы то ни было. Пьер очень хорошо помнил те тягостные минуты, когда он должен был входить в комнату, где лежал умирающий, – ее притворенные ставни, сумеречные очертания предметов и тяжелый запах, исходивший от больного. – Пойди к нему, – торопливо говорила Пьеру мать, – ты знаешь, как он всегда рад тебя видеть. Скажи ему, что у него сегодня лучше вид, чем обычно, это доставит ему удовольствие. – Пьер не знал, понимала ли она, насколько фальшиво звучало все, что она говорила, но покорно ее слушался каждый день и произносил все, что следовало, по ее мнению, произносить, никогда не получая никакого ответа: отец молчал в его присутствии так же, как всегда. Было совершенно очевидно, что приход Пьера не доставлял ему никакого удовольствия, так же как было очевидно, что слово «удовольствие» давно потеряло для него всякое значение и он был больше не способен его понять. За время болезни у него выросла густая черная борода, делавшая его неузнаваемым, и когда он наконец умер и Пьер увидел его последний раз, ему было нужно сделать над собой усилие, чтобы понять, что это худое, желтое лицо с черной бородой, незнакомое и призрачно неподвижное, – лицо Альберта Форэ, его отца. И только много месяцев спустя Пьер, сидя один и задумавшись бог знает о чем, вдруг вспомнил, что, когда ему было двенадцать лет, он проходил однажды по Севастопольскому бульвару и увидел, что на террасе кафе сидел его отец, совсем не похожий на себя, с веселыми и мутными глазами, – рядом с полной молодой дамой в зеленом платье, которая все время смеялась. Когда Пьер подошел совсем близко, отец схватил его за рукав, притянул к себе, – от него пахло вином и еще чем-то особенным, аптекарским, – и сказал:
– Это мой сынок, Пьер, хороший мальчик. И, наклонившись к его уху, прибавил шепотом:
– Никому не говори, что ты меня видел, а? А через два дня, вечером, произнося свой очередной монолог, он сказал, обращаясь к жене:
– Всем известно, что одно поколение не понимает другого. Но будем надеяться, что наши дети не будут нас судить слишком строго.
И посмотрел при этом на сына. Пьер отлично понял тогда, что именно имел в виду его отец. И когда он вспомнил обо всем этом через несколько месяцев после его смерти, он вдруг подумал, что никогда больше не будет ни этого осеннего дня, ни этой смеющейся женщины в зеленом платье, что все сдвинулось и смешалось, как сон, исчезая в том неизвестном пространстве, куда с таким упорным молчанием уходил потом Альберт Форэ и которого он достиг в тот день, когда Пьер увидел его неузнаваемый, чернобородый труп.
Поезд продолжал идти, проникая, казалось, все глубже и глубже в дождь и туман. Слова «сберегательная касса» опять появились перед глазами Пьера и тотчас же пропали. После смерти Альберта Форэ на его собственном счету оставалось четырнадцать франков. – Твой отец нас разорил, – сказала ему мать. – Теперь, Пьеро, ты глава семьи. Мы работали всю жизнь. Если бы твой отец не играл на скачках… Что касается меня, я всегда выполняла свой долг. – И она заплакала.
* * *
«Мы работали всю жизнь…» Она действительно никогда не оставалась без дела. Она натирала полы, мыла окна, готовила, стирала, чистила овощи, выносила мусор, шила, вытирала пыль, и когда наконец казалось, что сделано решительно все, она садилась в свое твердое кресло и начинала вязать. Но, кроме этого, ее ничто не интересовало, и у нее никогда не было даже желания прочесть газету. Когда они бывали всей семьей в кинематографе, раз в неделю, она была не способна сосредоточить свое внимание на фильме, который показывался, это ее только утомляло, и Пьер не помнил, чтобы она когда-либо сказала хоть несколько слов о том, что ей понравилось или не понравилось в картине. Когда отец ее спрашивал, что она думает, она неизменно отвечала одно и то же: – Не хуже, чем другие, – независимо от того, что это было – исторический сюжет, мелодрама или фарс.
Пьер не помнил свою мать молодой, такой, какой она была изображена на семейных фотографиях, – полноватой девушкой с большими глазами. Тетка Жюстина, старшая сестра отца, огромная старуха с густыми бровями и большим носом, вся всегда в черном, как-то сказала отцу в его присутствии:
– Ты помнишь, Альберт, какой прелестной была твоя жена, когда ты был только ее женихом?
Но это, казалось, было чрезвычайно давно и исчезло настолько безвозвратно, что представлялось почти неправдоподобным. Со стороны можно было подумать, – Пьер перебирал все мысли, которые возникали у него о матери и о семье, – что ее прелестность, в которую верилось с таким трудом, существовала только до ее замужества; после замужества необходимость в ней прошла и она исчезла одновременно с этим. Иногда ему казалось просто невероятным, что целая человеческая жизнь, со всеми ее возможностями, воспоминаниями, иллюзиями и надеждами, могла быть сведена к такому бесконечно неинтересному существованию: базар, обед, ужин, уборка квартиры – и больше ничего никогда, ни при каких обстоятельствах. Но в ней все-таки, правда, оставалось то теплое и нежное, что Пьер помнил с детства, прикосновение ее полных рук, ее вечерний поцелуй перед сном – пора бай-бай. Пьеро, мой зайчик.
На монологи отца мать обычно отвечала пожатием плеч, и было очевидно, что они ее совершенно не интересовали, о чем бы ни шла речь. Было, казалось, только два предмета, которые занимали ее внимание, – необходимость экономии и все, что было с ней связано: цены на мясо, на сахар, на хлеб, на вино, именно то, к чему Альберт Форэ был совершенно равнодушен – и что ее раздражало, – и наследство тетки Жюстины. Об этом наследстве Пьер слышал всю свою жизнь, на нем строились всевозможные расчеты, вплоть до кругосветного путешествия и покупки собственного дома где-нибудь недалеко за городом. Только значительно позже он узнал, что богатство тетки Жюстины было приобретено вовсе не экономией или какими-либо хозяйственными добродетелями, а тем, что она переменила за свою жизнь несколько очень состоятельных покровителей: один из них купил и обставил ей дом, другой подарил ей чуть ли не целую витрину ювелирного магазина, третий еще что-то, – в общем, это была смена неправдоподобных историй, вроде тех, какие Пьер читал в тоненьких дешевых книжках, подписанных именами совершенно неизвестных авторов. И когда он вспомнил эту громадную старую женщину в черном глухом платье, похожем на рясу деревенского кюре, эти мохнатые брови и крупный нос, возможность подобного обогащения именно ее, тетки Жюстины, казалась ему до удивительности плохо придуманной и фальшивой. Вместе с тем это было все-таки именно так: дом стоял на своем месте, как неопровержимое каменное доказательство всей этой неправдоподобной истории, драгоценности лежали в сейфе, а деньги в Лионском Кредите; и самая очевидная убедительность этих страшных бровей и огромного носа была бессильна перед фактами. И все-таки Пьер продолжал не понимать, как у этой женщины, которую он знал старухой, вдобавок на редкость некрасивой, могла быть – даже десятки лет тому назад – такая бурная жизнь, как можно было быть в нее влюбленным, как она могла находить людей, которые были готовы дать ей все – дом, деньги, драгоценности. Она казалась ему похожей на огромную старую птицу с клювом и круглыми неподвижными глазами сплошного черного цвета.
И вот однажды, года два тому назад, ему попался старый семейный альбом, о существовании которого он не знал и который он нашел случайно, в подвале, куда он пошел за какой-то доской. Один фотографический снимок обратил на себя его внимание. Это была фотография молодой женщины с неправильными чертами лица, некрасивости которого не могли изменить никакие усилия ретуши; и несмотря на все это, в этом лице была необыкновенная привлекательность, неопределимая и неотразимая одновременно. Чья это могла быть фотография? Он осторожно вынул ее из альбома. На ее обратной стороне было написано от руки размашистым почерком: Жюстина Форэ, май тысяча восемьсот восемьдесят второго года.
Когда тетка Жюстина приезжала к ним в гости, ей подавались ее любимые блюда, мать Пьера окружала ее заботами и даже голос ее приобретал какие-то особенные интонации, которые невозможно было себе представить без присутствия тетки.
Поезд остановился, простоял несколько минут на какой-то станции, потом опять тронулся, и Пьер снова стал думать о том, что его занимало до остановки, – так, словно движение этих воспоминаний точно соответствовало ходу поезда.
Столько лет тетка Жюстина приезжала к ним в их маленькую квартиру, недалеко от площади Данфэр-Рошеро, столько раз она сидела за столом и ела с неприятной старческой жадностью то, что ей подавала мать. – Как вы находите курицу, Жюстина? Вам не кажется, что рис чуть-чуть суше, чем следовало бы, Жюстина? Достаточно ли вам тепло, Жюстина? – И все это было совершенно зря. Это было зря – потому что и приобретение загородного дома, и проект кругосветного путешествия, и все остальное, – это был праздный вздор, абсурдные иллюзии, глупейший мираж, «мечта, которая рассыпалась прахом», – как сказал Альберт Форэ, – потому что перед смертью тетка Жюстина оставила завещание, по которому все ее имущество переходило монастырям. И в то время, как мать плакала, узнав об этом, отец ходил по комнате и говорил, что все в конце концов логично и что еще не было примера, чтобы католическая церковь отвергала пожертвования грешниц. – Они не зададут себе вопроса о том, каким путем все это было заработано и откуда им идет это украденное у нас богатство? Да, нас обокрали, – сказала мать. – Запомни это, Пьер, и никогда этого не забывай: нас обокрали.
Эта фраза потом стала совершенно обычной; по мере того как проходило время, она теряла свою первоначальную горечь, но смысл ее не изменялся: – После того как нас обокрали, – вы понимаете, я говорю об этом позорном случае с теткой Жюстиной… – Ты помнишь, Альберт, это было вскоре после того, как нас обокрали… – В сущности, это был удар, от которого Альберт Форэ никогда не мог оправиться. Когда Пьер думал о своем отце, он неизменно приходил к заключению, что тот строил все свои планы, и в особенности планы обогащения – путешествия, загородный дом, – на совершенно произвольных предположениях, сводившихся, в общем, к постоянному расчету на чудо. Он мог, в частности, разбогатеть, выиграв огромную сумму на скачках, купив билет Национальной лотереи или, наконец, получив наследство тетки Жюстины. Другие способы составить состояние его мало интересовали и казались ему несбыточными, – в такой же мере Пьеру было очевидно, что именно расчеты на выигрыш или на наследство меньше всего следовало принимать во внимание. И оттого, что Альберт Форэ всю жизнь верил со слепой наивностью в выигрыш или наследство, он вел свои дела с такой неизменной небрежностью. Он, впрочем, допускал возможность постоянной ошибки в своих расчетах на выигрыш; но в том, что он, именно он, получит наследство, он никогда не сомневался. Он верил в это еще и потому, что ему, как многим людям, казалось, что он, Альберт Форэ, конечно, заслуживает лучшей участи, чем та, которая выпала на его долю.
Он был убежден, никогда об этом не думая, что ему естественно иметь в своем распоряжении крупные деньги и что его теперешнее положение, – которое было бы понятно, если бы речь шла о ком-нибудь другом, – для него было особенно унизительно, так как у него должна была бы быть совершенно другая жизнь – богатство, женщины и даже известность. Тот несомненный факт, что у него не было для этого решительно никаких данных и что он ничем не выделялся среди других – ни знаниями, ни способностями, ни умом, не играл никакой роли – для него не существовал. Он знал, что не заслужил своей участи, которую считал печальной и знал, что эта явная несправедливость судьбы будет рано или поздно возмещена наследством тетки Жюстины.
После ее смерти в доме наступили дни особенного злобного траура. Мать Пьеро часто плакала – по всякому поводу, иногда совершенно незначительному; но было очевидно, что если непосредственной причиной этих слез было, например, разбитое блюдо, то объяснялось это все-таки наследством тетки Жюстины. Отец не плакал и даже избегал об этом говорить, но с неестественной быстротой постарел и помрачнел и именно тогда стал жаловаться на боли в груди и начал по-настоящему хворать. Все чаще и чаще он приходил домой в нетрезвом виде, и когда ему жена как-то сказала об этом, он ответил с такой искренне печальной интонацией, какой Пьер никогда раньше не слыхал у него:
– Какое это может теперь иметь значение? Разве ты не понимаешь, что все кончено?
Но вопреки ожиданиям его жены, дела его несколько улучшились и он приносил домой больше денег, чем раньше. Это было тем более удивительно, что он стал еще невнимательнее, еще небрежнее, пропускал важные свидания, не являлся туда, куда было нужно, и вообще, казалось, махнул рукой на все. Через год после смерти тетки Жюстины он слег – и больше не встал. Он так хорошо знал, что он умирает, что в тот день, когда он прервал однажды свое обычное тяжелое молчание, он сказал Пьеру в ответ на начатую фразу:
– Когда, папа, ты начнешь выходить…
– Я выйду отсюда ногами вперед, сынок, ногами вперед, ты понимаешь, – и со стоном повернулся к стене.
А мать все прибирала, чистила, натирала полы, делая это автоматически и безошибочными движениями, и в день смерти Альберта Форэ она с утра начала мыть оконные стекла в столовой и вошла в комнату, где он умер, – в переднике и с тряпкой в руке, которую забыла бросить или положить куда-нибудь.
То, что больше всего запомнилось Пьеру, это лицо его матери, когда он как-то вернулся домой, через несколько дней после смерти отца. Когда он вошел в комнату, он увидел, что она сидела опустив голову и беззвучно плакала. На ней было старое платье и вечный ее передник, в правой руке она опять держала пыльную тряпку. В ее низко склоненной голове, во всем ее теле была такая глубокая усталость и такое непоправимое несчастье, что Пьер почувствовал, как слезы навернулись на его глаза. – Бедный мой Пьеро! – сказала она едва слышно. Он сел прямо на пол перед ней, обнял ее колени, как он делал, когда был маленьким, и начал говорить ей, чтобы она не беспокоилась ни о чем, что он будет о ней заботиться, будет работать и она не будет знать нужды. – Да, да, мой миленький, я знаю, – сказала она. – На тебя я могу положиться. Я не об этом плачу, Пьеро.
Он не решился расспрашивать ее. Ему все было ясно и без этого: такая долгая жизнь, упорная экономия, постоянная работа, никаких радостей, кроме иллюзорной надежды на чудесное разрешение всех вопросов – тетка Жюстина, – и все это совершенно впустую. А начинать сначала – слишком поздно, нет сил, и прожить второй раз жизнь нельзя. Так он думал тогда и решил сделать все, чтобы облегчить существование матери. Ему оставался год до получения аттестата зрелости, но он не вернулся в лицей. Через две недели после похорон отца он уже работал писцом в небольшом предприятии. Он относился к своему делу с необыкновенной добросовестностью, которая, однако, вовсе не объяснялась его интересом к работе и его служебным усердием, как это думал его хозяин, неизменно мрачный и неразговорчивый пожилой человек, один из бывших клиентов Альберта Форэ. Через месяц он сказал Пьеру:
– Ну, знаете, могу только сказать, что вы не похожи на вашего отца. Совершенно не похожи, совершенно.
Пьер не курил, не ходил в кафе и на службу отправлялся пешком. Все свои деньги он приносил домой, и в этом суровом воздержании от каких бы то ни было удовольствий он находил удовлетворение, заполнявшее его жизнь. По воскресеньям он сам натирал полы в квартире, никогда не забывал ни одного поручения матери и искренне страдал от того, что она, по многолетней привычке, вставала раньше, чем он, и приносила ему кофе в кровать. Она изменилась, постарела, стала медленнее в движениях, но чистила и мыла все по-прежнему. Иногда, в отсутствие Пьера, она разговаривала с соседками – всегда о том, какой у нее заботливый сын.
– Я уверена, – говорила она, – что даже если он женится, то будет так же хорош ко мне, как теперь.
Проходили однообразные месяцы, не принося никаких изменений. Пьер знал, однако, что его мать успела отложить небольшую сумму денег, – потому что теперь всеми средствами она распоряжалась бесконтрольно в отличие от того времени, когда был жив Альберт, который ей давал ровно столько, сколько, по его расчетам, было необходимо, чтобы не умереть с голоду, как он говорил шутя. Затем Пьер получил повышение: ушел помощник бухгалтера и он занял его место. Ему прибавили жалованье. Откладываемая сумма стала увеличиваться; два, иногда три раза в неделю мать теперь кормила его то кроликом, то дичью и начала говорить, что мужчине как-то неловко не курить. Затем, однажды заглянув в свой бумажник, Пьер совершенно неожиданно нашел в нем пятисотфранковый билет, который она ему туда положила, считая, что молодому человеку нельзя ходить без денег. Он пожал плечами и билета не тронул.
В сущности, не было никакой необходимости, особенно теперь, – он это прекрасно понимал, – в таком суровом аскетизме. Но он настолько к нему привык, что для него было действительно трагедией заказать себе, например, новый костюм. Он вовсе не был скуп, но ему казалось, что он не имеет морального права тратить такие деньги, в то время, как его мать была лишена самого необходимого всю свою жизнь. Ему доставляло особенное удовольствие отдавать ей все, что он зарабатывал, не оставляя себе почти ничего. Кроме того, он просто физически не любил деньги, ни кредитные билеты, ни монеты, и очень хорошо понимал кассира, веселого тридцатилетнего мужчину, который говорил:
– К деньгам я чувствую отвращение. Я их перебираю целый день, и под конец дня меня начинает тошнить.
Пьер не перебирал деньги, он имел дело только с их цифровыми отражениями. Длинные ряды чисел проходили перед его глазами каждый день – задолженность, прибыль, отчетность, скидка, проценты, отчисления. В том, что все эти числа, в их постоянных смешениях и метаморфозах, подчинялись неизменным законам, никогда не допускавшим ни малейшего от них отклонения, был какой-то успокоительный и почти философский смысл, было какое-то напоминание о повторности всего происходящего. Пьер иногда думал об этом во время работы.
Но вообще он думал сравнительно редко. Ему казалось, что это происходит оттого, что знает мало вещей, которые заслуживали бы пристального и углубленного внимания. Политика его не интересовала, в книгах, которые он читал, он неизменно находил раздражавшую его искусственность построения, театра он не понимал. Где-то далеко от того мира, в котором он проводил свою жизнь, был другой мир, тот Париж, о котором он невнимательно читал в газетах, – премьеры, балетные красавицы, кинематографические артисты, знаменитые писатели, художники, скаковые поля, лошади, жокеи, министры, обеды на Кэ д’Орсэ. Все это было неважно и неинтересно. Важно и значительно было то, как запомнились ему эти майские сумерки, когда он вернулся как-то домой, и это незабываемое выражение печали на лице его матери, низко склоненная ее голова и пыльная тряпка в ее руке.
Поезд опять остановился и снова двинулся. Глухо зашумела роща, пролетевшая перед мокрым стеклом вагонного окна, потом опять мелькнула мутная зелень полей, и затем все шли перед глазами неровные желтые стены какого-то обрыва, с темными пятнами кустов, росших на скользком откосе.
Пьер смотрел в окно, но то, что возникло перед его глазами, было не похоже на эту глиняную стену. Он отчетливо вспомнил другие, осенние пейзажи, сначала Нормандию, куда его повезли, когда он был мобилизован в начале войны и где формировалась его часть, потом бельгийскую границу, бесконечные окопы, которые рыл саперный батальон, где он служил, письма от матери – дорогой мой Пьеро, у меня все по-прежнему… я все думаю о тебе… бедная Франция… мне кажется, что ты, мой дорогой мальчик, меньше всего заслужил то, что происходит сейчас… мой дорогой Пьеро, отправляю тебе посылку… помни, что я всегда думаю о тебе… я знаю, что я вправе гордиться таким сыном… Дорогой мой Пьеро… в моей жизни было мало счастья, но тем, которое было, я обязана тебе… если есть на земле справедливость, то Господь сохранит тебя…
Стояли жестокие зимние холода. Пьер спал, зарывшись в солому, проваливаясь в ледяную тьму и просыпаясь ранним морозным утром. Потом стало теплее, затем немцы начали наступление, говорили, что они давно обошли французскую армию, что все кончено и непонятно почему оцепеневший саперный батальон Пьера остался на месте, ожидая неизвестно чего. Потом, в сумерках, лейтенант Робино сказал Пьеру:
– Форэ, нас предали, нас ждет плен и бесчестие. Я ухожу. Хотите идти со мной?
– Плен? – сказал Пьер, не понимая. – Плен? Бесчестие?
Где-то далеко был Париж, площадь Данфэр-Рошеро, Мартина Форэ – его мать… дорогой мой Пьеро…
– Я с вами, господин лейтенант, – сказал Пьер. Они шли больше двух недель, и когда они подходили к Парижу, их уже никто не мог бы принять за военных. Робино был в потертом пиджаке, синей рубашке и бархатных штанах; на Пьере была рабочая куртка и слишком короткие полосатые брюки – они достали эту одежду у мэра небольшой деревни, морщинистого старика со свирепыми глазами, который накормил их, – они не ели до этого двое суток, – уложил их спать и утром пожелал им счастливой дороги, протянув руку с черными крестьянскими ногтями. Париж давно был занят германскими войсками, но никто не задержал ни Пьера, ни Робино.
В квартире, возле площади Данфэр-Рошеро, все было чисто и аккуратно прибрано, как всегда, и кровать Пьера была постелена так, как если бы ничего не случилось и он никогда не отлучался из дома. Город был на три четверти пуст, делать было совершенно нечего, и Пьер от скуки стал читать книги, которые нашел в библиотеке отца, бесконечно длинную историю культуры и труды о каменном веке. Потом люди начали постепенно возвращаться в Париж, а когда Пьер в десятый раз отправился посмотреть не открывается ли предприятие, в котором он работал помощником бухгалтера, он вдруг увидел отворенные ставни, вошел и встретил хозяина, который пожал ему руку и отрывисто сказал:
– Жизнь продолжается, Форэ, несмотря ни на что. Мы возобновляем нашу работу.
Сначала они были вдвоем – хозяин и он. Потом стали появляться другие, и к концу года почти все были на своих местах, кроме кассира, попавшего в плен, и двух других служащих, исчезнувших неизвестно как и куда. Пьер сразу же был назначен старшим бухгалтером. Стояла суровая зима, на службе топили плохо, не хватало угля, зато дома была необыкновенная теплынь. Мать Пьера, как оказалось, запаслась топливом надолго.
- Анна Ярославна – королева Франции
- Спутники
- Письма русского путешественника
- Среди мифов и рифов
- Мать
- Аэлита. Гиперболоид инженера Гарина
- Что делать?
- Деньги для Марии. Последний срок. Рассказы (сборник)
- Баня. Клоп (сборник)
- Туманность Андромеды. Звездные корабли (сборник)
- Страна негодяев (сборник)
- Кому на Руси жить хорошо (сборник)
- Стихи и песни
- Ловец человеков (сборник)
- Записки из подполья (сборник)
- Не стреляйте в белых лебедей (сборник)
- А зори здесь тихие… (сборник)
- Петербургские повести (сборник)
- Недоросль (сборник)
- Гоголь в жизни
- «По мостовой моей души изъезженной…»
- Хождение по мукам
- Дневник Сатаны (сборник)
- Старуха Изергиль, Макар Чудра и другие… (сборник)
- Немногие для вечности живут… (сборник)
- Живи и помни (сборник)
- Морские рассказы (сборник)
- Белый пароход (сборник)
- Мертвым не больно
- Где-то гремит война
- Стихотворения
- По Уссурийскому краю. Дерсу Узала
- Светлая личность
- Прощай, Гульсары!
- Былое и думы. Детская и университет. Тюрьма и ссылка
- Человек-амфибия. Голова профессора Доуэля
- Луч света в темном царстве
- Без дороги. В тупике
- Кащеева цепь
- Средь шумного бала…
- Призрак Александра Вольфа. Возвращение Будды
- Когда падают горы
- Красная звезда. Инженер Мэнни
- Наши за границей
- Суходол
- Доктор Вера. Анюта
- Огненный ангел
- Пробуждение. Эвелина и ее друзья
- Семейное счастье