
000
ОтложитьЧитал
Главный редактор: Татьяна Соловьёва
Издатель: Павел Подкосов
Руководитель проекта: Ирина Серёгина
Художественное оформление и макет: Юрий Буга
Ассистент редакции: Мария Короченская
Корректоры: Ольга Петрова, Светлана Чупахина
Верстка: Андрей Фоминов
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© А. Найман (наследники), 2024
© Художественное оформление и макет. ООО «Альпина нон-фикшн», 2024
* * *
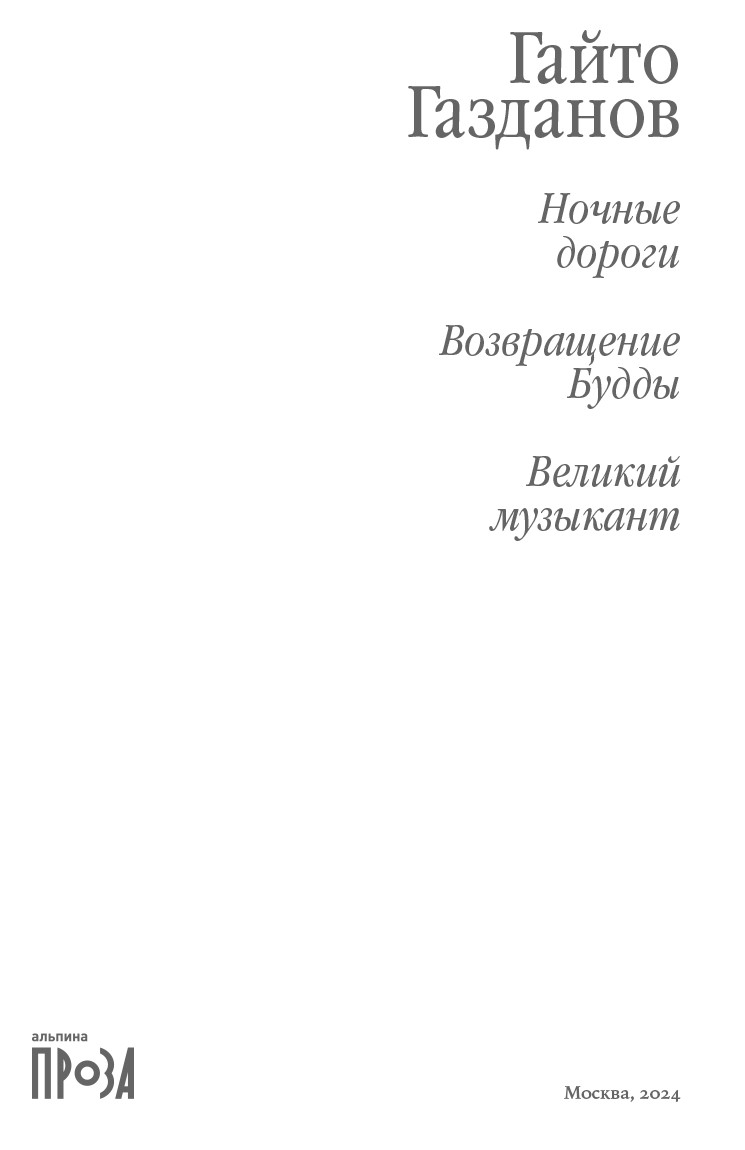
Предисловие
Гайто Газданов – осетинское имя. К началу ХХ столетия в России сложился весомый слой интеллектуально и творчески заметных фигур с кавказскими корнями. Поколениями эти семьи усваивали русскую культуру самой высокой пробы, достигали сродства с ней, чувства органической принадлежности ей, наконец, одаряли ее своим талантом и характером. Если и было когда-нибудь время, когда ни среда не ощущала инородца чужим, ни он себя чужим ей, то это период – по нарастающей – от Петра до революции 1917 года. Газданов родился в Петербурге, жил у Пяти Углов, читал книги, входившие в канон интеллигентного русского мальчика, учился в кадетском корпусе, в гимназии. Так что выглядит совершенно естественным, что в 16 лет он ушел в Добровольческую армию. «Я поступал в белую армию потому, что находился на ее территории, потому, что так было принято». Как говорит один из его героев – «за белых, так как они побеждаемые».
Дальше крымский разгром, бегство в Турцию, лагерь в Галлиполи, Константинополь, Болгария, Париж. Рядовая судьба русского человека, потерпевшего поражение. (Победителям, впрочем, выпала, как оказалось, участь еще горшая.) Портовый грузчик, мойщик паровозов, рабочий на автозаводе, ночной таксист. И – студент Сорбонны. И – первые литературные опыты.
В 1929 году у него выходит роман, сразу сделавший ему имя, – «Вечер у Клэр». Это замечательное произведение. Написанное молодым, без оглядки на расстановку литературных сил, полнокровное, наглядно талантливое. Этот парижский вечер у прелестной, красивой, необычной, загадочной молодой женщины, в которую герой был влюблен гимназистом еще в России, – вместе с описанием горстки встреч и разговоров, словно бы подготовительных, – занимает в насыщенной 120-страничной книге семь страниц. Все происходящее укладывается в несколько часов, бóльшую часть которых возлюбленная проводит спящей. Но это техническое время появляется перед нами, читающими, наполненным предшествующей жизнью героя во всей ее полноте. Как шпиль – или, если угодно, как крест, – венчающий здание стометрового храма, едва заметный с земли.
Все, что вместили два с половиной десятилетия от рождения до этого вечера, свелось к коротким часам и так же, как они, превратилось в сбывшуюся мечту и прошло. Однажды мальчиком герой, «убежав из дому и гуляя по бурому полю, заметил в далеком овраге нерастаявший слой снега, который блестел на весеннем солнце. Этот белый и нежный свет возник передо мной внезапно и показался мне таким невозможным и прекрасным, что я готов был заплакать от волнения. Я пошел к этому месту и достиг его через несколько минут. Рыхлый и грязный снег лежал на черной земле; но он слабо блестел сине-зеленым светом, как мыльный пузырь, и был вовсе не похож на тот сверкающий снег, который я видел издали. Я долго вспоминал наивное и грустное чувство, которое я испытал тогда, и этот сугроб. И уже несколько лет спустя, когда я читал одну трогательную книгу без заглавных листов, я представил себе весеннее поле и далекий снег и то, что стоит только сделать несколько шагов, и увидишь грязные, тающие остатки. И больше ничего? – спрашивал я себя. И жизнь мне показалась такой же: вот я проживу на свете столько-то лет и дойду до моей последней минуты и буду умирать. Как? И больше ничего?» Этот потемневший исчезающий пласт снега, это убийственное разочарование невпрямую трансформируется в другой образ: «Лежа на ее кровати, в ее постели в Париже, в светло-синих облаках ее комнаты, которые я до этого вечера счел бы несбыточными и несуществующими – и которые окружали белое тело Клэр, покрытое в трех местах такими постыдными и мучительно соблазнительными волосами, – я жалел о том, что уже не могу больше мечтать о Клэр, как я мечтал всегда».
Все, что написал Газданов, – об этом. О том, что ради этого вечера, ради этой несбыточной Клэр надо лишиться дома и родины, пройти через кровь и грязь войны, кровь и грязь парижского дна, стрелять и видеть вокруг себя застреленных, бедствовать, жить через силу, не давая себе забыть ее, чтобы, найдя, тотчас потерять, как все осуществившееся и невозобновимое.
Он принадлежал к поколению моих родителей (1903–1971), и к тому же кругу начитанных независимых людей, что они. До последнего времени я думал об этом поколении и этом круге со всем, на какое способен, состраданием, с печалью и горечью. Лишенное будущего, униженное, истребляемое, едва сводящее концы с концами, обреченное на издевательское порицание все более вульгарных потомков – в России. И с самого начала записанное в граждан второго сорта, в этническое гетто, старающееся имитировать коренных жителей, опускающееся, выкарабкивающееся – в эмиграции. Но чем теснее обступало меня племя новое, освободившееся от угнетения советского режима на родине, выезжающее за границу по своей воле, «для нормальной жизни», для карьеры, заработка и развлечений, тем существеннее менялось освещение судьбы «отцов», тех, кого я так жалел. Так ли сяк ли, с меньшей или большей изменой себе, они жили, ориентируясь на чувство собственного достоинства, а не выгоды. Не прославляя, как сказал поэт, «ни хищи, ни поденщины, ни лжи».
Когда же я стал перечитывать Газданова, роман за романом, от «Клэр» до «Эвелины», от 1929 до 1969 года, я укрепился в убеждении, что и те, кто попал в изгнание, предпочитали, насколько это было в их силах, руководствоваться понятиями русской чести и благородства. Образ ночного таксиста в Париже сделался – не без участия советской и буржуазной пропаганды – символом краха личности и стереотипом социального падения русского эмигранта. Подруга моих детей, отпрыск титулованной и одновременно священнической семьи, в революцию бежавшей из России, рассказывала, как после перестройки их беспрерывно просили об интервью и приглашали на всевозможные объединительные собрания. С очаровательным французским акцентом и милыми грамматическими неправильностями она говорила: «Они всегда начинали: "Вы – графы́, вы – графы́…" Мне хотелось сказать: а где вы были, когда мы водили такси?»
Герой Газданова, его автобиографический двойник, тоже водитель ночного такси, делает несколько признаний: «Бескорыстному моему любопытству ко всему, что окружало меня и что мне с дикарской настойчивостью хотелось понять до конца, мешал, помимо всего остального, недостаток свободного времени, происходивший, в свою очередь, оттого, что я всегда жил в глубокой нищете и заботы о пропитании поглощали все мое внимание…
В отношении клиентов к шоферу всегда отсутствовали сдерживающие причины – не все ли равно, что подумает обо мне человек, которого я больше никогда не увижу и который никому из моих знакомых не может об этом рассказать?..
Об этих годах моей жизни у меня осталось впечатление, что я провел их в огромном и апокалипсически смрадном лабиринте. Но, как это ни странно, я не прошел сквозь все это без того, чтобы не связать – случайно и косвенно – свое существование с другими существованиями, как я прошел через фабрики, контору и университет…»
Не торопитесь сочувствовать этому призраку за рулем, ни тем более смотреть на него сверху вниз. Это не вы распоряжаетесь им, называя адрес и по прибытии немножко прибавляя к сумме, выбитой счетчиком. Это он, проницательный, изучивший разные стороны человеческой натуры, много больше вас образованный человек с пронзительным взглядом, видит подноготную – не только конкретно вашу, но и жизни в целом. «Было невозможно предположить, что все это только случайности. Только отступления от каких-то правил. И мне казалось, что та жизнь, которую вели мои ночные клиенты, не имела ни в чем никаких оправданий. На языке людей, живших этим, все это называлось работой. Но во Франции все называется работой: педерастия, сводничество, гадание, похороны, собирание окурков. Труды Пастеровского института, лекции в Сорбонне, концерты и литература, музыка и торговля молочными продуктами…» А у вас – у всех нас – что у нас за душой, чтобы противопоставить этому? Не торопитесь жалеть его: это Гайто Газданов, редкостный русский писатель.
И по поводу его судьбы, писателя, не получившего должного признания и славы, не сокрушайтесь. Не повторяйте тривиальных заклинаний о русском литераторе, задыхающемся в тесноте эмигрантской публики. Да, действительно, на то, что тогда писалось по-русски в Европе, откликались одни и те же: Ходасевич, Вейдле, Адамович, еще два-три критика с именем. А сколько нужно? Несколько дюжин серафимовичей и безыменских, как это было в советской России? В наше время, мерящее творчество человека исключительно успехом, а успех тиражами и частотой вызова на телевизор, неловко говорить о том, чтó в самом деле может принести ему удовлетворение и чтó не может никогда. Отзывы Ходасевича, Вейдле, Адамовича означали ауканье, перекличку ровни – независимо от того, содержалась в них похвала или упрек.
Вы скажете: Набоков добился большего, не так ли? Это как на чей вкус. Он добился большего в демонстрации своего превосходства над читателем. В демонстрации того, как он, писатель, распоряжается персонажами, как они покорны ему. В демонстрации читателю своего ума и таланта. В социальном статусе: он был университетский профессор, а не таксер. Он не забывал держать читательскую аудиторию на дистанции. В произведениях, не озабоченных этой стороной сочинительства, таких как «Дар» или «Другие берега», то есть в лучших своих вещах, он пребывает в том же ограниченном пространстве читательского меньшинства, что и Газданов. В массовом сознании Набоков – автор «Лолиты». В массовом сознании это – бесспорное достижение: экранизация, Голливуд, миллионные гонорары. Трудно сказать, выигрыш ли это Набокова и хотелось ли Газданову такой судьбы.
Ибо что такое превосходство одного человека над другим, умственное, эмоциональное, нравственное, социальное, и какой ценой оно дается, Газданов знал, как мало кто другой. Герою романа «Полет» всё, начиная от высокой интеллектуальности и физической крепости, кончая удачей и богатством, дается без усилий, как само собой разумеющееся. Он щедр, не отказывает просящим, хоть ему и видимы схемы применяемых ими обманов, предан жене, верен тем, кого любит. Пленительное остроумие, мужество, точные, всегда ироничные оценки людей, снисходительность к их слабостям, жизненная философия и позиция делают его неуязвимым для любой критики. Он должен вызывать восхищение, если бы не эта неуязвимость. Постепенно все, что составляет сердцевину его жизни, его тыл, то, чему его превосходство над другими дает вид незыблемости, превращается в груду руин.
Чем дальше, тем более европейцем становился этот писатель. Тем самым типом русского европейца, который формировался еще в Карамзине, которого искали современные Газданову евразийцы и о котором не прекращаются споры доныне. Какие национальные качества прибавляют к сложившемуся за тысячелетия образу русские, становясь подлинно гражданами этого древнего континента, чем обогащают этот образ? В последнем романе, «Эвелина и ее друзья», за непосредственным содержанием, поставленными нравственными вопросами и тонкими психологическими разработками, встает явление, по-видимому свойственное Европе первой половины прошлого столетия. Это верность мужской дружбе – начинающейся с ранней молодости, с осознания себя единой компанией, группой. На память приходят, прежде всего, «Три товарища» Ремарка: не ситуационным сходством – которого нет, как, впрочем, и никакого другого, ни подобия реакций, ни мотиваций, – а натянутой струной, звенящей в обоих произведениях в резонанс.
Русские привносят в эту дружбу достоевский излом, «самоедство», душевные, кажущиеся несовместимыми, противоречия, поэзию и кулацкую скаредность – да. Но и уже упомянутые офицерскую честь, дворянскую совестливость, разночинную самоотверженность, безоглядность поступков, готовность принимать удары судьбы так же, как ее дары, личную надежность. Словом, то, что в Средние века составляло на территории Европы кодекс трубадурской доблести. Венцом ее была Юность, Jóvenes. Почему и преданы с такой неизменностью герои Газданова юношеским идеалам. Почему, мужая, отравляясь ядом взрослости, ранясь о пружины человеческой безжалостности и низости, они остаются юны. Прибавим к этому томительно влекущую законсервированность вывезенной с собой культуры, как шкатулку с фамильными драгоценностями: серебряной чеканки, Cеребряного века.
Девять романов, около сорока рассказов. Красивое лицо на фотографии: мужчины, рыцаря, поэта, – расположенное ко всем, на кого смотрит. «Ненасытное стремление непременно узнать и попытаться понять многие чужие жизни… Оно всегда было бесплодно, так как у меня не было времени, чтобы посвятить себя этому. Но сожаление, которое я испытывал от сознания этой невозможности, проходит через всю мою жизнь».
Анатолий Найман
Ночные дороги
Посвящается моей жене
Несколько дней тому назад во время работы, глубокой ночью, на совершенно безлюдной в эти часы площади Св. Августина я увидел маленькую тележку типа тех, в которых обычно ездят инвалиды. Это была трехколесная тележка, устроенная как передвижное кресло; впереди торчало нечто вроде руля, который нужно было раскачивать, чтобы привести в движение цепь, соединенную с задними колесами. Тележка с удивительной медленностью, как во сне, обогнула круг светящихся многоугольников и стала подниматься по бульвару Осман. Я приблизился, чтобы лучше ее рассмотреть; в ней сидела закутанная, необыкновенно маленькая старушка; видно было только ссохшееся, темное лицо, уже почти нечеловеческое, и худенькая рука такого же цвета, с трудом двигавшая руль. Я видел уже неоднократно людей, похожих на нее, но всегда днем. Куда могла ехать ночью эта старушка, почему она оказалась здесь, какая могла быть причина этого ночного переезда, кто и где мог ее ждать?
Я смотрел ей вслед, почти задыхаясь от сожаления, сознания совершенной непоправимости и острого любопытства, похожего на физическое ощущение жажды. Я, конечно, не узнал о ней решительно ничего. Но вид этого удаляющегося инвалидного кресла и медленный его скрип, отчетливо слышный в неподвижном и холодном воздухе этой ночи, вдруг пробудил во мне то ненасытное стремление непременно узнать и попытаться понять многие чужие мне жизни, которое в последние годы почти не оставляло меня. Оно всегда было бесплодно, так как у меня не было времени, чтобы посвятить себя этому. Но сожаление, которое я испытывал от сознания этой невозможности, проходит через всю мою жизнь. Позже, когда я думал об этом, мне начинало казаться, что это любопытство было, в сущности, непонятным влечением, потому что оно упиралось в почти непреодолимые препятствия, происходившие в одинаковой степени от материальных условий и от природных недостатков моего ума и еще оттого, что всякому сколько-нибудь отвлеченному постижению мне мешало чувственное и бурное ощущение собственного существования. Кроме того, я упорно не мог понять страстей или увлечений, которые мне лично были чужды; мне, например, приходилось каждый раз делать над собой большое усилие, чтобы не считать всякого человека, с беззащитной и слепой страстью проигрывающего или пропивающего все свои деньги, просто глупцом, не заслуживающим ни сочувствия, ни сожаления, – потому что, в силу случайности, я не выносил алкоголя и смертельно скучал за картами. Так же я не понимал донжуанов, переходящих всю жизнь из одних объятий в другие, – но это по другой причине, которой я долго не подозревал, пока у меня не хватило мужества продумать это до конца, и тогда я убедился, что это была зависть, тем более удивительная, что во всем остальном я был совершенно лишен этого чувства. Возможно, что и в других случаях, если бы произошло какое-то неуловимое изменение, оказалось бы, что те страсти, которых я не понимал, тоже стали бы мне доступны, и я также подвергся бы их разрушительному действию, и на меня с таким же сожалением смотрели бы другие, чуждые этим страстям люди. И то, что я их не испытывал, было, быть может, всего лишь проявлением инстинкта самосохранения, более сильного во мне, по-видимому, чем в тех моих знакомых, которые проигрывали свои жалкие заработки на скачках или пропивали их в бесчисленных кафе.
Но бескорыстному моему любопытству ко всему, что окружало меня и что мне с дикарской настойчивостью хотелось понять до конца, мешал, помимо всего остального, недостаток свободного времени, происходивший, в свою очередь, оттого, что я всегда жил в глубокой нищете и заботы о пропитании поглощали все мое внимание. Однако это же обстоятельство дало мне относительное богатство поверхностных впечатлений, какого у меня не было бы, если бы моя жизнь протекала в иных условиях. У меня не было предвзятого отношения к тому, что я видел, я старался избегать обобщений и выводов, но, помимо моего желания, вышло так, что два чувства овладевают мною сильнее всего, когда я думаю об этом, – презрение и жалость. Сейчас, вспоминая этот печальный опыт, я полагаю, что я, может быть, ошибался и эти чувства были напрасны. Но их существование в течение долгих лет не могло быть ничем преодолено, и оно теперь так же непоправимо, как непоправима смерть, и я не мог бы от них отказаться; это было бы такой же душевной трусостью, как если бы я отказался от сознания того, что глубоко во мне жила несомненная и непонятная жажда убийства, полное презрение к чужой собственности и готовность к измене и разврату. И привычка оперировать воображаемыми, никогда не происходившими – по-видимому, в силу множества случайностей – вещами сделала для меня эти возможности более реальными, чем если бы они происходили в действительности; и все они обладали особенной соблазнительностью, несвойственной другим вещам. Нередко, возвращаясь домой после ночной работы по мертвым парижским улицам, я подробно представлял себе убийство, все, что ему предшествовало, все разговоры, оттенки интонаций, выражение глаз – и действующими лицами этих воображаемых диалогов могли оказаться мои случайные знакомые, или почему-либо запомнившиеся прохожие, или, наконец, я сам в качестве убийцы. В конце таких размышлений я приходил обычно к одному и тому же полуощущению-полувыводу, это была смесь досады и сожаления по поводу того, что на мою долю выпал такой неутешительный и ненужный опыт и что в силу нелепой случайности мне пришлось стать шофером такси. Все или почти все, что было прекрасного в мире, стало для меня точно наглухо закрыто – и я остался один, с упорным желанием не быть все же захлестнутым той бесконечной и безотрадной человеческой мерзостью, в ежедневном соприкосновении с которой состояла моя работа. Она была почти сплошной, в ней редко было место чему-нибудь положительному, и никакая гражданская война не могла сравниться по своей отвратительности и отсутствию чего-нибудь хорошего с этим мирным, в конце концов, существованием. Конечно, это объяснялось еще и тем, что население ночного Парижа резко отличалось от дневного и состояло из нескольких категорий людей, по своей природе и профессии чаще всего уже заранее обреченных. Но, кроме того, в отношении этих людей к шоферу всегда отсутствовали сдерживающие причины – не все ли равно, что подумает обо мне человек, которого я больше никогда не увижу и который никому из моих знакомых не может об этом рассказать? Таким образом, я видел моих случайных клиентов такими, какими они были в действительности, а не такими, какими они хотели казаться, – и это соприкосновение с ними, почти всякий раз, показывало их с дурной стороны. При самом беспристрастном отношении ко всем, я не мог не заметить, что разница между ними была всегда невелика, и в этом оскорбительном уравнении женщина в бальном туалете, живущая на avenue Henri Martin, немногим отличалась от ее менее удачливой сестры, ходившей по тротуару, как часовой, от одного угла до другого; и люди почтенного вида на Passy и Auteuil так же униженно торговались с шофером, как выпивший рабочий с rue de Belleville; и доверять никому из них было нельзя, я в этом неоднократно убеждался.
Я помню, как в начале шоферской работы я остановился однажды у тротуара, привлеченный стонами довольно приличной дамы лет тридцати пяти с распухшим лицом, она стояла, прислонившись к тротуарной тумбе, стонала и делала мне знаки; когда я подъехал, она попросила меня прерывающимся голосом отвезти ее в госпиталь; у нее была сломана нога. Я поднял ее и уложил в автомобиль; но когда мы приехали, она отказалась мне платить и заявила вышедшему человеку в белом халате, что я своим автомобилем сбил ее и что, падая, она сломала ногу. И я не только не получил денег, но еще и рисковал быть обвиненным в том, что называется невольным убийством. К счастью, человек в белом халате отнесся к ее словам скептически, и я поспешил уехать. И впоследствии, когда мне делали знаки люди, стоящие над чьим-нибудь распростертым на тротуаре телом, я только сильнее нажимал на акселератор и проезжал, никогда не останавливаясь. Человек в прекрасном костюме, вышедший из гостиницы Клэридж, которого я отвез на Лионский вокзал, дал мне сто франков, у меня не было сдачи; он сказал, что разменяет их внутри, ушел, – и больше не вернулся; это был почтенный седой человек с хорошей сигарой, напоминавший по виду директора банка, и очень возможно, что действительно директор банка.
Однажды, после очередной клиентки, в два часа ночи, я осветил автомобиль и увидел, что на сиденье лежит женская гребенка с вправленными в нее бриллиантами, по всей вероятности фальшивыми, но вид у нее был, во всяком случае, роскошный; мне было лень слезать, я решил, что возьму эту гребенку позже. В это время меня остановила дама – это было на одной из авеню возле Champs de Mars – в собольей sortie de bal[1]; она поехала на авеню Foch; после ее ухода я вспомнил о гребенке и посмотрел через плечо. Гребенки не было, дама в sortie de bal украла ее так же, как это сделала бы горничная или проститутка.
Я думал об этом и о многих других вещах почти всегда в одни и те же утренние часы. Зимой было еще темно, летом светло в это время, и никого уже не было на улицах; очень редко встречались рабочие – безмолвные фигуры, которые проходили и исчезали. Я почти не смотрел на них, так как знал наизусть их внешний облик, как знал кварталы, где они живут, и другие, где они никогда не бывают. Париж разделен на несколько неподвижных зон; я помню, что один из старых рабочих – я был вместе с ним на бумажной фабрике возле бульвара de la Gare – сказал мне, что за сорок лет пребывания в Париже он не был на Елисейских Полях, потому что, объяснил он, он там никогда не работал. В этом городе еще была жива – в бедных кварталах – далекая психология, чуть ли не четырнадцатого столетия, рядом с современностью, не смешиваясь и почти не сталкиваясь с ней. И я думал иногда, разъезжая и попадая в такие места, о существовании которых я не подозревал, что там до сих пор происходит медленное умирание Средневековья. Но мне редко удавалось сосредоточиться на одной мысли в течение более или менее продолжительного времени, и после очередного поворота руля узкая улица исчезала и начиналось широкое авеню, застроенное домами со стеклянными дверьми и лифтами. Эта беглость впечатлений нередко утомляла внимание, и я предпочитал закрывать глаза и не думать ни о чем. Никакое впечатление, никакое очарование не могло быть длительным при этой работе – и только потом я старался вспомнить и разобрать то, что мне удалось увидеть за очередную ночную поездку из подробностей того необыкновенного мира, который характерен для ночного Парижа. Всегда, каждую ночь, я встречал нескольких сумасшедших; это были чаще всего люди, находящиеся на пороге сумасшедшего дома или больницы, алкоголики и бродяги. В Париже много тысяч таких людей. Я заранее знал, что на такой-то улице будет проходить такой-то сумасшедший, а в другом квартале будет другой. Узнать о них что-либо было чрезвычайно трудно, так как то, что они говорили, бывало обычно совершенно бессвязно. Иногда, впрочем, это удавалось.
Я помню, что одно время меня особенно интересовал маленький невзрачный человек с усиками, довольно чисто одетый, похожий по виду на рабочего и которого я видел примерно каждую неделю или каждые две недели, около двух часов ночи, всегда в одном и том же месте на avenue de Versailles, на углу, напротив моста Гренель. Он обычно стоял на мостовой, возле тротуара, грозил кому-то кулаками и бормотал едва слышно ругательства. Я мог только разобрать, как он шептал: сволочь!.. сволочь!.. Я знал его много лет – всегда в одни и те же часы, всегда на одном и том же месте. Я заговорил наконец с ним, и после долгих расспросов мне удалось выяснить его историю. Он был по профессии плотник, жил где-то возле Версаля, в двенадцати километрах от Парижа, и мог приезжать сюда поэтому только раз в неделю, в субботу. Шесть лет тому назад он вечером повздорил с хозяином кафе, которое находилось напротив, и хозяин ударил его по физиономии. Он ушел и с тех пор затаил против него смертельную ненависть. Каждую субботу он приезжал вечером в Париж, и так как он очень боялся этого ударившего его человека, то ждал, пока закроется его кафе, пил, набираясь храбрости, в соседних бистро один стакан за другим, и, когда наконец его враг закрывал свое заведение, тогда он приходил к этому месту, грозил незримому хозяину кулаком и шепотом бормотал ругательства; но он был так напуган, что никогда не осмеливался говорить полным голосом. Всю неделю, работая в Версале, он с нетерпением ждал субботы, потом одевался по-праздничному и ехал в Париж, чтобы ночью, на пустынной улице, произносить свои едва слышные оскорбления и грозить в направлении кафе. Он оставался на авеню Версаль до рассвета – и потом уходил по направлению к порт Сен-Клу, время от времени останавливаясь, оборачиваясь и помахивая маленьким сухим кулаком. Я зашел потом в кафе, которое держал его обидчик, застал там пышную рыжую женщину за прилавком, которая пожаловалась на дела, как всегда. Я спросил ее, давно ли она держит это кафе, оказалось, что три года, она переехала сюда после смерти его прежнего владельца, который умер от апоплексического удара.
Около четырех часов утра я обычно ехал выпить стакан молока в большое кафе против одного из вокзалов, где знал всех решительно, начиная с хозяйки, старой дамы, с трудом жевавшей сандвич вставными зубами, до маленькой пожилой женщины в черном, которая не расставалась с большой клеенчатой сумкой для провизии, она постоянно таскала ее за собой; ей было лет пятьдесят. Она обычно тихо сидела в углу, и я недоумевал, что она здесь делает в эти часы: она была всегда одна. Я спросил об этом у хозяйки: хозяйка ответила, что эта женщина работает, как другие. В первое время такие вещи удивляли меня, но потом я узнал, что даже очень пожилые и неряшливые женщины имеют свою клиентуру и нередко зарабатывают не хуже других. В эти же часы появлялась смертельно пьяная худая старуха с беззубым ртом, которая входила в кафе и кричала: «Ни черта!» И потом, когда нужно было платить за стакан белого вина, которое она пила, она неизменно удивлялась и говорила гарсону: «Нет, ты перегибаешь». У меня создалось впечатление, что других слов она вообще не знала, во всяком случае, она никогда их не произносила. Когда она приближалась к кафе, кто-нибудь, оборачиваясь, говорил: «Вот идет Ничерта». Но однажды я застал ее в разговоре с каким-то мертвецки пьяным оборванцем, который крепко держался двумя руками за стойку и покачивался. Она говорила ему – такими неожиданными в ее устах словами: «Я тебе клянусь, Роже, что это правда. Я тебя любила. Но когда ты в таком состоянии…» И потом, прервав этот монолог, она снова закричала: ни черта! Затем она исчезла в один прекрасный день, в последний раз прокричав: ни черта! – и больше никогда не появлялась; несколько месяцев спустя, заинтересовавшись ее отсутствием, я узнал, что она умерла.
Раза два в неделю в это кафе являлся человек в берете, с трубкой, которого называли m-r Мартини, потому что он всегда заказывал мартини, это происходило обычно в одиннадцатом часу вечера. Но в два часа ночи он был уже совершенно пьян, поил всех, кто хотел, и в три часа, истратив деньги, обычно около двухсот франков, он начинал просить хозяйку отпустить ему еще один мартини в кредит. Тогда его обычно выводили из кафе. Он возвращался, его снова выводили, и потом гарсоны просто не пускали его. Он возмущался, пожимал покатыми плечами и говорил:
– Я нахожу, что это смешно. Смешно. Смешно. Все, что я могу сказать.
Он был преподавателем греческого, латинского, немецкого, испанского и английского языков, жил за городом, у него была жена и шесть душ детей. В два часа ночи он излагал философские теории своим слушателям, обычно сутенерам или бродягам, и ожесточенно с ними спорил; они смеялись над ним, помню, что они особенно хохотали, когда он наизусть читал им шиллеровскую «Перчатку» по-немецки, их забавляло, конечно, не содержание, о котором они не могли догадаться, а то, как смешно звучит немецкий язык. Я несколько раз отводил его в сторону и предлагал ему ехать домой, но он неизменно отказывался, и все мои доводы не оказывали на него никакого действия; он был, в сущности, доволен собой и, к моему удивлению, очень горд, что у него шесть человек детей. Однажды, когда он был еще наполовину трезв, у меня был с ним разговор; он упрекал меня в буржуазной морали, и я, рассердившись, закричал ему:
