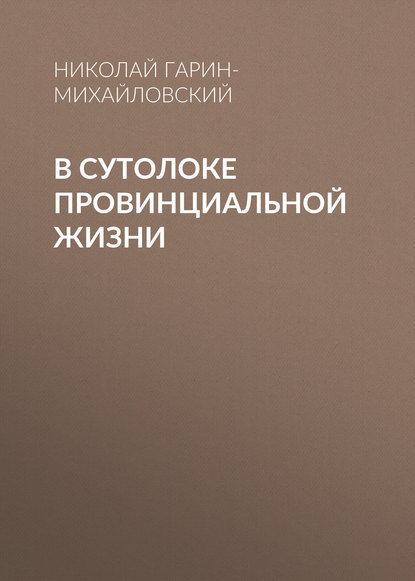I
Мои записки о деревне, напечатанные под заглавием «Несколько лет в деревне», относятся к периоду до 1886 года.
После трех описанных мною пожаров, я потерял большую часть своего оборотного капитала и, не желая вести дело на занятой, решил снова заняться своим инженерным делом, а имение поручить управляющему – некоему Петру Ивановичу Иванову.
Выбор Петра Ивановича был сделан мною не вполне самостоятельно: рекомендовал мне его Чеботаев, как человека стойкого и умеющего подобрать распущенные мною вожжи.
То, что все случившееся со мной произошло на этой именно почве, – в этом не сомневался никто.
– Мне кажется, что с вами случилось, – утешал меня тогда Чеботаев, – нечто в таком роде. Позвали вы человека и сказали ему: «Вот тебе рубль». – «За что?» – «Так, ни за что». – «Спасибо». И на другой день позвали и дали, и на третий, и на четвертый, и так далее, приучив себя давать, а их брать. И в один прекрасный день, когда вместо рубля вы дали им полтинник, они обиделись и стали жечь вас. Петр Иванович звезд с неба хватать не будет, но он человек деловой, практичный, стойкий и, главное, честный.
И вот Петр Иванович в один пасмурный декабрьский день приехал ко мне в Князевку.
Он долго пыхтел и шумел, раздеваясь в передней; из кабинета я слышал его властный голос, которым отдавал он прислуге разные приказания относительно своего багажа, необходимости просушить его чапан, валенки, – как именно просушить. Кончив по части распоряжений, он долго сморкался и, наконец, властно приказал:
– Доложи: управляющий Петр Иванович Иванов.
Не дожидая доклада, я сам пошел в переднюю и со словами: «очень рад познакомиться» – протянул новому управляющему руку.
Но не такой был человек Петр Иванович. Его чиновничью субординацию, очевидно, покоробила моя фамильярность, и, отступив, не торопясь жать мою руку, он сухо и строго, в упор, проговорил:
– Честь имею представиться: управляющий Петр Иванович Иванов.
– Очень рад… пожалуйста…
И я указал ему дорогу.
– Нет, уж позвольте, – еще строже ответил Петр Иванович и так твердо указал мне идти первому, что мне оставалось только исполнить.
Дойдя до кабинета, я предложил гостю сесть и уселся сам.
Но и тут Петр Иванович сел не сразу. Он поблагодарил меня за мое предложение сесть таким кивком головы, который как бы говорил: «еще посмотрю я, стоит ли мне садиться: может быть, ты в самом деле такой сумасшедший, что я, не теряя времени, уеду к Чеботаеву, у которого знаешь по крайней мере чего держаться».
Все это я чувствовал, – чувствовал, что в лице Петра Ивановича со стороны всего уклада нашей уездной жизни мне предлагается своего рода ультиматум, после которого в зависимости от того, будет ли он принят мною, или нет, я буду причислен ими к подающим надежды на исправление или безвозвратно погибшим.
Понимал это, очевидно, и хорошо понимал, и Петр Иванович.
Полный, с брюшком и лысиной, с задорной осанкой, гладко выбритыми щеками и большими усами Петр Иванович, не торопясь, с достоинством осматривал мой кабинет, картины, меня.
Он сел, наконец, и сразу приступил к делу.
Чеботаев рассказал ему все. Нужны твердость, выдержка. Он знает имение. Имение, по его мнению, может дать даже в первое время до десяти тысяч дохода в год. Через несколько лет он надеется поднять доходность до пятнадцати тысяч.
Я слушал и уже смотрел на толстого Петра Ивановича, как на неисчерпаемый запас пачек по пятнадцати тысяч каждая, которые он одна за другой каждый год будет мне вручать.
– Я берусь… но… – и Петр Иванович, остановился, – я ставлю… э… условие… Я говорю и буду действовать в ваших интересах, и в ваших интересах я должен все сказать. Всякое ваше приказание я обязан исполнить или уйти, – когда только вы это мне прикажете. Но пока вы считаете меня полезным, вы ограничиваетесь в своих распоряжениях мною… С остальными говорю я, и вся ваша забота – поддержать мой авторитет. Потому что мой авторитет – ваш авторитет.
Я не буду утомлять читателя дальнейшими нашими переговорами с Петром Ивановичем.
Скажу коротко, что к вечеру мы с ним договорились и начали согласно выработанной программе действовать.
Прежде всего решено было исправить ошибку суда, вынесшего оправдательный приговор моим поджигателям: решено было наказать своей властью виновных.
Я их знал всех. Пяти богатеям с их семействами, наиболее виновным, я предложил навсегда покинуть Князевку. На их естественный отказ исполнить такое мое требование я собрал через несколько дней после приезда Петра Ивановича сход.
– Если вы желаете, господа, – сказал я, – иметь со мной дело и вперед, я ставлю условие: эти пять семейств должны покинуть Князевку.
Мне отвечали, что общество здесь бессильно что-нибудь сделать.
Я в свою очередь сказал:
– Вашу силу я знаю: если вы захотите, то сможете. Как хотите, но вот мои условия: пока эти люди не уйдут добровольно, я вам не дам ни земли, ни выгона, ни леса, ни воды.
Я ждал ответа, но его не последовало.
Я смотрел тогда на все с своей точки зрения: я был оскорблен их молчанием, я сделал свой вывод из него, – им дороже их товарищи поджигатели со всем злом, которое несли они с собой, дороже меня, несшего им всю свою душу, все добро, которым располагал.
– Теперь зима, господа, и я вам не нужен, но ведь придет весна… И вам нечего будет пахать, вам некуда будет выгнать для пастьбы скот.
Родивон Керов, приземистый крепыш, молодой и остроумный, попробовал было пошутить:
– Кто там жив еще будет до весны.
Шутка не вышла, голос его тоскливо оборвался, потому что я слушал и смотрел на него не так, как когда-то.
Он смущенно махнул рукой, пробормотал: «Мне что» – и спрятался в толпу.
Послышался чей-то тяжелый вздох.
– Прощайте, господа, – я объявил вам свою волю, и как по лестнице не влезете на небо, так и волю мою не достанете. Петр Иванович, ваш новый управляющий, исполнит мое распоряжение. Убьете его – другой его заменит.
Я помолчал и, угрюмо отчеканивая слова, кончил:
– Выгон, который до сих пор я отдавал вам даром, как только придет весна, будет вспахан.
– Что ж мы будем делать без него? Где скотину будем пасти? – раздался жесткий вызывающий голос Ивана Евдокимова, одного из приговоренных мною.
Он, очевидно, совершенно не верил в возможность его выселения.
– Этот выгон, – настойчиво повторил я, – с первым весенним днем Петр Иванович начнет пахать и будет пахать до тех пор, пока ваши уполномоченные не привезут от меня приказания прекратить пашню. Уполномоченные же ваши получат приказание от меня, когда привезут известие, что Чичков, Евдокимов, Кисин, Анисимов и Сергей оставили навсегда вашу деревню. Прощайте, я уезжаю в город, и до лета вы меня не увидите.
При гробовом молчании я сел в сани и уехал в усадьбу.
Короткий декабрьский день подходил к концу, на белом снеге ярче подчеркивались лиловые тона леса, из ущелий ползли тяжелые тучи, голый лес завывал, и бушевала сильнее вьюга, вырываясь там дальше на простор полей.
Такой заброшенной и сиротливой казалась вся эта Князевка, эти люди, стоявшие предо мной на морозе, гнувшиеся под леденящим дыханием зимы, моих слов…
Вечером Петр Иванович, расхаживая по кабинету, самодовольно потирал руки и говорил с тем достоинством, с каким говорят или хотят говорить с опекаемыми:
– Ну, теперь главное… твердость… авторитет… теперь… э… – он важно складывал колечком губы, пыжился и осматривал внимательно, пытливо меня, – теперь шутки плохие выйдут, если мы опять уступим.
– Не уступим.
– Вы, конечно, в город уедете, а я ведь здесь останусь – убьют.
– Я вам на три года передал уже свои права.
– Без этого, конечно, я и не взялся бы.
Заглянул Родивон Керов, уже сдружившийся с Петром Ивановичем.
– Ну что, Родивон? – весело, возбужденно спрашивал его Петр Иванович, – убьют нас с тобой?
– Но-о…
– Ну, не говори…
– Поплачем да и начнем помаленьку тискать тех-то, недружков твоих. Не пропадать же всем из-за них.
– Недружки они не мои, а ваши, – поправил я.
– Да ведь видишь, – глупы, – их же жалеем.
Утром рано на другой день я уже выезжал в город на всю зиму с неясной утешительной злорадной мыслью: вот, дескать, думали, что буду вам всю жизнь делать добро и нельзя меня довести до зла… так… вот… довели…
II
До приискания места я с семьей поселился в губернском городе той губернии, где было мое имение.
Губернское общество приняло нас с распростертыми объятиями.
Меня журили за панибратство с крестьянами, за попустительство, но журили ласково, любя, и радовались как тому, что Чеботаев мне дал такого управляющего, как Иванов, так и тому, что я опять принимаюсь за службу.
Измерзнувший, исхолодавший душой, сбитый с толку, я рад был ласке, теплу.
– Все, что ни делается – к лучшему, – утешали меня, – вы человек городской, человек инициативы, а Чеботаев другой человек, – человек деревни, устоев.
Чеботаев вдруг как-то выдвинулся всей моей историей, и о нем заговорили.
– Замечательный и именно тем, что ничего в нем нет там нового, неиспробованного, – это сам устой, сама скромность и чистота.
И Чеботаеву противоставляли Проскурина со всей его партией.
Проскурин, богатый помещик, лет тридцати пяти, из улан, был уездным предводителем и центром своей партии. И глава и партия, лихие кавалеристы в отставке, умели и кутить в своем кругу, умели и дружно стоять друг за друга на дворянских земских собраниях. Друг другу они говорили «ты», строго соблюдали между собой свой «лыцарский устав», но в отношении остального общества держали себя, как бог на душу положит.
Сами себя они считали и богатыми, и воспитанными, и, может быть, даже образованными. В действительности же были людьми, в сущности, уже разоренными, кроме Проскурина, – малограмотными, по существу грубыми и в значительной степени неразборчивыми в средствах при достижении цели.
Но в смысле партийной борьбы, умения сажать в чернильницу, они смело могли бы дать любым парламентским деятелям Европы и Америки семьдесят пять очков вперед.
Самый способ, с помощью которого Проскурин выдвинулся в предводители, уже заслуживал внимания.
В уезде с времен Екатерины II проживали мелкопоместные дворяне с майоратными участками в шестьдесят десятин.
Дворяне эти, за ничтожным исключением выбивавшихся «в люди», влачили жизнь худшую даже, чем крестьяне. Землю свою задаром сдавали в аренду, а сами нищенствовали.
И вот однажды, во время выборов, толпы этих нищих во фраках и нитяных перчатках наводнили залы дворянского дома и избрали Проскурина своим уездным предводителем. Из крупноземельных дворян уезда часть не явилась, а протестующие оказались в таком меньшинстве, что ни о каком протесте не могло быть и речи.
Положение Проскурина было обеспечено теперь и в земстве – как благодаря этим же мелкопоместным, так и тому, что друзья Проскурина, как и он сам, владели хотя и заложенными и перезаложенными, но крупными поместьями, а, следовательно, по новому уставу преобразованного земства, были без выбора членами земского собрания.
Таким образом Проскурин с своей партией являлся полным хозяином своего уезда. И действительно: членами управы были выбившиеся в люди из мелкопоместных, председателем был разорившийся старичок из своих, с которым Проскурин обходился фамильярно – то грубо, то пренебрежительно снисходительно.
Но на губернских собраниях роль Проскурина и его партии ослаблялась главным образом нашим с Чеботаевым уездом и соседним с нами.
В обоих этих уездах дворянства было еще много и такого сплоченного, что соседний, например, с нами уезд иначе и не называли как «спасовым согласием».
Душой этого соседнего уезда был живший в губернском городе член губернского земства Николай Иванович Бронищев.
Очень энергичный, дельный, умный, безукоризненно честный, Николай Иванович по натуре своей представлял из себя крупную силу.
Среднего роста, изящный, всегда элегантно одетый всегда доброжелательный и ласковый, с прекрасными манерами, из старинной дворянской семьи Николай Иванович мог бы занять и более высокую роль в губернии. Но он добровольно отказался от всякой другой и стал зато центром, душой своего уезда.
И уезд его, являясь на собрания, представлял из себя, действительно, сплоченную сильную партию, с заранее выработанной программой по всем текущим вопросам.
Такой же, как Николай Иванович, силой становился в своем уезде Чеботаев. Но в то время, как уезд Николая Ивановича был уже дисциплинирован, уезд Чеботаева требовал еще большой работы. Во главе уезда все еще стояла старая партия с старым предводителем дворянства, за которым числилось две большие заслуги: он был предводителем в тот период, когда никто им не желал быть, в период, который называли «пребыванием дворянства в пустыне»; и вторая заслуга та, что старый предводитель все свое состояние прожил на предводительство. Но были и недостатки, – некоторая халатность, кумовство, и, наконец, это был человек уже старый, без энергии, а наступали новые времена, когда роль предводителя могла стать и более ответственной.
Эти новые времена уже чувствовались.
Дворянский банк уже открыл свои действия и своими широкими ссудами прямо-таки спас оставшееся еще дворянство по крайней мере на первое время от такого же поголовного разорения, какому подверглись шестьдесят-семьдесят процентов уже разорившихся дворян. Еще более существенным в смысле влияния на жизнь являлись преобразование земства и предполагавшийся институт земских начальников. Благодаря тому и другому в высшей степени увеличивалось как значение дворянства вообще, так и предводителей в особенности.
Понятно поэтому, с каким нетерпением ожидались выборы на очередном дворянском собрании, долженствовавшем быть как раз в эту зиму.
Особенно волновали общество сенсационные слухи о том, что Проскурин будет баллотироваться в губернские предводители.
И как ни дико это казалось с одной стороны, с другой – и невероятного ничего не было, – все зависело от того, как разделятся голоса нашего уезда: восторжествует Чеботаев, – Проскурин в меньшинстве; останется прежний, – Проскурин проскочит.
Ввиду такого положения дела благожелательный элемент дворянства решил просить старого, очень авторитетного предводителя дворянства с незапятнанным именем остаться еще на трехлетие. Все, конечно, понимали, что предводитель очень уж стар и болезнен, числился бы он предводителем только на бумаге, но это все-таки был бы лучший исход, чем риск получить Проскурина.
Слабой же стороной такого проекта было то, что Проскурин как предводитель уезда, первого по счету, являлся бы в случае смерти заместителем старого предводителя.
Конечно, Проскурин, если бы был корректен, должен был бы немедля собрать экстренное собрание для новых выборов, но в корректность Проскурина плохо верили и думали, что он предпочтет второй выход, предоставленный ему законом, – остаться заместителем до следующего очередного собрания.
Уже за несколько дней до выборов все гостиницы были переполнены съезжавшимися на выборы дворянами.
Они прибывали с каждым поездом, и вереницы ползущих по улицам извозчичьих санок развозили их по городу.
Они ехали, и их позы, выражения, взгляды – все говорило, что мыслью они еще там, в своих деревнях, среди всех дел своих деревенских: сдачи работ, земель, продажи леса, организации разных подготовительных работ для весенних посевов.
Но в гостиницах начиналось уже другое. В темных коридорах бегали озабоченные лакеи, и то и дело растворялись двери номеров, обрисовывались фигуры без сюртука, в подтяжках и раздавался громкий оклик отца командира:
– Человек!
Закорузлые деревенские медведи мало-помалу выползали из своих деревенских шкур: умывались, стриглись, брились и преобразовывались кое-как в городских, правда, с довольно помятыми платьями интеллигентов.
Но в их номерах по-прежнему царил характерный затхлый запах от всех этих дох, полушубков и душегреек, грязного белья, от недоеденной индейки в дорожной корзинке.
Принарядившись, приехавшие занимались обычными визитами: губернскому предводителю, губернатору, вице-губернатору, городским знакомым, друг другу.
Помимо визитов, были и дела – свои частные, большею частью денежные, по части займов. Были и общественные – по поводу предстоящего собрания.
Каждая партия своего уезда собиралась отдельно, каждая в своем месте.
Партия Проскурина собиралась днем в богатых, – украшенных портретами предков в высоких воротниках, – апартаментах Проскурина, а после театра в отдельных кабинетах недавно отстроенного ресторана с электричеством, с новинками и ценами петербургских ресторанов.
Чеботаев со своим уездом поселился в одной из самых скромных гостиниц.
Собирались они, и у меня, и в своей гостинице, за скромной едой, и у Николая Ивановича.
Чеботаев, сперва упорно отказывавшийся от баллотировки, убедившись, что, вероятно, большинство за ним, начинал сдаваться, и мы радостно говорили:
– Пойдет! Куда он от нас денется! Силой потащим!
Чеботаев совершенно искренне говорил, что не хотел бы баллотироваться. Мало того, что не хотел, он чувствовал себя совершенно подавленным. Он говорил мне:
– Я теперь живу тихо и мирно и совершенно спокоен в том отношении, что я – не достояние всех, что ко мне, в мою жизнь, в мою деятельность не ворвется никто непрошенный, не изобразит все по-своему и все переврет и даже не по злобе, а так, потому что что-то изобразилось там в его голове, ну и валяй… Да вы думаете, эти-то наши дворяне умеют ценить? Мой отец пять трехлетий просидел и что же? Человек сам отказался, – уговорили, а когда дал согласие, прокатили на вороных… Отца тут же в предводительском кресле удар хватил, тут и умер… Уложили его в гроб, тогда опять: «Вот истинный дворянин был! Хоронить его с такой помпой, какой еще не было! Портрет повесить!» И хоронили и портрет повесили… Я не верю их искренности, дружбе: изоврались они, излукавились уж очень… Проскурин… И таких большинство… Некоторые из дворян просят меня баллотироваться в губернские предводители… Это уж прямо подвох…
И жена Чеботаева так смотрела и вообще усиленно отговаривала мужа от всяких баллотировок.
Минутами, среди всех этих сплетен, среди мрачных лиц заговорщиков проскуринской партии, затевавших что-то, действительно, как-то терялась почва под ногами и хотелось быть подальше от всего этого.
Чувствовалось как-то, что попадись только в руки этих молодцов, девиз которых был: «Кто не с нами, тот против нас, и кто против, с тем война, не разбирая средств».
Между прочим, была объявлена война и губернатору…
Вот по какому делу.
Один из уездных предводителей дворянства Новиков, приятель Проскурина, был предан суду по обвинению в разного рода некрасивых преступлениях по службе: тут были и побои и злоупотребления. Дело доходило до сената, и сенат утвердил обвинительный приговор Новикова. Но партия Новикова была очень сильна в уезде, и как только кончилось судбище, Новикова опять выбрали в предводители.
Губернатор на том основании, что осужденный Новиков лишался по закону права выбора, избрание Новикова не утвердил.
Наша партия и партия Николая Ивановича по этому поводу были целиком на стороне губернатора, но партии Новикова и Проскурина метали громы, угрожали губернатору, вышучивая его и распуская о нем всякие сплетни.
Сплетни и шутки были грубые, плоские, и люди эти с цинизмом врывались в самую святая святых человеческих отношений.
Всегда в корсете, скрадывавшем его плотную фигуру, с английским пробором, с изнеженными женскими манерами, задорный, надменный и нервный Проскурин говорил презрительно:
– Я покажу и губернатору и его прихвостням их место: разделятся, голубчики, рыдая, но расстанутся, будут помнить.
Щеголеватые члены проскуринской партии готовились, очевидно, к чему-то и молча, с презрительным высокомерием покручивали свои холеные усы, стоя во время антрактов в театре у барьера первого ряда.
Так страстно ожидавшийся день выборов настал.
Дворянский дом представлял необычайное возбуждение.
Швейцары в полных формах, вешалки, заваленные шубами, настежь раскрытые двери налево, в помещение хозяина дома – губернского предводителя, и направо, в залы собрания и буфетные комнаты.
И везде, во всех комнатах стоял гул от говора большой толпы людей в самых разнообразных мундирах. Но большинство из них были дворянские: с красными воротниками, красными обшлагами на рукавах.
Шитье некоторых из этих мундиров имело странный заношенный вид, и владелец такого мундира выглядел и сам какой-то мумией прежних времен: это родовые мундиры от дедов и прадедов. Мундиры, на которых ни ордена, ни шитья.
– Я и деды мои, – говорил его хозяин, – с самого почина в этом мундире и, как видите, ни на выборах, ни по казенной службе не преуспевали. Всегда только рядовые своего сословия.
Но много было и заслуженных.
На боковых скамьях центральной избирательной залы заседали почтенные старцы в лентах и звездах, с грудью, украшенной всевозможными орденами.
Пред этими старцами как-то стихало бушующее море страстей. Проходя мимо, заговорщики обрывались, почтительно раскланивались и уходили в другие комнаты.
Проскурин со своими стоял у красного большого стола и презрительно щурился на всю эту разношерстую толпу.
Его мелкопоместные во фраках резко отличались от остальных и робкой толпой жались в углу у крайнего окна.
Некоторые из дворян уже сидели. Это из тех робких, обросших и мохнатых медведей, которые выползли из своих берлог и теперь не знали, куда девать свои руки и ноги.
– Да идите, – крикнет такому какой-нибудь член его партии.
– Нет, – махнет безнадежно рукой такой медведь, – я уж тут…
И эта толпа, и мундир с воротником, который, как клещ, жмет, и этот скользкий паркет: вот, бог даст, доберется опять до своих лесных трущоб и зашагает снова через пни и валежник: там не упадешь, там есть за что ухватиться. И если бы не нужда, если бы не предстоящие назначения в земские начальники, не поехал бы он и на выборы, ни с визитами к губернатору, к губернскому предводителю, мало думал бы и о том, кого там выберут в предводители. А теперь со всем этим приходилось считаться – и очень, и сидевшие на боковых скамьях старцы удовлетворенно говорили, что по оживлению собрание это напоминает им давно уже забытые времена.
– Господа, пора ехать за губернатором.
На мгновение все стихло, и опять по комнатам понесся гул голосов.
Николай Иванович, возбужденный, помолодевший, изящный и легкий, весело здоровается со мной и подмигивает на Чеботаева.
– Волнуется… привыкнет…
Чеботаев, бледный, вытянутый, молча, обводя помертвелыми глазами залы, ходит с своим плотным, угрюмым приятелем Нащокиным.
Нащокин с специальным образованием, прекрасный хозяин, с густой шевелюрой, с которой так и сыплется перхоть, белым налетом усыпавшая уже плечи его потемневшего мундира.
– Пойдем: сообщу вам интересную новость.
И Николай Иванович берет меня под руку, и мы подходим к Чеботаеву.
Он сообщает, что дела Проскурина неожиданно оказались очень неважными. Уверенный в своем уездном кресле, Проскурин весь сосредоточился на борьбе за губернское и выписал мелкопоместных в ограниченном количестве.
Николай Иванович снисходительно улыбается и поясняет:
– Расход меньше: каждый такой рублей сто стоит… А тут вдруг, ввиду новых времен, нахлынуло столько врагов, что, пожалуй, в уездные проскочит Корин.
– Ну, тоже находка, – фыркает Чеботаев.
– Да, положим, так: и бездарный и злобный какой-то…
– Бестактный, – говорит кто-то.
– И все-таки, как переход к очередным делам, лучше Проскурина…
И Николай Иванович, потирая руки, тихо смеется. Он тихо, ласково говорит:
– Я бы советовал оказать ему поддержку и приобрести таким образом союзника.
– Это конечно, – соглашаемся мы.
– Еще в одном уезде заминка: Васильев запутался так, что ему уже не до предводительства, и, в сущности, ни на ком там еще не остановились. Я бы советовал посадить к ним одного молодого, Бориса Петровича Старкова.
– Да ведь он умрет через год: у него чахотка, – сказал кто-то.
– Ну, не так скоро, – добродушно ответил Николай Иванович, – а человек он порядочный и, как на новом, на нем все помирятся.
Я знал Старкова.
Он только что кончил университет, но выпускного экзамена не держал, потому что заболел легкими, а так как чахотка была в роду у него, то мать настояла, чтобы он бросил экзамены и ехал в Крым.
Из Крыма он приехал на родину, не думая больше об университете.
– К чему? – говорил он. – Проскриплю три-четыре года и отправлюсь к праотцам. Гораздо интереснее успеть что-нибудь сделать интересное, полезное в это время.
Единственный сын богатой помещицы, мечтательный, хрупкий, с каким-то безнадежным взглядом он думал не о себе. Он хотел издавать газету.
– Столько интересных общественных вопросов… Ведь у нас застой, полное незнание самих себя, своих сил… Мировые вопросы там решаем, знаем, что делается на конце света, а что делается у себя под носом, в своем уезде, не знаем, и знать не хотим, и не интересуемся.
В самый разгар выборной горячки Старков приезжал и допытывал меня:
– Как вы думаете, пойдет мое дело?
Я слушал его, отвечал и думал, что как не вовремя он всегда умудрится попасть в гости, – как раз тогда, когда или назначено собрание нашей партии, или что-нибудь другое в это время надо делать.
А Старков, больной, ненадежный физически, все гудел своим гортанным баритоном:
– Я так рад, что случай свел нас: вы сразу вызвали во мне всю мою симпатию…
Этого самого Старкова и предлагал теперь Николай Иванович.
Нащокин, все время молча слушавший, вдруг сказал решительно:
– Так что ж, – так и надо сделать.
– Вы думаете уговорить Старкова? – спросил Николай Иванович.
Нащокин подумал еще и еще решительнее сказал:
– Да, я думаю.
Согласились и все окружавшие нас.
– Ну, что ж, пойдем, значит, уговаривать его? – улыбнулся мне Николай Иванович и ласково потянул за собой.
Мы отправились с ним разыскивать Старкова, а наши, смеясь, кричали нам вдогонку:
– Соблазнители, совратители!
Высокого тонкого Старкова не трудно было заметить.
Он стоял у окна и мечтательно смотрел на улицу.
На наши уговоры он сперва отвечал так, как будто он никак не мог оторваться от своих каких-то мечтаний. Он говорил, что не чувствует ни желания, ни способности, что плохо, наконец, верит в живучесть дворянства.
– Фактов нельзя отрицать, – ответил ему Николай Иванович, показывая на залы, – слишком много сделано и будет сделано для дворянства, чтобы сомневаться в том, что оно опять будет жить. Как жить? Для этого и надо, чтобы все порядочное сплотилось, а если один не захочет, другой, то и останутся Проскурины…
Николай Иванович вспомнил, что Проскурин родственник Старкова, и извинился, а Старков ответил:
– Сделайте одолжение, – я ведь сам его вижу, какой он, – что ж, что родственник? Обязанности у человека прежде всего общественные.
Зная слабость Старкова ворковать своим густым баритоном без конца, я перебил его:
– Ну, так вот в силу этих общественных обязанностей.
– Я ведь хотел было газету, – просительно обратился он ко мне.
Я смутился и отвечал:
– Да вот, видите, и меня увлекло течение: очень уж хочется, чтобы порядочные люди во главе стали, – газета у вас не завтра начинается, а там по времени можно ведь подобрать и заместителя себе и газетой заняться.
На хорах показались в это время дамы, и все головы повернулись туда.
И дамы, как и их кавалеры, рассаживались по группам, оживленно разговаривая, кивая сверху на поклоны своих знакомых.
– Не знаю уж и сам, господа, как, – сказал Старков.
– Ну, значит мы знаем, – рассмеялся Николай Иванович и отправился орудовать дело.
Как раз в это время крикнули:
– Губернатор приехал!
И многие бросились к входу.
С нашего места все было так хорошо видно, что мы со Старковым тут и остались.
Немного погодя показался в камергерском мундире губернатор, небольшой, худощавый, с изящными манерами, но уже с трясущейся слегка головой, старик, любезно пожимавший направо и налево руки кланявшимся ему дворянам…
Я видел, как с аффектированным уважением почтительно пожал губернатору руку Проскурин. За ним, как складной аршин, согнулся его приятель граф Семенов, пропадавший долго где-то за границей. Затем, с некоторой иронией, но в то же время и очень почтительно, расшаркался другой приятель Проскурина, Бегаров, бывший студент Дерптского университета, с неприятным, с несколькими сабельными ударами, лицом. Бледные рубцы от этих ударов производили впечатление каторжных клейм. Бегарова не любили даже свои за язвительность, жестокость, за его какой-то недворянский шик. Но он был очень богат, охотно ссужал деньгами, хотя об этих деньгах и толковали, что отец Бегарова, новоиспеченный дворянин, нажил их при помощи ссуд. После Бегарова откланялся губернатору Свирский – высокий, красивый, молодой, с черными усами, с небольшими черными глазками, в мундире с иголочки. Свирский был тоже из партии Проскурина. Он только что вышел в отставку и был желанным гостем и в семейных домах, где барышни были на возрасте, и в холостых компаниях, где Свирский был не дурак выпить.
Среди партии Проскурина губернатор медленно подвигался вперед, когда вдруг все они, исполнив свой долг вежливости, отхлынули, и перед губернатором сразу образовалось в проходе между стеной, с одной стороны, и рядами стульев – с другой, большое пустое пространство.
И в этом пустом пространстве стоял один человек: Новиков.
Когда все мы поняли, в чем дело, было уже поздно. Губернатор не мог миновать Новикова – встреча была неизбежна, и все напряженно ждали, чем все это кончится.
Новиков, блондин, во фраке, с расчесанной надвое бородой, сильный и крепкий, в вызывающей позе стоял и, ждал подходившего губернатора.
– О, черт его побери, – проговорил тихо кто-то сзади меня, – не хотел бы я быть на месте губернатора.
– Да, – ответил так же тихо другой, – положение, что называется, хуже губернаторского.
Сам губернатор не казался, впрочем, смущенным.
Такой же улыбающийся, с манерами привычного придворного, он подошел к Новикову и протянул ему руку с такой безразлично вежливой физиономией, как будто принимал в это время от кого-нибудь стакан чаю или прошение.
Прищурившись, он улыбался, держа протянутую руку, и голова его слегка тряслась, пока Новиков в ответ, спрятав обе свои руки за спину, отвешивал губернатору, не торопясь, низкий поклон.
– Я вам протягиваю руку, – сказал ласково, спокойно губернатор, когда Новиков выпрямился после поклона.
И так царила тишина в зале, но теперь стало так тихо, точно все вдруг, уже лишенные способности говорить, дышать, думать, могли только смотреть и бессознательно переживать мгновение.
Самое коротенькое мгновение: Новиков как-то растерянно качнулся вбок и протянул свою руку со словами: