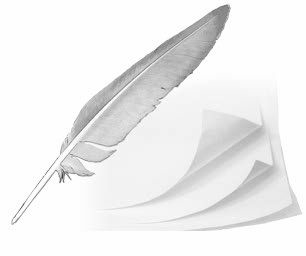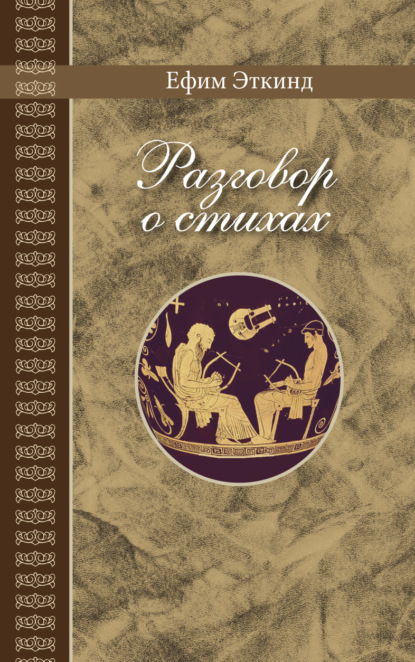© Е. Г. Эткинд, наследники, 2018
© С. В. Алексеев, оформление, 2018
© «ГРИФ», 2018

Об этой книге и её авторе

Каждый любитель поэзии ставит перед собой в юности вопросы, на которые потом отвечает чуть ли не всю свою жизнь. Как я читаю? Лёгкая для меня это работа – или серьёзный труд? Я делаю это из любви или по необходимости? Всегда ли я до конца понимаю те строки, по которым порою так поспешно пробегают мои глаза?
Чтение стихов – особое искусство. В пушкинском лицее специально учили стихосложению. Но многим из нас чрезвычайно важны уроки стихочтения. Важно не только правильно, в согласии с просодией, произносить стихотворные строчки; важно докапываться до тех возможных цитат и аллюзий, которые нередко в них скрыты. Чтение стихов – это прежде всего приобщение к мировой культуре.
«Читать и понимать поэзию было всегда нелегко, но в разные эпохи трудности разные. В прошлом столетии читатель непременно должен был знать и Библию, и греческую мифологию, и Гомера – иначе разве он понял бы что-нибудь в таких пушкинских стихах, как “Плещут волны Флегетона, / Своды Тартара дрожат, / Кони бледного Плутона… / Из Аида бога мчат…”. Читатель современной поэзии без мифологии обойтись может, но он должен овладеть трудным языком поэтических ассоциаций, изощрённейшей системой метафорического мышления, понимать внутреннюю форму слова, перерастающего пластический и музыкальный образ. Нередко читатель даже не сознаёт, сколько ему нужно преодолеть препятствий, чтобы получить от стихотворения истинную поэтическую радость».
Так уже более полувека назад закончил Ефим Эткинд свою книжку «Об искусстве быть читателем». Из этой небольшой брошюры выросли многие замечательные исследования автора, посвящённые русской и зарубежной поэзии, в том числе и книга «Разговор о стихах», увидевшая свет в московском издательстве «Детская литература» в 1970 году. «Разговор о стихах», ставший библиографической редкостью сразу же после выхода, оказался тем не менее в центре внимания целого поколения, да и не одного. Прежде всего потому, что книга была рассчитана на молодых читателей в ту пору, когда поэзия играла огромную просветительскую роль и восполняла в тогдашней общественной жизни многие этические лакуны.
На долю Ефима Григорьевича Эткинда (1918–1999) выпала завидная и вдохновенная судьба. Им восхищались – его талантами и умом, обаянием и мужественностью и необыкновенной работоспособностью, которую он сохранил до последних дней. Сколько помню, ни одно из его многочисленных выступлений, будь то перед студенческой, научной или писательской аудиторией, не проходило без аншлага: люди шли «на Эткинда», одно имя которого с годами стало синонимом высоких человеческих чувств и качеств – благородства, честности и гражданской отваги.
Выдающийся историк литературы, стиховед, теоретик и практик художественного перевода, он снискал любовь и уважение во всём мире – об этом свидетельствует и огромная библиография его научных и литературных трудов, изданных на многих европейских языках, и многочисленные почётные звания, которых он был удостоен во многих странах: почётный профессор Десятого парижского университета, член-корреспондент трёх немецких академий, кавалер золотой пальмовой ветви Франции за заслуги в области французского просвещения, доктор honoris causa Женевского университета; наконец, действительный член Академии гуманитарных наук России, член Союза писателей Санкт-Петербурга и Международного ПЕН-клуба… Подготовленные им книги и работы продолжают выходить и после его кончины.
В 1908 году Максимилиан Волошин, рецензируя только что вышедшую книгу переводов Фёдора Сологуба из Верлена, вспомнил слова Теофиля Готье: «Всё умирает вместе с человеком, но больше всего умирает его голос… Ничто не может дать представления о нём тем, кто забыл его». Волошин опровергает Готье: есть область искусства, пишет он, которая сохраняет «наиболее интимные, наиболее драгоценные оттенки голосов тех людей, которых уже нет. Это ритмическая речь – стих».
Ефим Эткинд не писал стихов (за исключением разве что блестящих экспромтов, шуточных посланий, стихов на случай), но стихи были главным делом его жизни. Более полувека он изучал русские, французские, немецкие стихи (последние к тому же много и плодотворно переводил), исследовал их как текст поэзии и текст культуры, часто работая на узком пространстве между серьёзной наукой и популяризацией, где как раз и важны собственный голос, собственная интонация. Многочисленные ученики, друзья, последователи Эткинда вспоминают именно это – его неповторимый голос, его поразительное умение читать стихи и держать паузу.
В его жизни таких пауз не было. Даже на сломе судьбы, в 1974 году, когда пятидесятишестилетний профессор Герценовского института, в одночасье лишённый всех званий и степеней, был вынужден эмигрировать на Запад, последовавшая затем многолетняя разлука с родиной и родной культурой обернулась феноменальной по энергии и завоеваниям деятельностью – научной, организаторской, публицистической. Полтора десятилетия имя Эткинда было запрещено в Советском Союзе, книги его были изъяты из библиотек и по большей части уничтожены. Незадолго до внезапной кончины Е. Г. Эткинд обратился с открытым письмом к тем, кто был повинен в этом варварстве, со справедливым требованием оплатить переиздание своих уничтоженных книг, многие из которых долгие годы были уникальными учебными пособиями для филологов – и остались таковыми по сей день.
Ответа, конечно, не последовало, но, к счастью, Ефим Григорьевич был заряжен великим оптимизмом, который позволял ему во все трудные времена находить собственные пути для творчества, адекватные высоким и благородным целям. Ибо основное, ради чего он жил, было здесь, на его родине: русская культура и круг друзей. Эти две страсти он пронёс через всю жизнь – и когда учился на романо-германском отделении Ленинградского университета, и когда ушёл добровольцем на войну, и когда «прорывался» сквозь советскую действительность 40– 60-х годов, и когда после фактической высылки оказался в Европе. Эткинду удалось построить свой, особый мост между европейской и русской культурами. Это не только научные статьи, книги, художественные переводы, выступления: Ефим Григорьевич умел сводить людей, воспитывать чувство необходимости друг в друге. Его имя стоит не только в почётном ряду тех, кого он переводил и чьё творчество исследовал, но и тех, кого он защищал и утверждал в нашей литературе: В. Гроссмана, И. Бродского, А. Солженицына, А. Синявского, В. Некрасова…
Е. Г. Эткинд родился в феврале 1918 года, вслед за революцией, и пережил со своим поколением и страной все её трагические этапы. Откликаясь на «Книгу воспоминаний» своего многолетнего друга Игоря Михайловича Дьяконова, учёного-востоковеда и переводчика, он писал именно об этом: «Снова, снова, снова – гибель близких, собратьев, учителей». И добавлял: «…Жизни наши похожи (только ли наши две?). Его отца расстреляли в 1938 году, моего чуть раньше арестовали и выслали; он умер от голода в блокаду, в 1942-м. Его два брата погибли: младший на войне, старший вскоре после неё; мои два брата умерли в семидесятых годах, оба вследствие травли, которой подвергся я и рикошетом они».
После Отечественной войны, которую он, вчерашний студент, прошёл военным переводчиком, Ефим Григорьевич оказался одной из жертв известной космополитической кампании, направленной против его учителей; он был уволен из Первого Ленинградского института иностранных языков и три года преподавал в Туле. «Вы все кичитесь, что учились у Жирмунского и Гуковского, – говорил ему секретарь партбюро, – а надо было – у Ленина и Сталина».
Однако именно у В. М. Жирмунского и Г. А. Гуковского учился Е. Г. Эткинд. Его докторская диссертация «Стихотворный перевод как проблема сопоставительной стилистики», защищённая в 1965 году, стала основополагающим трудом в новейшем изучении русской и западноевропейской поэзии. История поэзии и перевода, стиховедение и стилистика – этими темами Ефим Григорьевич всегда умел увлечь своих читателей и учеников, раскрывая феноменальное богатство исторических аналогий и поэтических явлений.
В апреле 1974 года по представлению КГБ Е. Г. Эткинд был лишён всех степеней и званий и уволен из Ленинградского педагогического института, в котором проработал более двадцати лет. Вслед за тем секретариат Ленинградской писательской организации исключил его из Союза писателей. Среди обвинений, изложенных в специальной «Справке», два должны были выглядеть особенно устрашающе: связь с Солженицыным, а именно то, что Эткинд «длительное время хранил у себя» его рукописи, и «близкие отношения» с Бродским – Эткинду помянули и защиту поэта во время известного процесса в середине 60-х, и причастность к машинописному собранию его сочинений, которому органы придали антисоветский характер. Исследователю вменялось в вину знакомство с предметом исследования: рукописью. 12 июня 1989 года, после пятнадцати лет эмиграции, Е. Г. Эткинд посетил Пушкинский Дом. Оказалось, рукописный отдел жаждет приобрести у него рукописи Солженицына и Бродского. Так своеобразно зарифмовалась хронология этого пятнадцатилетия.
Симметрия в искусстве – особая тема, «пушкинское пристрастие» в научном творчестве Е. Г. Эткинда. Тогда, в 89-м, на юбилейной ахматовской конференции он прочёл блестящий доклад о симметрической композиции «Реквиема». И в его собственной жизни многое было подчинено симметрии, в результате чего полярные явления судьбы уравновешивали её главное содержание и направление. Оказавшись в эмиграции, Ефим Григорьевич с теми же энтузиазмом, эрудицией и интуицией, с которыми он исследовал и пропагандировал великую европейскую культуру в России, принялся пропагандировать и исследовать великую русскую культуру в Европе.
Уместно сравнить его работы, опубликованные в России и на Западе, – сравнить и вспомнить о них, благо мы умеем многое и быстро забывать. Так вот, «до отъезда» у Е. Г. Эткинда вышли книги, написанные им или им составленные, которые стали вехами в современном литературоведении, в теории и практике художественного перевода: «Семинарий по французской стилистике» (1961, 1964), «Поэзия и перевод» (1963), «Писатели Франции» (1964), «Разговор о стихах» (1970), «Бертольт Брехт» (1971), «Русские поэты-переводчики от Тредиаковского до Пушкина» (1973), «Французские стихи в переводе русских поэтов XIX–XX вв.» (1969, 1973), образцово подготовленные сборники Бодлера и Верлена, множество других исследований, статей и отдельных переводов. Наконец, им был составлен в «Библиотеке поэта» двухтомник «Мастера русского стихотворного перевода» (1968), внесший, как выяснилось, свой особый «вклад» в изгнание автора из страны.
Вернее, этот вклад внесли те – ныне поимённо названные – чиновники от литературы, которые нашли идеологическую диверсию в утверждении, что в «известный период… русские поэты, лишённые возможности выразить себя до конца в оригинальном творчестве, разговаривали с читателем языком Гёте, Орбелиани, Шекспира и Гюго». Таким образом, взлёт отечественного перевода в советскую эпоху обретал конкретные причины и особый смысл. Вспоминая об этом эпизоде, Ефим Григорьевич цитировал стихи ленинградской поэтессы Татьяны Галушко: «Из Гёте, как из гетто, говорят / Обугленные губы Пастернака…» «Эти строчки, – замечал он, – …и теперь кажутся мне гениальными, в них сжато всё, что я мог бы изложить в долгих рассуждениях».
Между тем «долгие рассуждения» профессора Эткинда продолжались на Западе. Там были изданы фундаментальные работы: «Материя стиха» (1978, 1985), «Кризис одного искусства: опыт поэтики стихотворного перевода» (1982, на французском языке), «Симметрические композиции у Пушкина» (1988), книга эссе «Стихи и люди» (1988), воспоминания – «Записки незаговорщика» (1977) и «Процесс Иосифа Бродского» (1988), составлена остроумная книга эпиграмм, организовано издание семитомной истории русской литературы и отдельных книг переводов на французский и немецкий языки стихов Пушкина и Лермонтова, Ахматовой и Цветаевой…
Вышедшая в Париже антология русской поэзии «от Кантемира до Бродского» вызвала и там, на Западе, раздражение консерваторов. Верный своим литературным пристрастиям и педагогическим принципам, Ефим Григорьевич собрал вокруг себя плеяду талантливых переводчиков, которые вопреки традиции классического французского перевода стихов прозой или верлибром стали переводить «в рифму» и «в размер», то есть, следуя законам русской школы поэтического перевода, создавать эквилинеарный и эквиритмический перевод. Среди таких попыток были и большие удачи: в частности, в 1982 году Французская академия присудила премию группе поэтов-переводчиков под руководством Эткинда за издание первого во Франции собрания сочинений Пушкина.
Почти все годы вынужденной эмиграции Эткинд неоднократно возвращался к мучительному для него вопросу, который сформулирован в «Записках незаговорщика»: «Понимает ли читатель на Западе степень моей связанности с той жизнью, мою от неё неотделимость? Мою вплетённость в эту ткань, где я был всего одной только ниткой, но ведь и частью ткани?..» Ответом и себе, и окружающим на этот вопрос была в полном смысле слова подвижническая деятельность Эткинда по исследованию, переводу, пропаганде русской классической и современной литературы на Западе.
В одном из давних писем из Парижа Ефим Григорьевич обронил: «Здесь постарались всё забыть; помнят – хотят всё помнить – у нас…» Ныне в эту фразу можно внести определённую коррекцию: и там далеко не все и не всё забыли, и здесь далеко не все и не всё хотят помнить. Тем не менее ещё в 1990 году, передавая часть своего архива в фонды Публичной библиотеки, Е. Г. Эткинд сказал: «Я принадлежу этой стране и, как бы ни было опасно, готов разделить эту опасность с моими предшественниками и современниками, чьи рукописи лежат здесь».
В последние годы жизни Ефима Григорьевича вышли его итоговые книги: статьи о русской поэзии ХХ века «Там, внутри» (1996); в серии «Новая библиотека поэта» сборник «Мастера поэтического перевода» (1997), посвящённый русским поэтам-переводчикам ХХ столетия; исследование русской прозы на фоне европейской – книга «“Внутренний человек” и внешняя речь. Очерки психопоэтики русской литературы XVIII–XIX веков» (1998); антология «Маленькая свобода», включившая переводы самого Ефима Григорьевича из двадцати пяти немецких поэтов за пять последних веков (1998). Итогом эткиндовской пушкинианы стали два тома, вышедшие незадолго до его кончины, – свод научных исследований «Божественный глагол. Пушкин, прочитанный в России и во Франции» и юбилейное издание, приуроченное к 200-летию поэта, «А. С. Пушкин. Избранная поэзия в переводах на французский язык». Наконец, уже посмертно вышла автобиографическая «Барселонская проза» (2001)… Жизнь и литературная судьба Ефима Эткинда были в определённом смысле реализацией идеи памяти, хранящей высокие помыслы и откровения от Пушкина до наших дней.
Перемены в отечестве позволили Эткинду в конце жизни вернуться к «Разговору о стихах» и существенно его переделать – новое издание вышло в 2001 году уже после кончины автора. С этой книгой мы сегодня и знакомимся.
В отличие от первого издания, книга претерпела значительные изменения: расширилось введение, появились новые главы и главки, углубился разговор о новых понятиях в поэзии и поэтике. Отдельные темы и мотивы, которые раньше были в подтексте, переместились на первый план. Но главное осталось. «Разговор о стихах» – это книга о любви. К слову, к стихам, к родной речи и к тем избранным поэтам, которые составили славу отечественной поэзии. Иногда это любовь подчёркнуто открытая, иногда – тайная: любовь, вскрывающая подтекст, на который особенно была богата русская поэзия советской эпохи. Читателю «Разговора о стихах» надо ясно представлять себе присутствие такого подтекста и в самой книге. В те годы, когда книга писалась, её автор далеко не всё и не обо всём мог сказать в полный голос; он рассчитывал на то, что акцентирует внимание на главном – умении читать текст; он полагал, что читатель – его со-думник, со-печальник, со-страдатель – в дальнейшем сможет сам разобраться, самостоятельно проанализировать и понять всё, уже относящееся к подтексту.
В «Разговоре о стихах» много удивительных находок. Одна из них – понятие «лестница»: лестница контекстов, лестница ритмов и так далее. Чтобы вооружиться «методом Эткинда», читатель может тоже составить подобие такой лестницы, расположив на ней работы самого Ефима Григорьевича, – скажем, о таком любимом его поэте, каким был Николай Заболоцкий. В «Разговоре о стихах» было положено начало этой темы; затем она была развита анализом стихотворения «Прощание с друзьями» (1973), а продолжена на Западе в ряде публикаций, прежде всего, таких фундаментальных, как «В поисках человека. Путь Николая Заболоцкого от неофутуризма к “поэзии души”» (1983) и «Заболоцкий и Хлебников» (1986).
В архиве Е. Г. Эткинда сохранилась не дошедшая в своё время до печатного станка и опубликованная только в 2004 году статья «Николай Заболоцкий в 1937 году: “Ночной сад”», завершающая восхождение по этой исследовательской лестнице и одновременно отсылающая к страницам о Заболоцком в «Разговоре о стихах». Прочитав эти страницы, мы убедимся, что автор последовательно и настойчиво говорит нам о трагическом в творчестве поэта («равномерно-торжественная скорбная интонация», «мир Заболоцкого – трагический», «сколько мучительного трагизма в начальных словах» и т. п.), однако всякий раз подоплёка трагического раскрывается в основном на формальном уровне, будь то анализ ритма или метафорического строя стиха. В статье о «Ночном саде» трагизм Заболоцкого показан как реакция поэта на реалии тогдашней советской жизни.
Вспомним это стихотворение – в том виде, как оно было опубликовано в 1937 году:
О, сад ночной, таинственный орган,
Лес длинных труб, приют виолончелей!
О, сад ночной, печальный караван
Ночных дубов и неподвижных елей!
Он целый день метался и шумел.
Был битвой дуб, и тополь – потрясеньем.
Сто тысяч листьев, как сто тысяч тел,
Переплетались в воздухе осеннем.
Железный Август в длинных сапогах
Стоял вдали с большой тарелкой дичи.
И выстрелы гремели на лугах,
И в воздухе мелькали тельца птичьи.
И сад умолк, и месяц вышел вдруг.
Легли внизу десятки длинных теней,
И души лип вздымали кисти рук,
Все голосуя против преступлений.
О, сад ночной, о, бедный сад ночной,
О, существа заснувшие надолго!
О, ты, возникшая над самой головой
Туманных звезд таинственная Волга!
«У Заболоцкого Сад, – пишет Е. Г. Эткинд, – жертва и свидетель человеческих злодеяний… Сад, средоточие музыки и жизни (строфа I), наблюдает за происходящим с мукой, с отчаяньем (II). Происходящее рассказано в строфе III – охота, во время которой гибнут живые существа. Ночью сад уже не просто наблюдает, а протестует – голосует “против преступлений”. Всмотримся внимательнее в центральную строфу: об охоте ли, только ли об охоте идёт речь?
“Железный Август” – ну, конечно, это об августе-месяце, когда разрешена охота. Однако… Однако Август – это ещё и император Рима, единодержавный и обожествляемый диктатор. Эпитет “железный” вызывает в нашей памяти сочетание “железный Феликс” – так в партии официально именовали Дзержинского, создателя и председателя ЧК; однако “железный” синоним слова “стальной”. “Железный Август” – Сталин; при таком понимании слова “Август” стихотворение читается по-другому, оно становится прозрачным, до конца понятным. Глубокий и отчётливый смысл приобретает строфа IV, где ночной сад, иначе говоря – вся природа, всё живое в мире, выражает протест против сталинского террора:
И души лип вздымали кисти рук,
Все голосуя против преступлений.
Недаром именно эти строки Заболоцкому пришлось переделать для издания 1957 года, через 20 лет:
И толпы лип вздымали кисти рук,
Скрывая птиц под купами растений.
Лучше? Хуже? Не в этом дело, а в том, что строки, явно связанные с советской действительностью (липы голосуют против преступлений, поднимая кисти рук, – как трудящиеся на всех профсоюзных или партийных собраниях!), уступили место строкам, стилистически нейтральным – лишённым современных ассоциаций. Да и последние два стиха, свидетельствовавшие о том, что действие происходит в советской России (“…Волга”), уступили место строкам нейтральным, переносившим действие во Вселенную:
О, вспыхнувший над самой головой
Мгновенный пламень звездного осколка!
Строка с Волгой была точнее и лучше; и не только потому, что рифма была богаче (“надолго – Волга”)… Строфа III, стоявшая в центре “Ночного сада”, не только нарисовала образ вождя “в длинных сапогах”, но и дала ужасающую метафорическую картину “тотального террора” 1937 года». Эти стихи, завершает Эткинд свой разбор, «представляют собой литературный подвиг Заболоцкого, поступок отчаянного храбреца».
Надеюсь, эта пространная цитата поможет читателю «Разговора о стихах» ощутить ту «исследовательскую перспективу», к которой взывает чуть ли не каждая страница книги. И оживить ту любовь к поэзии, которая и вырастает из внимательного, чуткого чтения.
Стихи Заболоцкого оказались последними стихами, которые я услышал из уст Е. Г. Эткинда: так случилось, что в последний вечер, проведённый вместе, мы читали именно Заболоцкого. Было это в самом конце сентября 1999 года. Потом мы расстались, Ефим Григорьевич улетел в Германию, а в ноябре его не стало. Узнав о его кончине, я вспомнил эпизод из моей ранней юности – тогда, в августе 1968 года, случились два события, удивительным образом совпавшие и навсегда соединившие в моём представлении два далеких понятия – поэтику и политику. Было это в Ялте, во время летних каникул, из которых меня вырвала пухлая машинопись: Ефим Григорьевич Эткинд, работавший в ялтинском Доме творчества писателей, показал мне свою только что написанную книгу «Разговор о стихах» и сказал: «Прочти и скажи, что думаешь».
Первые впечатления запоминаются: оказалось, о самых сложных проблемах стиховедения можно говорить не просто увлекательно, но так, что этот разговор становится судьбой. Слово «судьба» тогда висело в воздухе. Там, в Ялте, 21 августа мы включили спидолу и сквозь завывание глушилок различили знакомую интонацию Анатолия Максимовича Гольдберга: Би-би-си сообщала о советских танках в Чехословакии. «Ну вот, – сказал Ефим Григорьевич, – начинается судьба…»
Теперь, перечитывая «Разговор о стихах», я всякий раз вспоминаю набережную в Ялте, папку с машинописью и слова, которые мне хочется передать «по кругу»: «Прочти и скажи, что думаешь».
Михаил Яснов