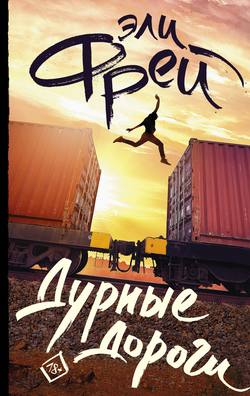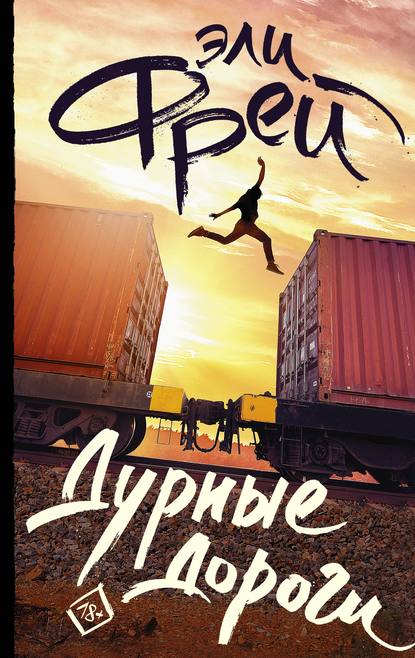Тем, кто устал верить, что Рональд Макдональд любит детей.
© Э. Фрей, 2019
© Е. Ферез, дизайн обложки, 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019
Глава 1
2002 год
«Гольфы, юбка, каждый день по тюремному распорядку… Все достало! А особенно ― быть девчонкой. Нужно срочно устроить бунт!»
Так подумала я, однажды проснувшись, и в тот же день нарисовала огромный ярко-красный знак Анархии. Он занял все парадное окно моего закрытого женского пансиона.
Когда меня вызвали «на ковер», я попыталась абстрагироваться от всего мира. Завороженно наблюдала, как между шевелящихся напомаженных губ директрисы растягивалась и сжималась мерзкая тоненькая слюнка. Директриса говорила ― слишком много слов! Можно было и покороче объяснить суть, которая сводилась к тому, что я ― инфантильная неудачница, обреченная на бессмысленную и убогую жизнь, гнилой огрызок посреди цветочной клумбы. Я не делала ничего, только все портила и отравляла. До конца своих дней я буду всем обузой. Позор своей школы и позор своих родителей.
Я молча вытирала с себя слюни, которыми меня щедро окатывала директриса. Меня не сильно задевали ее оскорбления, я привыкла. Просто старалась не пропускать словесное дерьмо внутрь себя, и это мне легко удавалось ― все приходит с опытом.
– Может, закончите уже, а? ― Мне наконец надоел этот пустопорожний блев. ― У вас что, других дел нет? Мне ваша болтовня по барабану. А у вас, я знаю, более приятное дело есть. С Петром Григорычем.
В пансионе я была кем-то вроде человека-паука, который умел лазить по стенам и видел каждый пятничный трах директрисы с физруком.
– Так давайте мирно разойдемся и продолжим заниматься своими приятными делами?
Я специально говорила так, как, по мнению большинства, должны говорить все трудные подростки, и для пущего эффекта катала во рту жвачку. Знаете, а я ведь всегда подстраивалась под эти стереотипы, ― будто однажды кучка взрослых села за круглый стол и после долгого обсуждения составила их детальный список. И вот список под заголовком «Какими должны быть трудные подростки?» попал мне в руки, и я стала строить свою жизнь по нему.
Директриса, набравшая в грудь побольше воздуха, чтобы изрыгнуть очередной поток блева, от моих слов сдулась и теперь напоминала спущенный дирижабль.
– Савельева, что за чушь ты несешь? И как ты смеешь говорить с директором в таком тоне?!
Но по багровому лицу и бегающему взгляду было ясно, что она в шоке от того, что в тайну пятничных трахов посвящен третий лишний. Директриса всосала воздух, как пылесос, и опять разразилась гневной тирадой: стала кричать что-то о родителях и исключении. По ее лбу текли струйки пота.
Исключение? Боже, я мечтала об этом! Я угодила в эту «тюрьму» по прихоти дедушки-военного, который пристроил меня сюда по блату. Когда дедушка умер, я подумала, что наконец-то кончится ад, ведь папа не сможет оплачивать мое обучение. Но не тут-то было, по договору я могла учиться до конца на бесплатной основе. Пришлось приложить усилия, открыть в себе художника, и ― вуаля! ― меня исключают!
Час моей казни настал вечером, когда приехали родители. С кирпичной мордой папа молча пережевывал гнев. Мама стояла за его спиной, опустив грустные глаза в пол.
–…Разрисовала всю блузку сатанинскими знаками… ― говорила директриса.
(Это всего лишь знак анархии, а не пентаграмма.)
– …Называет учителей чернью…
(На правду не обижаются.)
– …Включает на всю громкость свою вульгарную и пошлую музыку, не дает спать порядочным девочкам…
(Это «Красная плесень», у вас просто туговато с юмором, Галина Алексеевна, а ваши «порядочные девочки», между прочим, частенько по ночам устраивают мне темную: стаскивают с кровати, накидывают сверху одеяло и нещадно бьют ногами.)
– …Портит имущество пансиона…
(Да-да, это о разрисованном окне. У вас отсутствует художественный вкус, Галина Алексеевна. И вы всегда говорили, что надо поощрять детское творчество.)
– …Ты же девочка, ты не должна…
Пока она перечисляла, чего не должны делать девочки, я задумалась о том, что за всю жизнь «ты-же-девочек» услышала больше, чем израсходовала рулонов туалетной бумаги, и стала вести подсчет: а сколько действительно рулонов бумаги у меня ушло за все мои пятнадцать лет? Папа, прежде походивший на немую гранитную плиту, вдруг влепил мне увесистую затрещину.
Черт, он меня сбил… Триста или четыреста рулонов? У меня чуть башка не треснула.
Я снова занялась подсчетом.
Конечно, он задел меня. Не просто задел, а убил. В сотый раз.
Если в день я трачу примерно полтора метра бумаги в зависимости от соотношения «больших» и «маленьких» дел…
Волна обиды нарастала грохочущей волной.
Длина рулона около двадцати метров…
Даже если за всю жизнь ты получил тысячу отцовских затрещин, ты не оброс толстой шкурой.
Двадцать семь рулонов за год, а за пятнадцать…
К родительским побоям невозможно привыкнуть даже через десять тысяч ударов. Каждый раз ― как впервые.
…Получается чуть больше чем четыреста рулонов.
Директриса, минуту назад говорившая что-то вроде: «У нас пансион для прилежных воспитанниц, сожалею, но мы не можем больше содержать вашу дочь здесь, она подает дурной пример», заткнулась и посмотрела на папу круглыми от ужаса глазами. Да, знаю, семейка у нас та еще.
В комнате, собирая вещи, я заодно прихватила чей-то телефон с соседней тумбочки. Выйдя на улицу, покатила чемодан по бугристой плитке, и грохот колесиков перебивал громоподобный голос отца за спиной:
– Как ты могла? Позоришь нас! Мы все для тебя делаем, за учебу твою платим, чтобы человека из тебя сделать, а ты…
– Постой-ка, папа. Ты не платишь ни рубля, это раз. Вы отправили меня сюда не для того, чтобы сделать из меня человека, а для того чтобы избавиться от меня, ― это два! Вы же мечтали всех детей выселить куда-нибудь, чтобы уединяться и трахаться в свое удовольствие! ― бросила я через плечо, а в качестве кульминации выдула огромный жвачный пузырь, который лопнул с громким чпоком.
Я быстрее пошла вперед, к воротам. По дороге я считала плитки под ногами ― отдельно желтые, отдельно серые.
– Как ты с нами разговариваешь? ― рявкнул отец. ― Воспитали неблагодарную сволочь жопорылую! Да по тебе военная школа плачет!
Я сбилась. Подсчет опять не получился. Плиток каждого цвета оказалось больше пятидесяти, но это все, на что был способен мой мозг.
Сердито бросив в багажник машины чемодан, я плюхнулась на заднее сиденье и, включив плеер, на три часа ушла в мир музыки.
Я радовалась, что навсегда уехала из этого ада.
Днице ― гласила надпись на покореженном указателе, в который, судя по виду, неоднократно вписывались лихие, но не очень способные водители. Добрые люди черной краской, зачеркнув букву «ц», приписали сверху «щ».
Да. Я жила в городе, о существовании которого Бог забыл или даже не подозревает.
Находится он в области, в ста километрах от Москвы. А кого в советское время высылали за сто первый километр? Правильно. Бывших зэков, алкашей, попрошаек и прочие асоциальные элементы. Так что во мне, коренной дни-ц-щенке, течет благородная асоциальная кровь.
На автобусной остановке спал бомж. На ржавой стене виднелась кривая зловещая надпись:
Твой автобус никогда не приедет.
Мы свернули с дороги и въехали в наш двор. Серое блочное здание, редкие деревья, унылая детская площадка. Дом, милый дом.
В детской родители уже перетащили в мой уголок раскладное кресло Славика. Не здороваясь ни с сестрами, ни с братом, я молча схватила его и покатила в коридор. Сидящий на полу Славик оторвался от увлекательной игры в гонки тапками и вытаращился на меня.
– Что ты делаешь? ― возмутилась мама.
– Он не будет спать тут. Тут уже нет места. Я живу в этом доме и имею полное право хотя бы на два квадратных метра личного пространства. Это, ― показала я на Славика, ― плод вашей любви, вот и забирайте его в свою спальню.
Я решительно откатила кресло в комнату родителей, отнесла туда же и самого Славика, который до сих пор держал в руках тапки, а потом ― его игрушки. Отца не было, он ставил машину в гараж, и мне противостояла только мама. Темпераментом и напором я ее превосходила, так что квартирную битву по завоеванию квадратных метров выиграла с легкостью. Я вошла в детскую и, чувствуя себя Александром Невским после победы над шведами, гордо поставила на освобожденное место свой чемодан, будто флаг завоевателя.
* * *
Табуретка. Стол. Клеенка с синими ромашками. Стакан.
Шорох разрываемой бумаги. Плеск таблетки, упавшей в воду. Шипение.
Вверх поплыли оранжевые пузырьки.
Где-то далеко ― звон бьющегося зеркала, папин рев, Олькин плач и перекрикивающий их телевизор:
В Вилларибо уже давно продолжается праздник, а жители Виллабаджо все еще моют посуду.
Бум! Бум! Бум!
Это Славик бился башкой об открытую дверцу морозилки.
Бах!
В меня полетела замороженная курица.
– Я хочу куриные палочки! Где мои палочки?! ― орал младший брат, доставая из морозилки все подряд и разбрасывая во все стороны.
Шелест веника по полу. Свист чайника. Шипение убегающего молока.
Куриные палочки из ножек Буша, обколотых антибиотиками и гормонами и вымоченных в хлоре. Приятного аппетита.
Плюх! В стакан полетела еще одна таблетка. Цвет воды стал кислотно-оранжевым.
Пузырьки уверенно плыли на поверхность, зная, что там выход. Черт, даже гребаные пузырьки газа знали, где выход, а я нет.
В комнате ― громкий Катин вопль:
– Ма-а-ам!! Славик нассал в стаканчик для карандашей, теперь они все мокрые и воняют!
Запах химического апельсина и подгорелого молока.
Бум! Бум! Бах!
– Где мои палочки? Я хочу их сейчас же! Даша, мандакрылая ты наседка, где мои палочки из курей??
Я залпом выпила витамин C, представляя, что это яд.
Невозможно больше находиться в этом дурдоме.
Вернувшись в комнату, я взяла с тумбочки украденный из пансиона телефон, засунула его в лифчик, а затем решительно вышла в окно. Никто не заметил. Даже если я встану в центре квартиры с пистолетом в руках и выстрелю себе в висок, они не заметят. Здесь каждый всегда занят только собой.
Зацепившись за толстую ветвь дерева, я перебралась к стволу и ловко, как обезьяна, спустилась. На мне все еще была школьная форма ― клетчатая юбка и блузка. Ну и плевать. Я спрыгнула на землю и побежала к Тошке, в соседний дом.
Тошка (он же Тотошка и он же Антон, но полным именем я его никогда не звала) ― мой лучший друг. Мы ровесники. В жизни ему повезло больше, чем мне, потому что он: а) жил в огромной трешке, б) был единственным ребенком в семье, в) не учился в дурацком пансионе.
Я зашла в подъезд и нажала на кнопку звонка квартиры на первом этаже.
Друг открыл дверь. Я не видела его с января. Родители забирали меня из пансиона только два раза в год ― на зимние и летние каникулы. За месяцы, что мы не виделись, он немного подрос. На лице блуждала такая любимая кривоватая улыбка. Глаза-угольки смотрели растерянно, будто не узнавали; черные брови удивленно приподнялись.
– Тошка! ― закричала я и бросилась его обнимать. ― Я так соскучилась. Господи, когда ты подстрижешься? Твои волосы уже вросли в уши.
Я теребила неаккуратные лохмы, вдыхала их родной запах. Они пахли жареной картошкой, мазутом и железнодорожной смазкой ― наверное, Тошка, как всегда, катался на зацепе.
– Сова! Я думал, тебя выпустят через месяц! ― Он неуклюже обнял меня в ответ. Его голос был неровным, ломался.
– Из-за некоторых обстоятельств получила досрочное освобождение, ― хихикнула я. ― Попозже расскажу.
Кинув на тумбочку украденный телефон, я сбросила кеды и по-хозяйски прошла в квартиру. В ванной достала из шкафчика машинку для стрижки волос. Я столько раз ночевала у Тотошки, что знала, где здесь что лежит. У каждой вещи было свое место, из года в год оно не менялось.
– На, держи. Сейчас будешь меня стричь.
– Чего? Это зачем?
Я посмотрела в зеркало. Мои светлые волосы отросли до лопаток. В пансионе запрещалось коротко стричься, и у всех девочек должны были быть строгие прически, никаких экспериментов. Но теперь мне можно все!
– Моя внутренняя свобода рвется наружу. Ее угнетали восемь лет, хватит. Так что стриги. ― Я поставила в центр ванной корзину для белья, села сверху. ― Да не ссы ты. Ты же папу стрижешь своего, у тебя все получится!
– Савельева, ты меня пугаешь. Может, не надо?
– Надо, Тотошка, надо! Мне жизненно необходимо устроить бунт устоявшемуся распорядку своей жизни, иначе я умру. Ты же не хочешь моей смерти? ― Он покачал головой. ― Поэтому стриги.
– Сегодня пятнадцатое мая, сатанинская луна, а стгичь волосы в сатанинскую луну нельзя, а то станешь дегенегатом, так мама говогит.
Я улыбнулась, услышав такой любимый картавый выговор.
– Тотош, я восемь лет изучала краеведение и латынь, я уже стала дегенератом, и сатанинская луна мне не страшна!
– У тебя ногмальные волосы, ― вздохнул Тошка.
– Нормальные, ненормальные ― не в этом дело.
– И сатанинская луна…
– Луну в зад себе запихай. Хватит тут ля-ля! Стриги, говорю!
Друг включил машинку и провел ею по моей голове. Срезанные волосы защекотали спину. По телу пробежали мурашки ― ощущение непривычное, но мне это нравилось! Тошка срезал полосу за полосой. Он сработал профессионально: сверху ― оставил под двадцать миллиметров, с боков и сзади ― совсем коротко. Я теребила ежик и не могла налюбоваться своим отражением.
– Ух ты! А у меня, оказывается, красивая форма черепа! Ну как я тебе?
Встав, я отряхнулась и покружилась перед Тотошкой. Он посмотрел на меня хмуро.
– Не знаю… Непгивычно…
– Ничего, привыкнешь. Ну что, пойдем на улицу?
– Пойдем!
– Слушай, дай мне из одежды что-нибудь приличное. В этом сраме не пойду. ― Я показала на школьную форму. ― Да и на него у меня другие планы.
Тотошка ушел в комнату, вскоре вернулся и протянул мне шорты и футболку. У меня были примерно такие же, помню, как вместе на рынке закупались летними шмотками. После убогих школьных юбок на каникулах я ничего, кроме мальчишеской одежды, не признавала. Достало все! Достало быть девчонкой! Родиться девчонкой ― хуже, чем оказаться в аду.
Переодевшись, я глянула в зеркало. Во мне пробудилось новое незнакомое чувство: вроде отражение мое, а вроде и нет. Странно. Это волновало и немного пугало. Я удовлетворенно улыбнулась своему двойнику. Теперь меня не отличишь от мальчишки.
Что вызвало этот спонтанный порыв ― вдруг так радикально перевоплотиться? Наверное, внутренний бунт и несогласие с окружающим миром, который злобно и назойливо стучит тебе по голове. Ты же девочка. Надень платье. Улыбайся. Сдвинь ноги. Не плюйся. Не ругайся. Причешись. Не балуйся. Сядь в уголке и посиди тихо. Ты ведешь себя безобразно, как мальчишка. Ты не должна этого делать, потому что ты ― девочка.
Прежде я и не видела жизни: слишком много времени провела в стенах пансиона. Там нам не разрешали практически ничего… Но отныне запретов больше не было, и мне хотелось пуститься во все тяжкие. Столько лет из меня пытались кого-то лепить! Родители ― идеальную дочь, воспитатели ― идеальную ученицу. Но как можно вылепить кого-то из человека, который сам не знает, кто он? Вот и я не знала. Кто я, чего я хочу, какая я? Кого должна любить? Кого ненавидеть? Как должна выглядеть? Во мне бурлил вулкан. Причину этого я не понимала, но новый образ мне чертовски понравился. Я стала тем, кем мир хочет видеть меня меньше всего, что может быть лучше? Я начала свою игру, которая впоследствии переросла в нечто большее…
– Смотри, что у меня есть! ― Я помахала перед носом Тошки украденным Nokia 3510i. ― Надо продать!
Телефон был на вид совсем новый, дорогой, навороченный, с полифонией, цветным экраном и всеми приблудами.
– Ух ты! Откуда?
– Компенсация за мои расшатанные нервы. Не думаю, что кто-нибудь обидится. Пойдем впарим кому-нибудь. Но сначала нужно сделать одно дело.
* * *
― Может, не надо? ― Тошка с сомнением посмотрел на кучу одежды на земле перед нами. Мы стояли на пустыре за домом, я лила ацетон на свою форму.
– Надо. Никогда больше не вернусь туда. Сдохну, но не вернусь.
Я подожгла спичку и бросила, а потом долго любовалась, как огонь пожирает ненавистное тряпье, как горят рукава блузки, как сворачивается синтетическая ткань юбки. Белая блузка, красная юбка в коричневую клетку, красная жилетка. Каждый день на протяжении восьми лет ― одно и то же. Не верилось, что это конец. Я дождалась, пока остался один пепел, и яростно его растоптала.
– Ну ты звегюга, Сова. ― Тошка с испугом покосился на меня. ― Неужели все было так плохо?
– Хуже, чем ты можешь представить. Хуже, чем в твоем самом страшном кошмаре.
Мы ушли с пустыря и направились к спортивной площадке.
– Парни, вам телефон не нужен? За треху отдам, ― спросила я у качков и показала свою добычу.
Парни обступили нас, повертели мобильник в руках.
– Крутой! Но не, нам не нужен, ― сказал один качок и обратился к другому: ― Слушай, вроде Бык такой вот хотел, да?
– Ага, такой же ищет.
– Пацаны, а вы предложите Быку, вряд ли за треху возьмет, но за двуху точно прям сразу.
Я приободрилась. Во-первых, потому что меня назвали пацаном, а во-вторых, деньги были на нуле. Я бы согласилась даже на двуху, если бы бабки мне отдали сегодня.
– И как искать этого вашего Быка?
– Он где-то возле ДК тусует.
– Это там, где панки?
– Ага, он из них.
– Ладно, пойдем искать Быка.
Панков мы нашли быстро, их место тусовки не менялось. Они всегда сидели либо на ступеньках заброшенного ДК, либо в лесопарке прямо за ним, на заброшенной автобусной остановке. В этот раз панки тусовались у ДК. Мы подошли к компании из пяти человек, устроившейся на каменных балясинах.
– Здогово, ― первым заговорил Тотошка. ― Пагни, как нам Быка найти?
– А зачем вам Бык? ― Здоровяк в косухе нахмурил крутой лоб.
– Мы от Власова, ― вспомнила я фамилию качка со спортплощадки. ― Он сказал, Бык трубу такую ищет. У нас как раз есть. Почти новый. За треху отдадим.
Здоровяк слез с насеста, выхватил мобильник, повертел в руках, понажимал кнопки.
– За треху не куплю, но за две могу.
Так вот он какой, Бык. Кличка ему подходит. Он действительно крупный, как бык, и лоб такой же огромный и выпуклый.
– Давай за две пятьсот, за меньше не продам!
Он недовольно глянул на меня, но кивнул.
– Ладно, давай за две пятьсот.
Вообще, я слышала, вроде его Колян зовут, а Быков ― фамилия. Отсюда и кличка.
– Скоро вернусь, ― сказал он своим и махнул нам рукой.
Мы пошли с Быком к его дому. Подождали на улице, и вскоре панк вышел. Он протянул нам деньги, мы отдали ему трубу.
– А правда, что… ― начала я, когда Бык развернулся, чтобы уйти.
– Что ― правда? ― недовольно бросил он через плечо.
– …что чтобы стать панком, нужно сожрать собственную блевотину?
Тотошка одернул меня на середине предложения, но я все же договорила.
– Чего?? ― Рассвирепевший Бык дернулся в нашу сторону. Мы испуганно попятились. ― Слышь, пацан, я сегодня добрый, но если через три секунды ты не свалишь, последнее, что ты услышишь в этой жизни, ― как камень ломает твою дурацкую башку!
Бык пнул здоровенный булыжник.
– Понял, ― сказала я. ― Сматываемся!
Через три секунды мы скрылись за углом.
– Мы теперь богачи! ― смеялась я.
По дороге на станцию мы купили по шаурме. Сытые и довольные, забрались под платформу у последнего вагона, ждали «собаку» ― электричку то есть. Мы с Тотошкой ― зацеперы. Да, это те самые придурки, которые обычно облепляют составы снаружи, как рой мух ― труп. Имбицилы, которые бегают по крышам движущихся поездов, регулярно падают, ломают позвоночники, становятся инвалидами или дохнут, поджариваясь от токоприемников. Так о нас говорят.
Мы познакомились с Тотошкой четыре года назад. Тогда я впервые решила сбежать из дома (об этом расскажу попозже), забралась под платформу в этом самом месте, ждала электричку. Здесь я и встретила Тотошку, который уже полгода, как был зацепером. Так началась наша дружба. Зацепинг стал нашим общим увлечением и даже больше, чем увлечением. Зацепинг для нас был пряной и острой приправой, которая придавала пресному и несъедобному блюду под названием «жизнь в Днище» неповторимый вкус.
Мы услышали стрекот в проводах, и вскоре к станции подъехала эрдвашка. Заглянув в окна заднекабинника и убедившись, что помогалы нет, мы быстро забрались по метельнику. Я встала на сцепку и схватилась за перекладины, Тошка стоял справа от меня. Электричка отъехала. Следующая остановка ― Локотки, до нее ехать аж десять минут.
Перебравшись к левому краю торца вагона, я отклонилась вбок и подставила лицо ветру. Скорость. Ладони, впивающиеся в холодные перекладины. Риск. Запах железа. И пьянящий вкус такой запретной свободы. Воистину прекрасен мир зацепера.
– Погнали на рынок? ― спросила я друга, когда электричка остановилась в Локотках. Тошка кивнул, и мы спрыгнули с зацепа.
Прямо у станции вдоль дороги на грязных картонках широко растянулся блошиный рынок, где продавали всякую всячину: потрепанные книжки, запчасти, старинные украшения, медали, советские фотоаппараты и игрушки, музыкальные пластинки… я любила это место. Запах дымчатый, землистый. Здесь пахло чердаком ― пыльной тканью, кожей, старинными книжными переплетами, деревом и нафталином. Пару лет назад тут обнаружился гребень, который принадлежал какой-то королеве, то ли Елизавете, то ли Екатерине. Рынок даже в новостях показывали ― это был единственный случай, когда наш славный город Днице попал в эфир федерального канала по приятному поводу, а не потому, что кто-то сжег здание администрации или за ночь украл двести метров действующий железной дороги.
На этом же рынке я однажды купила свитер, как у Данилы Багрова. Я спала в нем круглые сутки, нежно прижимая к груди черно-белую фотографию героя, вырезанную из Программы телепередач, и блокнот, весь исписанный цитатами из фильма. Через пару лет Пчела из «Бригады» ненадолго потеснит Данилу с почетного первого места в моем сердечке, но этот внезапный порыв быстро затухнет, и Данила вернется на свой пьедестал.
Я шла медленно, мне хотелось рассмотреть все как следует. Глубоко дышала, впитывала запах чужих историй.
За блошиным рынком ― палатки с овощами, а за ними ― уже лавки со шмотками. Мы шли туда, мне нужны были новые кроссовки, а то у моих уже до дыр стерлись подошвы, просвечивали носки. Я присматривала кеды, но тут… увидела по соседству нечто прекрасное ― палатку с «гадами». Я переметнулась к ней и долго разглядывала камелоты, гриндера и мартинсы. Ох, как застучало сердце. Я облизнулась и прикусила губу ― так сильно захотелось купить «гады». Всегда о них мечтала, но никогда не было денег… а сейчас в кармане ― два косаря. Не хватит на мартинсы и гриндера, зато на камелоты ― вполне.
– Тридцать шестой есть? ― спросила я у продавщицы.
– Нет, только с тридцать восьмого.
– Эх, ну давайте тридцать восьмой…
Всю дорогу обратно я шла с опущенной головой, никак не могла наглядеться на свои «гады». У меня настоящие камелоты! Тяжеленные, с железной вставкой в носке, на огромной подошве. Да я же теперь только и буду искать грязь, чтобы оставить свой след и хорошенько рассмотреть его. А еще ― я видела, так делают все наши панки, ― буду пинать бутылки до звона битого стекла. БАМ! ― Не заметив столб, я врезалась в него. Тотошка согнулся пополам от хохота.
– Что ты ржешь, придурок? Больно же! ― Я потерла ушибленный лоб.
* * *
Вечером мы опустошили кондитерский магазин, накупив сладостей, и ушли на детскую площадку в Тошкином дворе. Обожрались вкусняшек, а потом вращались на круглой карусели. Раскрутив себя за руль в центре, мы укатались до того, что все съеденные сладости грозились вырваться на свободу. Мы еще больше ускорились, отпустили руки. По инерции нас выбросило с карусели. Тотошка упал на крапиву, а я ― на Тотошку. Смеялись до колик в животе.
– Эй, Тох, это же вы сегодня с телефоном таскались? ― К нам подошел Власов, сегодняшний качок, которому мы пытались сначала продать телефон.
– Ага, ― сказал Тотошка. ― А что?
Я напряглась. Начало разговора мне не нравилось. Таскались, продали и забыли. Зачем вспоминать? Очевидно, что-то пошло не так…
– Да чуваков из дэкашных встретил. Говорят, Бык взбесился, орет и по всем районам ищет мелкого пацана, который впарил ему неработающее говно.
Я испуганно сглотнула и посмотрела снизу вверх.
– Как ― неработающий? Сегодня работал!
Власов пожал плечами.
– Не в курсе, что там когда работало, просто говорю, чуваки сказали, Бык пеной брызжет. Обещал затолкать этот телефон в задницу малолетнему ублюдку, который ему его втюхал. Спрашивали меня, что за парни. Я вас не сдал. Он не знает, где вы живете.
Власов улыбнулся.
– Спасибо, ― мрачно сказала я. ― С нас пачка сиг.
– Две, ― шире улыбнулся Власов. ― «Винстон» красный. Желательно сегодня-завтра. А послезавтра, парни, вы ― трупы, если не вернете ему деньги. Если Бык в такой ярости, я вам не завидую.
Когда он ушел, мы испуганно переглянулись.
– Он работал! Все было нормально утром… Что же такое с трубой… Денег Быка больше нет. Что делать? ― растерянно сказала я.
Тошка посмотрел на мои камелоты.
– Нет уж! ― Я поджала ноги. Одну подтянула совсем близко и взяла ступню в руки, стала баюкать, как младенца. ― Камелоты я не верну!
– Тогда будем убегать, как обычно, ― сказал Тотошка. ― Что, пегвый раз, что ли? Не ссы, пгогвемся!
Неприятно засосало под ложечкой.
– Тошк, мне срочно нужно успокоиться. Расскажи что-нибудь забавное.
– Но я ничего не знаю.
– Скажи: все бобры добры для своих бобрят.
– Не буду. Я тебе что, домашний пудель, чтобы команды выполнять?
– Ну, скажи. Ну пли-и-из! Ну сильвупле, ну порфавор!
– Ну, хогошо. Все бобгы добгы для своих бобгят. Довольна?
– Ага, ― хихикнула я. Эта игра мне никогда не надоест.
– Пошли по домам, Сова. И не ссы, выпутаемся.
Голос у Тотошки был бодрый, понятное дело: не в его задницу обещали затолкать неработающий телефон.
Войдя в комнату, я обрадовалась: Славика назад не перетащили. Значит, папа смирился с моей победой. Олька с Катькой, две ленивые жопы, валялись по кроватям с книжками и мисками конфет. Когда я шла в свой угол, никто и головы не повернул в мою сторону. Они не видели меня полгода и даже не спросили, как мои дела. Не сказали ничего по поводу новой прически. Сестринских чувств между нами ― как высер воробья.
Вдруг Олька оторвалась от книжки и уставилась на меня.
– Я сегодня ходила в магазин и видела тебя на зацепе.
Сестра смотрела выжидающе. Я тяжело вздохнула, достала из кармана смятые деньги, отсчитала два чирика и кинула на ее кровать.
– Такса повысилась. Теперь ― полтинник. ― Олька нагло улыбнулась.
Я отсчитала мелочь и бросила ей. Она жадно сгребла деньги, убрала в свою копилку и вернулась к книжке. На этом наше общение закончилось.
С сестрами я всегда держалась отстраненно, разговоров по душам между нами не было. С Катькой отношения еще более-менее: отцу на меня она не доносит, по крайней мере. Но Катя совсем еще малявка, да и пассивная она какая-то, ни рыба, ни мясо, ни гулять, ни играть не любит, возиться с ней скучно. А Олька ― то еще трепло, чуть что, сразу бежит на меня ябедничать. Отец меня наказывает, а потом я, когда родителей дома нет, гоняюсь за Олькой по всей квартире, валю с ног, накидываю на нее одеяло и нещадно луплю ― пансион научил меня некоторым приемчикам. Ольке все по барабану, кроме книжек и конфет. Скоро ее жопа будет размером с Россию на настенной карте.
Конечно, может, это моя вина: я никогда не пыталась сблизиться, и ни Олька, ни Катька просто не знали, что это такое ― когда тебя любит сестра. Но я не могу любить тех, с кем вынуждена делить мои законные квадратные метры. Я хочу свою комнату больше всего на свете. Иметь личное пространство ― естественное желание любого человека. Были бы на меня одну просторные хоромы ― и я любила бы весь мир.
Я повалилась на кровать прямо в новых «гадах». Навязчиво думалось о Быке. Он искал меня. Вид у него был суровый, такие не бросают дело на полпути. Кажется, я ходячий труп, жить мне осталось недолго. Перед сном я просчитала варианты, нашла два. Взять денег в долг и вернуть Быку две с половиной тысячи за сломанный телефон ― и тогда я еще поживу. Но взять не у кого, список потенциальных кредиторов короткий, и вряд ли кто-то сможет дать такую сумму. Обзвоню всех утром. Второй вариант Тотошкин ― убегать, если наткнемся на Быка. Завтра купим Власову сигареты, и он не сдаст нас.
С тревожными мыслями я заснула.
- Дурные дороги
- Ты убит, Стас Шутов