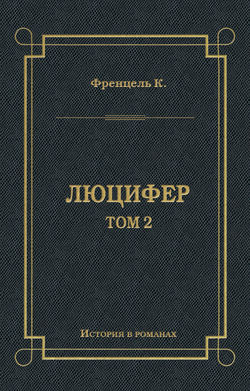© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2011
©ООО «РИЦ Литература», 2011
* * *
Часть III
Окончание
Глава III
Неожиданный приезд Наполеона смутил парижан. Все были уверены, что он в Испании, между тем как он сидел в Тюильри, составляя планы для новых войн.
Многие жестоко осуждали его, что он, не закончив покорения Испании, прервал его на половине. Кровь наших солдат текла напрасно; шайки испанских инсургентов опять соберутся в Манха и в Андалузии, и придется опять усмирять их и, быть может, с меньшими шансами на успех. Беспокоило также французов намерение императора начать третью войну с Германией. Бедняки боялись нового набора, зажиточные люди – потери состояния, так как, в случае неудачи и свержения Бонапарта, могла опять наступить революция со всеми ее ужасами.
Эгберт с удивлением заметил, что французы, несмотря на свое тщеславие и жажду славы, относились с недоверием к своему будущему. Они смеялись над мечтами Эгберта о наступлении вечного мира и устройстве всемирной монархии, где бы процветала торговля, ремесла, искусства и науки. Империя, возражали ему, в один прекрасный день распадется и исчезнет с лица земли, как дворцы фей в волшебных сказках. Наполеон, как всякий сказочный любимец счастья, забудет когда-нибудь произнести вовремя магическое слово, с которым связано его превосходство над другими людьми, и в один прекрасный день проснется таким же бессильным и простым смертным, как мы все.
Но за всеми этими толками о благе Франции и судьбе императора скрывалось общее нежелание новых приключений и риска. Это настроение заметно было не только в низших классах, но и среди маршалов и высших сановников, которые хотели спокойно наслаждаться случайно приобретенным положением и богатством. Но что могло значить настроение публики для Бонапарта! Оно не имело настолько силы, чтобы даже замедлить на один час его приказания. Тайно могли проклинать его, но внешне все покорялись ему.
С невероятною быстротою шли приготовления к новой войне: производился набор войск, без устали работали в арсеналах. После отставки Талейрана все были уверены, что Фуше будет также снят со своей должности. Но это ожидание не испугало министра полиции, испытавшего столько переворотов в своей жизни.
– Этот господин воображает, что может царствовать без нас, – сказал Фуше о Наполеоне одному из своих приятелей. – Год или два куда ни шло, а потом он будет внизу, а мы наверху. Революция поглотила Дантона и Робеспьера; не стоило труда делать ее, если она и его не поглотит.
Прежние любимцы императора с неудовольствием замечали, что со времени своего возвращения из Испании он приблизил к себе какого-то иностранца с вкрадчивыми манерами и красивой наружностью. Это был шевалье Цамбелли. Никто из придворных не знал его; только некоторые помнили, что видели его мельком при дворе вице-короля Евгения. Тотчас по прибытии своем в Тюильри император потребовал его к себе. Почти ежедневно они работали вместе: всем было известно, что шевалье приехал из Австрии, и потому не могло быть сомнения относительно сущности этих совещаний.
Событие в игорной комнате гостиницы «Kugel» имело решающее влияние на судьбу Цамбелли. Он уже давно служил императору, представил ему много доказательств своей верности, смелости и хитрости, но его заветная мечта занять видное место при французском дворе осталась неисполненной. Наполеон ценил его как ловкого и ни перед чем не останавливающегося шпиона и авантюриста, щедро награждал его деньгами, но держал его в почтительном отдалении от себя и, видимо, избегал его.
Цамбелли чувствовал эту холодность, и она была для него источником нескончаемых мучений, но когда секретарь французского посольства сообщил ему о желании императора видеть его, то это было для него пробуждением к новой жизни. Любовь к Антуанетте еще некоторое время сдерживала его честолюбивые стремления и изменнические планы, пока ему не показалось, что Антуанетта не любит его. «Она еще честолюбивее меня, – подумал он, – и только тогда будет считать меня приличной для себя партией, когда я к ней явлюсь маршалом или с титулом герцога. Я отправлюсь к Бонапарту и достигну цели моих стремлений».
Это решение окончательно созрело в его голове, когда в руках его очутилось зашифрованное письмо, переданное ему Армгартом в гостинице «Kugel». Теперь он мог смело рассчитывать на хороший прием со стороны императора.
Заручившись письмом, Цамбелли заблаговременно удалился из игорной комнаты и в ту же ночь уехал из Вены, воспользовавшись медленностью австрийской полиции. Во владениях князей Рейнского союза он был уже в полной безопасности и беспрепятственно пересек французскую границу благодаря паспорту, которым снабдил его генерал Андраши. Только в Париже Фуше задержал его на некоторое время под разными предлогами. Предполагая, что Цамбелли везет какие-нибудь важные бумаги императору, он хотел выманить их у него, чтобы присвоить себе главную заслугу. Он пробовал подкупить итальянца деньгами и, видя, что это не удается ему, задумал арестовать его. Но шевалье опередил его и обратился за помощью к парижскому префекту Дюбуа, который был заклятым врагом Фуше. Дюбуа не только предоставил ему средства, чтобы ехать в Испанию к императору, но еще сообщил ему подробные сведения о преступных действиях Фуше, его тайных совещаниях с Талейраном и сношениях с Бурбонами. Когда Фуше после некоторого колебания решился наконец арестовать Цамбелли, то тот уже выехал из Бордо.
Второго января 1808 года Витторио уже был на королевской военной дороге из Вальядолида в Кастилию и настиг императора в нескольких милях от Асторги.
Встреча произошла среди большой дороги при сильнейшей метели. Император ехал во главе своего войска; на нем была богатая шуба, подарок царя Александра I; он осадил свою лошадь, когда к нему подъехал Цамбелли в своем развевающемся плаще, держа бумаги высоко над головой.
– Депеши из Франции!
– Вы дрожите от холода, – сказал император.
Цамбелли ехал день и ночь, чтобы обогнать курьера, которого министр полиции ежедневно посылал к императору.
– Нет, от счастья видеть ваше величество, – ответил Цамбелли, спрыгнув с лошади.
Наполеон прежде всего распечатал донесение префекта Дюбуа, которое показалось ему настолько важным, что он велел развести бивачный огонь у гигантских дубов, растущих около дороги. Он пригласил шевалье к огню и около часу говорил с ним. Витторио рассказал ему ловко придуманную историю о своем бегстве из Австрии и о том, как он с опасностью для жизни овладел важными документами. С этими словами он передал императору письмо графа Стадиона, где было сказано: «1 марта 1808 года вооружение Австрии будет закончено и мы без промедления начнем войну…» Не менее важно было для императора то обстоятельство, что Цамбелли мог сообщить ему подробные сведения об этом вооружении, число полков, орудий, имена командиров и т. д.; и также относительно того направления, какое приняло народное движение в Германии за последнее время.
Бонапарт слушал Цамбелли в глубокой задумчивости. Опасность со стороны Германии была настолько очевидна, что он решился против своего желания бросить преследование англичан в Испании и немедленно вернуться в Париж.
Цамбелли приехал двумя днями раньше. Со времени разговора на дороге под дубами Асторги Витторио сделался любимцем императора. Теперь он с избытком был вознагражден за все те унижения, которые ему пришлось испытать в высшем австрийском обществе. Он собрал такие сведения о людях, их отношениях и характерах, что в ожидании новой войны с Австрией сделался необходимым человеком для Бонапарта.
– Этот итальянец точно упал с неба, – рассказывали адъютанты и придворные, сопровождавшие императора в испанском походе. – Никто из нас не слыхал даже его имени. За несколько дней он умудрился заслужить расположение подозрительного Наполеона!
– Он мог привлечь императора магнетизмом, – утверждали придворные дамы, очарованные наружностью и ловкими манерами Цамбелли.
Даже в небольшом кружке приятелей, которых собрал у себя Веньямин Бурдон, несколько раз заходила речь о шевалье. Бурдон договорился с Эгбертом, чтобы тот не упоминал о своем знакомстве с Цамбелли, так как это могло помешать свободному высказыванию мнений.
Все в один голос признавали недюжинный ум Цамбелли и его умение обращаться с людьми и предсказывали ему блестящую будущность, тем более что император чувствовал особое расположение к людям, которые, подобно шевалье, отдавшись ему, сжигали за собою мосты и возлагали на него всю надежду.
– Я вполне согласен, что он даровитее многих из прежних любимцев императора и ведет себя с большим тактом, но ведь и он пользуется незавидной репутацией, – сказал один из гостей, с умным и выразительным лицом, изрытым оспой и с преждевременно поседевшими волосами. – По-видимому, он участвовал в дурном деле…
– Да говори же яснее, Дероне, – сказал с нетерпением Бурдон.
– Мне лично ничего не известно. Но Фуше недавно, рассердившись на него за что-то, сказал: «Он забывает, что если бы я захотел, то мог бы сразу отправить его на галеры».
– Куда он отправил немало честных людей! – возразил Бурдон. – Разве ты можешь поручиться за Фуше?
Дероне и Бурдон были друзьями со школьной скамьи. Дероне был старше пятью годами и прошел через все перевороты того времени: в качестве уличного гамена участвовал во взятии Бастилии, юношей – во время приступа Тюильри – и теперь состоял на службе империи в должности комиссара сыскной полиции. Однако, несмотря на это, он оставался верным своей дружбе к Бурдону и своим республиканским убеждениям, как утверждал Бурдон.
Большинство гостей были ярыми республиканцами и близкими приятелями Бурдона, которых он угощал дружеским обедом. Все были в наилучшем расположении духа, чему немало способствовало хорошее вино.
Здесь для Эгберта наглядно выяснилась разница между двумя национальностями: французской и немецкой. В Германии разговор друзей одинаковых убеждений, перейдя из узкого круга личных интересов, неизбежно вращался бы около поэтических и философских идеалов, между тем как для гостей Бурдона и его самого ничто не имело цены, кроме политики. Эти люди в ранней юности пережили волнения революции, с ее событиями были связаны лучшие воспоминания их личной жизни. Припоминая свою молодость, они говорили о Мирабо, жирондистах, заседаниях Конвента, народных собраниях, как немцы стали бы говорить о своих школьных товарищах, учении и преподавателях. Государственная жизнь у этих людей поглотила всякую другую деятельность; к ней направлены были все их заветные желания и надежды; в ней заключалась слава и счастье как их самих, так и отечества.
На замечание Эгберта, что большинство образованного парижского общества, по его наблюдениям, занято мелочными интересами и увлекается пустяками, ему ответили, что это делается с той целью, чтобы отвлечь внимание подозрительного Бонапарта.
– Парижане, – сказал один из гостей, – во избежание его гнева делают вид, что боятся политики, как заразы. Но пусть Наполеона постигнет большое несчастье, например беспримерное поражение…
– Кто может победить его? – прервал с живостью Эгберт. – Он уничтожил лучшие войска Европы, из земли не вырастут новые.
– За границей, – заметил Бурдон, – преувеличивают силу этого человека. Его венчают лаврами; все его победы приписывают ему лично. Но что, в сущности, составляет его силу? Революция, республика. Они создали войска, перед которыми трепещет Европа. Не его орлы воодушевляют их, а мысли о свободе и равенстве. Весь вопрос в том, долго ли продлится это ослепление. Он как безумный расточает людей и богатства страны. Европа поклоняется ему, как герою. Он только ловкий и счастливый вор. Каждый из нас достиг бы тех же результатов, если бы так же бесцеремонно, как Наполеон, распоряжался средствами, предоставленными ему великой нацией в минуту заблуждения.
Против этого трудно было возражать что-либо. Эгберт вполне понимал, что республиканцы не могут простить Наполеону 18-е брюмера и низвержение республики.
– Поверьте, – добавил Дероне, – что недалеко то время, когда вся Франция открыто выразит ему свою ненависть. Он мог обуздать нас на время, но ему не удастся превратить французов в рабов. Ни один укротитель львов не умер своей смертью.
– Это говорит блюститель закона! – сказал с удивлением Эгберт.
– Да, я придерживаюсь существующих законов, пока новая революция не создаст лучших. Права народа выше закона.
Эгберт молчал. Логика революционеров возмущала его.
– Вы немец и аристократ, – сказал с улыбкой Бурдон. – Вы не можете понять нас.
– Между моими соотечественниками вряд ли нашлось бы много людей, которые бы примкнули к вашим принципам.
– Наши победы, быть может, научат вас гражданским доблестям, – высокомерно ответили ему республиканцы. – Мы надеемся, что со временем все немцы сделаются французскими гражданами.
– Предоставьте нам устраивать у себя нашу жизнь по нашему собственному усмотрению. Мы любим наше государственное устройство и учреждения и мало-помалу, не торопясь, стараемся уничтожить то, что уже устарело и отжило свой век. Кто знает, не было ли величайшей ошибкой вашего императора, что он не пощадил особенностей нашего быта и подвел нас под общую мерку.
– Скорее можно сказать, что уничтожение Германской империи, этой средневековой руины, его величайшая заслуга. В этом случае он оказался достойным сыном революции.
– Для нас Германская империя имела и всегда будет иметь значение в смысле объединения и сознания общей национальности, – сказал Эгберт. – С нею связаны наши лучшие исторические воспоминания. Наконец, позвольте вам заметить, господа, что если вы любите и защищаете свободу, то не лишайте и нас права самим распоряжаться в нашем государстве.
– Во всеобъемлющей республике все люди будут одинаково счастливы; это будет всемирное братство.
– Но если мы не желаем республики!
– Мы не можем допустить существование таких государств, как ваше, около наших границ. Мы вас принудим покориться свободе. Впрочем, мы сильнее вас; опыт показал, что мы непобедимы.
– Мы это увидим. Вы непобедимы, потому что во главе ваших войск Наполеон. Неизвестно, что будет без него. Ваши отзывы о нем крайне несправедливы.
– Вы любите угнетателя вашего отечества, месье Геймвальд! Вы первые должны желать его гибели.
– Я не люблю его, но поклоняюсь ему и нахожу странным, что французы ненавидят человека, который распространил их государство до Эльбы. Он же выполняет вашу мечту о покорении Германии. Для нас, разумеется, не существует разницы между Французской республикой и империей в том смысле, как вы говорите. Если мы должны быть под гнетом чужеземного ига, то мы скорее подчинимся, как наши предки саксы, какому-нибудь Карлу Великому, нежели республиканскому конвенту.
Эгберт замолчал. Он видел в этих республиканцах, толкующих о свободе и всемирном братстве, те же завоевательские наклонности и жажду славы, которая охватила тогда всю Францию. Разве мог Наполеон вести войну за войной, если бы французский народ не разделял его воинственных стремлений! Неразрешимую загадку представлял для Эгберта народ, который во имя свободы совершил невероятный переворот, чтобы отдать эту свободу в руки одного человека. Точно пораженные слепотой, шли французы за победителем из страны в страну, не замечая, что с каждым расширением границ своего государства они все глубже и глубже погружались в рабство. Не имея ни способности, ни сил провести в собственной стране возвышенные принципы великой революции, они как будто поставили себе задачей уничтожать счастье и независимость других народов.
Между остальными гостями в это время шел оживленный разговор о предстоящей войне с Австрией и ее последствиях для Франции в случае победы или поражения. Толковали о том, что в войске много республиканцев, и возлагали большие надежды на полковника Армана Луазеля.
«Неужели это тот Лаузель, который жил у нас в доме!» – с удивлением подумал Эгберт. Большинство присутствующих было того мнения, что не следует желать новых побед.
– Сделайте одолжение, побейте нас в этой войне, – сказал Бурдон, потрепав Эгберта по плечу. – Как ни тяжело будет для французов вынести поражение, но оно нам необходимо. Вот до чего довел нас этот человек, что мы сами желаем гибели нашему отечеству!
– Да, Австрия окажет нам этим большую услугу, – сказал другой, – а всего остального мы сами добьемся.
– Позвольте высказать вам откровенно мое мнение, – сказал Дероне, обращаясь к Эгберту. – Вам не удастся победить его. Наполеона может ниспровергнуть только революция, и притом не наша, а чужая революция. Если по ту сторону Рейна ненависть к его игу пересилит поклонение его гению, если всюду раздастся крик о мести…
– Месть за безнаказанные убийства! – воскликнул с горячностью Бурдон, вскакивая со своего места.
– Месть за попранную свободу, за несчастных, которых он погубил в Каене, – сказало разом несколько голосов.
Все молча допили свои стаканы.
– Но помимо зла, которое он сделал Франции, у меня еще личные счеты с ним! – сказал Бурдон взволнованным голосом. – Он отнял у меня отца!
Эгберт с удивлением взглянул на своего друга. Бурдон никогда не вспоминал о смерти отца и прерывал разговор, когда другие говорили об этом.
«Что заставило его самого заговорить сегодня о своем отце?» – спрашивал себя Эгберт.
– Я не могу понять, каким образом австрийская полиция не открыла ни малейшего следа преступления, – сказал Дероне, который был сыщиком по призванию и тем более интересовался таинственным приключением, что оно касалось его друга.
– Убийство совершено среди дня… Жаль, что мне не удалось расследовать это дело! Но вы, месье Геймвальд, были на месте преступления и, кажется, еще застали в живых старого Бурдона, неужели у вас не появилось никаких подозрений…
Эгберт отрицательно покачал головой.
– Он ничего не знает! – сказал с нетерпением Бурдон, который ходил взад и вперед по комнате. – Он принял участие в умирающем, какое ему дело разыскивать убийц. Вот если бы камень мог говорить!..
– Какой камень? В чем дело? Я первый раз слышу об этом, – сказал Дероне с видом охотничьей собаки, которая напала на след дичи.
– Несколько дней спустя после убийства, – начал нехотя Эгберт, – я получил опал в золотой оправе от полусумасшедшей крестьянской девушки из той местности. На камне вырезан орел. Очевидно, что эта вещь была набалдашником палки или хлыста, а так как в этой странной истории играет роль какой-то всадник, то опал, вероятно, приделан был к хлысту.
– Скажите, пожалуйста, сделаны ли были попытки отыскать всадника?
– Нет, местный судья из робости сам старался замять дело.
– Они знали, кто замешан в этом деле, – сказал Бурдон.
– Но это не помешает мне, Фуше, или, лучше сказать, правосудию воспользоваться находкой. Не можете ли вы, месье Геймвальд, показать мне этот опал или вы велели переделать его?
– Нет, – возразил, краснея, Эгберт. – Может быть, вы будете смеяться надо мной, но я всегда ношу его с собой.
С этими словами Эгберт вынул опал из кармана и подал его Дероне, который сперва ощупал его, а потом поднес к свече и стал внимательно разглядывать его.
– Ну, разумеется, – сказал он, – тут нет и следа запекшейся крови; золотой ободок совершенно гладкий; над орлом маленькая царапина, как будто от иголки. Не помнишь ли ты, Бурдон, не было ли у твоего отца хлыста с опалом?
– Нет, – ответил Веньямин.
– У несчастного Жана Бурдона в день убийства, – сказал Эгберт, – была палка с самым обыкновенным набалдашником, которая и была найдена при нем.
– Ну а кроме таинственного всадника, никто не проезжал по дороге в этот день?
– Тут начинается область предположений, позвольте мне не сообщать их.
– Да это и не по вашей части, – сказал, улыбаясь, Дероне. – Вот если бы мне поручили сделать допрос, то мы узнали бы нечто об этом деле.
Дероне опять поднес опал к свечке и стал разглядывать его против света.
– Вот тут что-то нацарапано, как будто латинское V… Если не ошибаюсь, к вам пожаловали гости, мой милый Бурдон. Кто-то поднимается по лестнице. Спрячьте опал, месье Геймвальд, он может пригодиться нам со временем.
Последняя фраза была сказана так громко, что посетитель, входя в переднюю, должен был слышать ее.
Вслед за тем явился слуга и, подойдя к Бурдону, сказал ему что-то вполголоса.
Веньямин изменился в лице.
– Он хочет видеть меня? Если он здесь, проси…
Бурдон едва успел шепнуть сидевшему возле него Эгберту: «Шевалье Цамбелли!» – как слуга отворил ему дверь.
Все встали со своих мест, любопытствуя узнать причину такого несвоевременного визита. Бурдон из вежливости сделал несколько шагов навстречу вошедшему.
– Извините меня, месье Бурдон, я не ожидал, что застану вас за обедом и среди веселого общества, – сказал Цамбелли своим звучным голосом, но с видимым смущением на лице, которое он не мог скрыть, несмотря на свой светский навык. – Но меня послала ваша пациентка, мадемуазель Атенаис Дешан… Она заболела внезапно.
– Как это случилось? Где? Когда? – спросило разом несколько голосов.
– Вероятно, с ней был опять нервный припадок, – заметил Бурдон, взяв со стола свою шляпу.
– Вы не ошиблись, – сказал Цамбелли. – Я оставил ее в сильнейших судорогах. Если мне позволено будет выразить мое мнение, то, по-видимому, это сделалось с нею вследствие сильного волнения, так как она рассердилась до бешенства. Окружавшие ее знакомые вспомнили о вас, как о единственном докторе, которому верит больная; и я, не теряя ни минуты, бросился в карету, чтобы привезти вас.
Чувство обязанности пересилило в Бурдоне все другие соображения; но он не решился ехать один с шевалье и попросил Эгберта сопровождать его.
– Не поедете ли вы со мной, мой друг Геймвальд? – сказал он. – Вы изучали медицину и можете дать мне добрый совет. Надеюсь, что вы, месье Цамбелли, ничего не имеете против этого?
– Напротив, – ответил Цамбелли с вежливым поклоном, – я считаю за честь и удовольствие возобновить мое случайное знакомство с месье Геймвальдом.
Он говорил спокойно, и на лице его не видно было теперь ни малейшего волнения.
Бурдон, уходя, извинился перед своими гостями, что должен оставить их, и выразил надежду, что скоро вернется назад.
Перед домом ждала карета. Витторио сел в нее последним; и они быстро понеслись по улицам.
Дешан жила на другом берегу Сены, поблизости от Итальянского бульвара. Трудно передать все разнообразные ощущения этих трех людей, случайно запертых в тесном пространстве покачивающегося экипажа. Окружавшая их темнота, при слабом мерцании крошечного каретного фонаря на козлах, скрывала их лица своим благодетельным покровом. Сотни раз Витторио проклинал в душе свою злополучную фантазию ехать за Бурдоном. Какое ему было дело до жизни или смерти певицы! Разве около нее было мало людей, которые могли исполнить это не хуже его, вот, например, Арман Луазель, виновник несчастного приключения. Цамбелли даже не мог никого обвинять в этом, потому что сам вызвался на рыцарскую услугу. Разумеется, тут немалую роль играло желание познакомиться с сыном Жана Бурдона. Но какая надобность была торопиться с этим; разве не мог представиться другой, не менее удобный случай! Цамбелли глубоко верил в фатализм, и все его рассуждения привели к тому, что он печально опустил голову с мыслью: «Так должно быть! По крайней мере, я увидел своего врага и буду знать, чего я могу ждать от этого человека». Смутное предчувствие говорило ему, что Бурдон подозревает его в убийстве своего отца. Теперь он едет с ним в одной карете и с Геймвальдом, которого он еще сильнее ненавидел. От обоих он мог ожидать для себя всего самого худшего. По временам кровь приливала к его голове, и ему казалось, что он видит при мерцающем свете фонаря стальной блеск кинжала. Ему хотелось броситься из кареты и позвать на помощь; но горло его было как в тисках, и он не мог шевельнуть рукой, которая точно приросла к рукоятке ножа, спрятанного у него на груди. Но вслед за тем он опять успокаивался и убеждал себя, что все это только игра его расстроенного воображения. По его мнению, не только Эгберт, но и Веньямин не способны были на решительное дело. Наконец, в чем могли они уличить его? Разве милость Наполеона недостаточно ограждала его от всяких нападок и опасностей? Если бы известные желания и взгляды могли бы убивать людей, то спутники Цамбелли не доехали бы живыми до места. При этой мысли Цамбелли едва не расхохотался вслух.
«Чего только не бывает на свете! – думал между тем Эгберт. – Сын убитого следует за убийцей по первому зову. Они едут вместе к больной, а там возможно большее сближение. Что за бездна лжи и притворства во всем этом! А ты сам? – спрашивал себя Эгберт. – Какую роль играешь ты в этой драме? Отчего ты не встанешь со своего места и не закричишь ему: убийца! Разве не подтверждается подозрение, которое ты имел против него? Покажи ему опал: ты увидишь, как он побледнеет от ужаса. Ты колеблешься, разве ты хочешь играть роль укрывателя убийцы! – Но чем дальше думал Эгберт, тем больше терялся он в лабиринте сомнений и догадок. Разве он знал причину гибели Жана Бурдона! «Несчастный! – мог ему сказать Цамбелли. – Ты хочешь осудить на постыдную смерть графа Вольфсегга – они вместе с Жаном Бурдоном составляли заговор против жизни французского императора, иначе австрийская судебная власть и сам граф не прервали бы процесса об убийстве таким неожиданным образом, а Веньямин не избегал бы так старательно всякого намека на эту таинственную историю». – Если люди, близко стоявшие к Жану Бурдону, считают нужным щадить убийцу, то какое право имеет он подымать это дело; разве он может предвидеть все последствия своего заявления. Как спокоен Бурдон! Он, по-видимому, исключительно занят мыслью о больной и уже несколько раз обращался к Цамбелли с разными вопросами относительно ее здоровья и причин, вызвавших припадок».
Витторио давал определенные, но крайне односложные ответы. Из его слов можно было понять, что в одной из зал Пале-Рояля собралась за обедом веселая компания; тут была и мадемуазель Атенаис Дешан с другими оперными певицами и танцовщицами. Атенаис была остроумна, как всегда, и в таком хорошем расположении духа, что ничто не предвещало приближения болезни. Разговор был самый оживленный, рассказывались анекдоты и забавные приключения. Но тут один из присутствующих офицеров, без всякого умысла, упомянул в разговоре о какой-то давнишней привязанности мадемуазель Атенаис. Та покраснела и рассердилась. Затем они довольно резко поговорили друг с другом, и Атенаис схватила нож и бросила его в своего противника.
– Весьма возможно, – добавил Цамбелли, – что ярость бедной женщины относилась к коварному возлюбленному, и ее раздражил неуместный намек. Мы все, разумеется, вскочили со своих мест и поспешили прекратить неприятную сцену. Атенаис при этом лишилась чувств и упала на пол в страшнейших судорогах. Приятельницы увезли ее домой, а я поспешил к вам за помощью.
В этом рассказе не было ничего нового для Бурдона, если только Цамбелли не скрыл самого главного. Бурдон давно лечил знаменитую певицу, знал, насколько она раздражительна и капризна, и объяснял это дурным состоянием ее здоровья, расстроенного долгим пребыванием на сцене. Не могло удивить его и то обстоятельство, что неловкий намек на прошлое Атенаис произвел такое потрясающее действие на ее нервы. Вероятно, немало было у нее как хороших, так и горьких воспоминаний, которых она не могла забыть, несмотря на годы и ряд новых впечатлений.
Карета остановилась. Шевалье поспешно отворил дверцы и, очутившись на улице, вздохнул свободно, как будто вырвался из душной темницы. Он огляделся и поднял голову. Над ним было ясное небо, усеянное звездами; кругом тишина зимней безветренной ночи. Но он не был астрологом и не мог вывести никаких заключений, глядя на эту массу блестящих точек и созвездий. Он не знал, должен ли он радоваться, что избавился от опасности, или упрекать себя, что не воспользовался случаем и не покончил со своими врагами. «Ты мог бы уложить их на месте двумя ловкими ударами кинжала, – сказал он себе. – Но разве это спасет тебя? Ты только тогда можешь считать себя вне опасности, если ты окончательно избавишься от той, которая может все выболтать. Я не знаю, способны ли мертвые чувствовать и думать, но говорить они не могут…»
С этими мыслями Цамбелли вошел в дом в сопровождении своих спутников.
Атенаис лежала на ковре в своей комнате в нарядном платье, которое было на ней во время обеда; правая рука ее судорожно сжимала изорванную шаль; густая коса упала с головы и рассыпалась длинными прядями. Припадок еще продолжался. Судороги сменялись слезами и порывами бессильной ярости. Лицо несчастной было искажено болью и гневом; время и страсти отложили на нем свой неизгладимый отпечаток. Эгберт с удивлением спрашивал себя: неужели это та самая красивая женщина с наружностью Юноны, которую он видел в Тюильрийском саду при солнечном свете? Это был тот же мрамор, но поврежденный временем и земною пылью.
Из всех приятельниц Атенаис только одна Зефирина не покинула ее и осталась ухаживать за нею вместе с горничной. Но обе девушки были так беспомощны, что не могли ничего сделать для успокоения больной, и только приезд доктора несколько ободрил их.
Эгберт и Цамбелли удалились в соседнюю комнату, между тем как Бурдон приказал раздеть больную и уложить в постель. Голос и присутствие Бурдона всегда успокаивающе действовали на Атенаис, она узнала его и послушно повиновалась его приказаниям.
– Я больше не нужен, – сказал шевалье Эгберту, когда Зефирина выбежала к ним с радостным известием, что больной лучше. – Передайте мой поклон и благодарность господину Бурдону. Завтра мы опять увидимся с ним.
Несколько минут спустя Эгберта позвали в спальню. Больная наконец заснула тревожным сном, который беспрестанно прерывался бредом.
Бурдон попросил Эгберта посидеть у постели, пока он даст необходимые наставления обеим девушкам и пропишет лекарство.
Несмотря на участие Эгберта к несчастной женщине, он почти не прислушивался к ее бреду, который становился то громче, то переходил в неясное бормотание. Он видел Атенаис второй раз в своей жизни: какой интерес могло иметь для него прошлое певицы и все то, что могла подсказать ей разгоряченная фантазия. Его занимал вопрос – какие последствия будет иметь для него и Бурдона встреча с Цамбелли, и чем больше думал он об этом, тем сильнее было беспокойство, охватывавшее его душу.
Хотя больная по-прежнему металась на постели, но бред сделался слабее, и она только изредка вскрикивала и стонала. Наконец, мало-помалу, припадок кончился; черты лица разгладились и сделались опять красивыми и моложавыми. Это лицо поразило Эгберта, когда он взглянул на него, очнувшись от своего раздумья. Оно живо напомнило ему дорогое для него существо. Зависело ли это от матового освещения лампы, или сходство было вызвано игрой его фантазии, которая обманчиво представляла ему милый образ, но впечатление осталось, как ни старался Эгберт отделаться от него. Он не решался произнести имя той, которая была для него олицетворением всего лучшего и святого. Даже воспоминание о ней в комнате парижской певицы казалось ему святотатством.
- Ричард Львиное Сердце
- Тень великого человека. Дядя Бернак (сборник)
- Звезды Эгера. Т. 1
- Иезуит
- Пленный лев
- Под развалинами Помпеи. Т. 1
- Агония
- На пути к плахе
- Золотой саркофаг
- Флибустьеры
- На троне Великого деда. Жизнь и смерть Петра III
- Авантюристы
- Тайны народа
- Замок Монбрён
- Кадис
- Георг Енач
- Король без трона. Кадеты императрицы (сборник)
- Смерть консулу!
- Фавор и опала. Лопухинское дело (сборник)
- Царь-девица
- От тьмы к свету
- Люцифер. Том 1
- Люцифер. Том 2
- Жребий брошен
- Девяносто третий год
- Аттила
- Последние римляне
- На изломе
- Под развалинами Помпеи. Т. 2
- Регенство Бирона. Осада Углича. Русский Икар (сборник)
- Царь-колокол, или Антихрист XVII века
- Гладиаторы
- Кубок орла
- Гвардеец Барлаш
- Господин Великий Новгород. Державный Плотник (сборник)
- Дьявол
- Розы и тернии
- Звезды Эгера. Т. 2
- Ганзейцы
- Под небом Эллады
- Пагуба. Переполох в Петербурге (сборник)
- Спартак. Том 1
- Спартак. Том 2
- Люцифер. Том 1
- Люцифер. Том 2