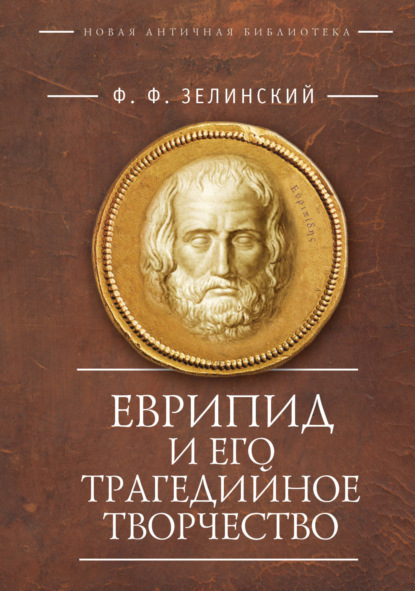Еврипид и его трагедийное творчество: научно-популярные статьи, переводы
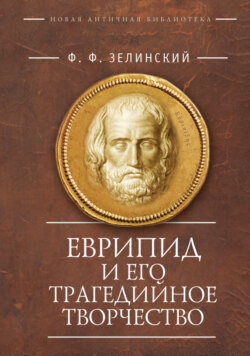
000
ОтложитьЧитал
Очень вероятно, что именно эта потребность сблизила его с Еврипидом, этим модернистом среди греческих поэтов; русский Еврипид – это и есть тот нерукотворный памятник, который себе воздвиг Иннокентий Федорович. Замечу тут же, что этот памятник закончен – его судьба хоть в этом отношении была милостива и к нему и к нам. Правда, в ту минуту, когда я пишу эти строки, только первый том (шесть драм) имеется в печати. Но в рукописи готов весь перевод, готовы и вступительные статьи; они вместе заполнят еще два тома, и наследник его прав и имени, конечно, сделает все от него зависящее, чтобы эти два тома увидели свет и в наиболее скором времени, и при наилучших условиях. Конечно, отсутствие авторской корректуры даст знать о себе; Иннокентий Федорович, вообще творивший быстро, предполагал еще раз просмотреть свои переводы, особенно старые, сличить их с подлинником; выровнять их с точки зрения стиля. «С декабря месяца я иду в затвор», – шутливо говаривал покойный, когда к нему приставали по поводу продолжения его Еврипида. Это значило, что переводчик намерен уединиться со своим автором: его письменный стол покроется его любимыми белыми цветами, и он будет черпать двойное вдохновение от аромата тубероз и аромата Еврипидовой поэзии… Обидно думать, как был понят и исполнен судьбою этот шутливый обет.
Сосредоточимся, однако, на том, что у нас в руках. Дав тотчас по выходе первого тома его подробную оценку12, я здесь не намерен повторяться. Но одного предупреждения нельзя не повторить. То, что нам дал Иннокентий Федорович, – это не просто русский Еврипид, а именно русский Еврипид И. Ф. Анненского, запечатленный всеми особенностями его индивидуальности. Мы можем сколько угодно отмечать его несогласие с подлинным Еврипидом; но если бы мы пожелали – и смогли передать последнего по-своему, то все-таки вышел бы именно наш Еврипид, а не Еврипид просто. Специально Иннокентий Федорович очень дорожил индивидуальными особенностями своего перевода и сдавался только перед очевидностью. Помнится, я в одной статье процитировал одну выдержку из Еврипида в его переводе. Я в этих случаях следую совету Берне в его прекрасной статье о «критическом лаконизме»: если замечаю явную ошибку, то исправляю ее молча. Встретив, однако, Иннокентия Федоровича в Обществе, вижу по его лицу, что ему моя корректура не понравилась. Так как он сидел далеко, то я посылаю ему записку: «Отчего Вы не в духе?» Отвечает: «Отчего Вы изменили стих (такой-то) моего перевода?» Отвечаю: «Оттого, что в нем шесть стоп», – и слежу за эффектом своей записки. Первый эффект – недоумение; второй – счет по пальцам; третий – кивок и примирительная улыбка. Так и теперь, характеризуя Еврипида И. Ф. Анненского, я отмечаю его различия от моего Еврипида. А убедила бы моя критика покойного переводчика – еще вопрос…
Рассудочный характер античной поэзии ведет к тому, что ее мысли сцеплены между собою либо взаимной подчиненностью, либо всякого рода союзами и частицами. Это для переводчика один из главных камней преткновения. Русская поэзия периодизации не терпит и бедна союзами; приходится сплошь и рядом нанизывать там, где античный поэт сцеплял, разбивая его цепи на их отдельные звенья. Возьмем, для примера, несколько стихов из монолога Медеи, тотчас по удалении обманутого ею Креонта. В точном прозаическом переводе они гласят так: «Он же дошел до такого неразумия, что, имея возможность, изгнав меня из земли, этим (заранее) уничтожить мои замыслы, разрешил мне остаться этот день, в течение которого я обращу в трупы троих моих врагов – отца, дочь и моего мужа». Нечего говорить, что в поэзии этот перевод невозможен; у Иннокентия Федоровича мы находим:
О, слепец!
В руках держать решенье – и оставить
Нам целый день… Довольно за глаза,
Чтобы отца, и дочь, и мужа с нею
Мы в трупы обратили… ненавистных.
Полезно сравнить его перевод шаг за шагом – так ясна здесь расчленяющая работа переводчика, заставившая его даже, ради эффектности антитезы, пожертвовать частью содержания второго стиха. В этом можно видеть недостаток перевода; но переводчик нам ответит, что иначе пришлось бы пожертвовать поэзией – и будет прав.
Прав – в данном случае; но не всегда. Не раз соблазн расчленения и нанизывания доводит переводчика до того, что он им не облегчает, а затрудняет понимание своего автора. Возьмем опять пример – знаменитый монолог Федры в первом действии. Его рассудочность вырастает из самого характера героини; она так естественна, что с ее устранением пропадает и поэзия. Вот точный прозаический перевод начала: «Уже и раньше в долгие часы ночи я размышляла о том, что именно разрушает человеческую жизнь. И я решила, что не по природе своего разума люди поступают дурно – благоразумие ведь свойственно многим – нет, но вот как должно смотреть на дело. Мы и знаем, и распознаем благо; но мы его не осуществляем, одни из вялости, другие потому, что они вместо блага признали другую отраду жизни». У Иннокентия Федоровича мы читаем:
Уже давно в безмолвии ночей
Я думою томилась: в жизни смертных
Откуда ж эта язва? Иль ума
Природа виновата в заблужденьях?..
Нет – рассужденья мало – дело в том,
Что к доброму мы не стремимся вовсе,
Не в том, что мы его не знаем. Да,
Одним мешает леность, а другой
Не знает даже вкуса в наслажденье
Исполненного долга.
Бедная Федра, так гордящаяся беспощадной последовательностью своего рассуждения, в этом случае, думается мне, имела бы право слегка попенять на своего переводчика.
Этот «соблазн расчленения», как я его назвал, может быть изобличен еще одной, чисто внешней приметой. Как издатель, я люблю при интерпункции пользоваться всеми знаками современного препинания, включая и многоточие. И тут я убедился, как редко удается вставить этот знак в текст подлинной греческой трагедии; по-видимому, такие места сознавались и автором и его публикой как места сильного драматического эффекта. У переводчика, напротив, это один из наиболее встречаемых знаков; в одном монологе Медеи, из которого я привел выше выдержку, он встречается 19 раз, занимая место непосредственно после запятой (32 раза). Отсюда видно, что дикционная физиономия Еврипида, если можно так выразиться, у его переводчика должна была сильно измениться. И это ведь – только пример.
Но тут уже ничего не поделаешь. «Всякий перевод есть метемпсихоза» – сказал гениальный филолог и переводчик У. Ф. Виламовиц; будем же довольны хоть тем, что в данном случае Еврипид претворился в такой тонкой и интересной душе. Зато по другому пункту я не сомневаюсь, что автор сам исправил бы свои первоначальные переводы. Как человек талантливый, но прихотливый, он творил неровно, в зависимости от своего настроения; рядом с изящными поэтическими оборотами у него встречаются вульгарные прозаизмы. В этом факте ему пришлось самому убедиться не так давно при постановке «Ифигении-жертвы» («Авлидской») в его переводе. В нем были такие места, как:
Но Эллада, царь, Эллада! Ей за что же достаётся?
Или:
А за деньги власть купивши, промахнешься, толстосум! —
в обращении Менелая к Агамемнону. Актер, исполнявший роль Менелая, отказался произнести подчеркнутые слова – и был, разумеется, вполне прав. Он помог себе тем, что попросту пропустил их – публика, дескать, не заметит. Но читатель не может не заметить зияния в поэтическом тексте. И можно только желать, чтобы в экземпляре покойного, по которому будут печататься не вошедшие в I том трагедии, эти и им подобные места оказались исправленными. Особенно в этом нуждаются «Вакханки», что и не удивительно: это был первый труд Иннокентия Федоровича.
Мы говорили до сих пор об одних переводах, но было бы несправедливо обойти молчанием его вводные статьи к отдельным трагедиям, которые он издавал как предисловия или послесловия к своим переводам.
Чаще всего это были сравнительные анализы: Иннокентий Федорович брал одну из обработок Еврипидовых сюжетов и сопоставлял с ними оригинальную трагедию, удачно оттеняя последнюю при помощи первых. Его широкая начитанность, его тонкое понимание художественности выступали при этом в полном блеске, и достаточно сравнить с его рассуждениями убогие характеристики, например, Веклейна в его распространенных немецких изданиях Еврипида, чтобы убедиться в громадном превосходстве русского толкователя. Конечно, и эти вводные статьи будут изданы вместе с переводами; и когда это будет сделано – русская интеллигенция будет иметь в «Театре Еврипида» И. Ф. Анненского завидное по своей полноте руководство для изучения греческого трагика – руководство, к которому она, надеемся, будет обращаться не раз.
V
Античность далеко еще не сказала нам своего последнего слова.
Еще лет десять назад такое заявление было бы сочтено парадоксом в рядах нашей интеллигенции; теперь оно может уже не опасаться серьезных возражений.
Не раз беседовали мы с покойным на эту тему, не раз рисовали себе картину грядущего «славянского Возрождения» как третьего в ряду великих ренессансов после романского – XIV и германского – XVIII веков. Когда оно наступит? На первых порах – это было, когда мы вместе заседали в комиссии покойного Н. П. Боголепова, – настроение ввиду окружающей мглы было довольно унылое, и не помню уж, который из нас варьировал по этому поводу мессианский вздох Адриановой эпохи: «Трава будет расти из наших челюстей, дорогой друг, а обетованного Возрожденца все еще не будет». Но с годами дело шло все лучше и лучше.
А впрочем – исход не в нашей власти. В нашей власти только одно – работать и работать. Иннокентий Федорович работал сколько мог. И мы уверены: когда ожидаемое возрождение наступит – имя Иннокентия Федоровича как одного из его предтеч озарится новым блеском. О нем вспомнят как об одном из немногих, которые в трудную минуту нашей культурной жизни не бросали товарищей, не бежали с поля, не предавались малодушию. А его «Еврипид» займет почетное место в литературе «нового возрождения» как книга-дело, как книга-знамя. Она и при жизни своего автора вербовала сердца для нового направления; она с не меньшей энергией будет это делать после его смерти.
Таково культурное значение сошедшего в раннюю могилу деятеля.
1910
«Театр Еврипида»
Том I
Предисловие редактора
Как автор и переводчик, я всегда старался быть кратким в своих предисловиях; но здесь, выступая впервые в ответственной роли редактора чужого посмертного труда, я прошу позволения сказать обстоятельнее о принципах, которыми я счел долгом руководиться.
Мой покойный друг Иннокентий Федорович Анненский намерен был дать русской публике «всего» Еврипида в своем стихотворном переводе. Первый том был им выпущен в издании товарищества «Просвещение» в 1906 г.; его преждевременная трагическая смерть 30 ноября 1909 г. не дозволила ему выпустить остальные.
В рукописи однако перевод всех 19 драм Еврипида (включая «Реса») был уже закончен; было также написано и большинство вводных статей. Почему, тем не менее, издание его «Еврипида» не было продолжено – об этом говорить не мне.
В 1914 г. все наследие покойного по Еврипиду с изданным уже томом I включительно перешло в собственность М. В. Сабашникова и он обратился ко мне с предложением взять на себя его редакцию для античной серии «Памятники мировой литературы». Отказ с моей стороны был невозможен: помимо моей любви к покойному и интереса к нашему общему делу, на меня действовало и усердие, проявленное издательством М. и С. Сабашниковых в видах обеспечения русской публике труда жизни И. Ф. Анненского.
Первый вопрос, который мне пришлось решить, касался порядка драм Еврипида в новом издании. Принятый переводчиком для первого тома (издания 1906 г.) был несколько произвольным – наполовину хронологическим, наполовину эстетическим, – и по нему никак нельзя было догадаться, как он намерен был продолжать; но даже для первого тома его нельзя было сохранить в новом издании, так как его формат не дозволял помещать более четырех драм в каждом томе. Принять хронологическое расположение, которое переводчик считает «самым естественным», было бы непрактично: во-первых, оно для большинства драм гадательно, а во-вторых, при значительно большем числе томов в новом издании читателю, не знакомому с хронологией, пришлось бы долго искать требуемую трагедию. Преимущество же хронологического порядка не особенно ощутительно у драматического писателя, так как никто не читает по нескольку драм в один присест. По зрелом размышлении я решился – по примеру Кирхгоффа, Наука, а также и издателей Плавта – принять порядок алфавитный и наметил следующий состав томов предпринятого издания:
Том I. «Алкеста», «Андромаха», «Вакханки», «Гекуба».
Том II. «Гераклиды», «Геракл», «Елена», «Ипполит».
Том III. «Ифигения Авлидская», «Ифигения Таврическая», «Ион»13, «Киклоп».
Том IV. «Медея», «Орест», «Просительницы», «Рес».
Том V. «Троянки», «Финикиянки», «Электра», Послесловия14.
Том VI. Отрывки (их Иннокентий Федорович не успел перевести, так что этот том будет моим).
Этот порядок представляет еще то удобство, что уже в первом томе читатель получает три новых трагедии, и в том числе две, еще нигде не появлявшиеся: «Андромаху» и «Гекубу». Правда, для редактора именно он по случайному совпадению сосредоточил большинство трудностей на первом же томе. Дело в том, что в бумагах покойного к двум только что названным трагедиям вводных статей не оказалось; мне пришлось поэтому написать их самому. Что касается «Вакханок», то обильные статьи, которыми переводчик снабдил свое издание 1894 г., по своему характеру для полного издания непригодны – не говоря уже о том, что они, как появившиеся раньше классической книги Роде «Psyche», должны считаться устаревшими. Пришлось мне поэтому и эту статью написать самому.
Сложнее и деликатнее вопросы, касающиеся редакции самих переводов. В этом отношении труд покойного распадается на четыре неодинаковых по своей законченности категории.
В первую, наименее законченную, входят «Вакханки». Их Иннокентий Федорович еще в 1894 г. выпустил отдельной книгой – это был его первый опыт по переводу Еврипида, и он вызвал суровую критику академика П. В. Никитина. Он был крайне раздражен этой критикой, и я, одинаково уважая обоих выдающихся эллинистов, избегал заводить с ним разговор о ней. Тем приятнее было мое удивление, когда он, уже в последние годы своей жизни, сам однажды о ней заговорил, признал ее основательность и выразил намерение подвергнуть свой перевод коренной переработке. Так как этого намерения он не успел осуществить, то я счел своим долгом осуществить его за него; эта трагедия потому предстанет перед читателем в наиболее обновленном виде.
Вторую по законченности категорию составляют переводы, написанные им в последующие годы, но нигде еще не напечатанные; третью – напечатанные в разных периодических изданиях и для них, следовательно, просмотренные; четвертую – те шесть, которые попали в издание 1906 г. Впрочем, моя редакционная работа лишь количественно облегчалась по мере этого восхождения; качественно она оставалась той же, обнимая следующие случаи: 1) погрешности против греческого текста – от таковых никто не обеспечен, а редактору их легче обнаружить, чем переводчику, тем более такому увлекающемуся, каким был Иннокентий Федорович; 2) погрешности против тех принципов русского стихосложения, которые признавал Иннокентий Федорович, – т. е. в белом стихе шестистопные и (реже) четырехстопные стихи, а равно и дактилические окончания, а в лирических размерах – нарушение строфического соответствия там, где он к таковому стремился. Впрочем, даже изменяя его перевод, я все же старался сохранить по возможности его материал слов. Принципиально не касался я языка – даже там, где он явно переступал положенные переводчику пределы. Выясню это на примере. В «Алкесте» стих 108 Иннокентий Федорович переводит:
По сердцу и мыслям провел ты
Мне скорби тяжелым смычком.
В подлиннике просто: «Ты коснулся души, коснулся мыслей»; но не в этом суть. Всем известно, что ни скрипок, ни смычков древность не знала: да, но ведь и Иннокентий Федорович это прекрасно знал. Если он, тем не менее, так перевел, значит, он особенно дорожил этим изысканным оборотом. На мой личный вкус, в нем мало хорошего, и если бы я мог, я бы посоветовал Иннокентию Федоровичу от него отказаться. Но так как я знаю наверное, что он бы меня не послушался, то я и не счел себя вправе изменить его перевод.
Впрочем, ряд изменений был вызван и текстом, который я счел долгом положить в основу перевода: это – законченное уже после смерти Иннокентия Федоровича оксфордское издание Murray, ныне по всеобщему признанию лучшее издание текста Еврипида.
Скажу откровенно: все эти изменения я предпочел бы внести в перевод Иннокентия Федоровича молча, согласно тому своему принципу, о котором я сказал в своем слове, посвященном памяти покойного15. К сожалению, заключенный с наследником издателем контракт обязует меня «оговаривать внесенные в текст изменения», т. е. объявлять urbi et orbi, сколько недосмотров я нашел в труде моего покойного друга. Я это сделал самым простым образом в «объяснительных примечаниях», помещенных за текстом, а здесь даю отчет в принципах, которыми руководился.
Кстати об этих примечаниях. Покойный, как показывает его первое предисловие, не намерен был их прибавлять; он боялся ими «отпугнуть читателя-неспециалиста». Думаю, что при условии помещения за текстом они никого отпугнуть не могут; с другой стороны, были и соображения в пользу их. Во-первых, полного комментированного издания Еврипида не существует, ни в нашей литературе, ни в заграничной. Во-вторых, желательно было привести это издание в гармонию с другими изданиями античной серии «Памятников мировой литературы», и в особенности с моим переводом Софокла. В-третьих, и мне как редактору приятно было иметь место в книге, в котором я мог бы беседовать с читателем от себя лично…
Такова была моя редакторская работа по «Театру Еврипида». Две дорогие тени витали надо мной во время ее исполнения – тень автора и тень переводчика. Не всегда их требования были согласны между собой; в этих случаях я поступал так, как желал бы, чтобы – в дни, вероятно, уже не очень отдаленные – было поступлено с моим собственным наследием.
Петроград,
декабрь 1915
В интересах тех, кто желал бы прочесть драмы Еврипида в их временной последовательности, прилагаю их – повторяю, гадательную – хронологию, печатая курсивом заглавия тех трагедий, время постановки которых известно:
«Алкеста» (438),
«Медея» (431),
«Гераклиды»,
«Ипполит» (428),
«Киклоп»,
«Гекуба»,
«Андромаха»,
«Геракл»,
«Просительницы»,
«Троянки» (415),
«Ифигения Таврическая»,
«Ион»,
«Электра»,
«Елена» (412),
«Финикиянки»,
«Орест» (408);
посмертно – «Вакханки», «Ифигения Авлидская».
I. «Алкеста» и «Медея»
1. Еврипид в переводе И. Ф. Анненского
I
Прошу понимать это шаблонное заглавие не в шаблонном его смысле: не передача русскими стихами шести трагедий Еврипида составит содержание моей статьи, хотя, конечно, речь будет и о ней. И. Ф. Анненский – вовсе не переводчик в обыкновенном смысле слова, не толмач, старающийся только своими словами передать непонятную для его среды речь подлинника. Еврипид для него – часть его собственной жизни, существо, родственное ему самому, и притом родственное как схожими, так и контрастирующими чертами своего естества. Его он воспринял, в него он вчувствовался всею своей душой; и этого усвоенного им Еврипида он передает своим читателям. Для этой полной передачи одного только «перевода» в тесном смысле слова было мало: никакое искусство толмача не может передать той борьбы постигающего ума с постигаемым предметом, тех перипетий вчувствования, результатом которых является воскрешение переводимого в душе переводчика. За каждой из переведенных драм следует как дополнение к ней объяснительная статья; лишь вместе взятые они дают нам в полной мере «Еврипида в переводе И. Ф. Анненского»16.
Но, могут спросить, не содержится ли в этом понимании умаления ценности книги? Ведь в сущности читатель требует от переводчика «настоящего», а не преломленного автора. И действительно, стоит где бы то ни было появиться оригинальному, колоритному, одним словом – художественному переводу, как тотчас же выступает на сцену критик с заявлением, что переводчик дал нам своего собственного, а не «настоящего» автора. А настоящий автор – если спросить критика, – получится, если провести подлинник через механический аппарат словаря и грамматики… Нет плачевнее ошибки: никогда безжизненное не будет передачей жизни. Субъективизм в художественном переводе неизбежен; его же право на внимание читателей стоит в прямой пропорции с интересностью самого «субъекта».
В сущности, называя перевод Иннокентия Федоровича художественным, мы этим самым называем его субъективным; в чем оправдание этого субъективизма – на это я намекнул только что. Душа у переводчика – тонкая, изящная, нежная; кто читал хотя бы его «Книгу отражений», всецело посвященную эстетической критике произведений новой русской литературы, тот знает, что он всего менее – узкий специалист. Сам художник формы в широком и глубоком значении этого слова, он и у других любит и ценит изысканность; ему дорог оттенок, дорога прихотливость, запечатленная печатью живой, желающей и выбирающей души. Стоит ли после этого говорить, насколько интересно «отражение» в этой душе такого нюансированного и прихотливого поэта, как Еврипид? Но в чем же тогда задача критики? Я не могу критиковать Еврипида Иннокентия Федоровича иначе, чем противопоставляя ему того, который отразился в моей собственной душе: то есть, разумеется, такого же субъективного. Это – условие неизбежное, lex operis. Но в данном случае оно вместе с тем и выгодно; кто бы из нас ни был прав – несомненно, что концепция Иннокентия Федоровича будет наилучшим образом оттенена благодаря такому сопоставлению или противопоставлению, а это и есть задача настоящей статьи.
Сначала, однако, несколько слов о самом переводе в тесном смысле слова. Я назвал его художественным; это не значит, однако, что строгий к требованиям формы читатель нигде не встретит пищи для критики. Наш переводчик – художник, да, но художник прихотливый и нетерпеливый, повинующийся своему настроению, творящий неравномерно, сообразно с чередованием прилива и отлива вдохновения – и это чередование оставило свои следы на самом переводе. Кроме того, на нем сказалось также, думается мне, влияние одной иллюзии, которой переводчики часто бывают подвержены: творя в полном, интимнейшем знакомстве с подлинником, они нередко бывают склонны допускать такие обороты, которые именно при этом знакомстве непосредственно понятны и поэтому остаются темными для неподготовленного читателя. Есть, затем, и такие места, относительно которых критик как филолог мог бы поспорить с переводчиком. Но, конечно, не о них буду я говорить в этой статье, да и вообще не об особенностях перевода как такового: о нем достаточно сказанного, с прибавлением, что при всем том перевод Иннокентия Федоровича остается переводом художественным и занимает очень почетное место в русской переводной литературе. Спешим перейти от частностей к целому – к отражению Еврипида в душе переводчика.
Впрочем, и это целое может быть постигнуто лишь в частностях; к тому же последние далеко не все еще налицо. Но дело не в числе; среди переведенных трагедий находятся такие замечательные, такие характерные для гения Еврипида, как «Алкеста» и «Медея». В то же время они – наиболее ранние из сохранившихся и в книге помещены первыми; естественно, что и в объяснительных к ним статьях переводчику пришлось особенно часто касаться принципиальных вопросов. Последуем же за ним в эту вечно живую, вечно интересную область.
Но тут мы с первых же шагов встречаем заставу. «Ценность поэтического объективирования и даже его психологическая правда, – говорит Иннокентий Федорович, – еще очень сомнительны. Красота поэзии заключается прежде всего в свободном и широком проявлении поэтической индивидуальности, и узы натуралистической школы нисколько не менее стеснительны и условны, чем какие-нибудь наивные единства Пьера Корнеля». С последним отрицательным суждением я не прочь согласиться; но положительное? Так и видно, что его дает поэт и немножко, думается мне, pro domo sua. Читатель же скажет: это – не решение вопроса, а лишь отсрочка решения. В «Гамлете» свободно и широко проявляется поэтическая индивидуальность его автора; но, право же, в «Петухе» нашего общего знакомого Ивана Ивановича она проявляется ничуть не хуже. Почему же мы первого славим, а второго нет? Очевидно, потому, что ценность обеих индивидуальностей неодинакова. Итак, спор переносится только на другую почву. Мы выпустили птичку из клетки в комнату; сомневаюсь, чтобы здесь было легче ее поймать.
Но этот спор, пожалуй, слишком крупного калибра для небольшой статьи; вернемся к «Алкесте» и «Медее».
II
Что такое «Алкеста»? Молодому фессалийскому царю Адмету роком дарована милость, чтобы он мог, когда приспеет день его безвременной кончины, вместо себя отправить охотника в царство мертвых. День наступает; но никто из близких, ни старик-отец, ни старуха-мать, не согласны умереть за Адмета, соглашается лишь его молодая жена Алкеста. Она умирает. В омраченный дом является скиталец – Геракл: долг гостеприимства велит Адмету принять его и – чтобы гость не отказался от приглашения – скрыть от него свое несчастье. Все же Геракл узнает о нем случайно; чтоб услужить другу, он отбивает Алкесту у бога смерти и возвращает ее в дом ее мужа.
Что такое «Медея»? Ясон отправился к царю Ээту добывать золотое руно; он исполняет свою задачу и спасает свою жизнь благодаря любви к нему дочери Ээта, царевны Медеи, которую он и увозит домой. Вскоре они: Ясон, Медея и их два маленьких сына, – изгнанные из родины, принуждены искать убежища у коринфского царя Креонта. Здесь в молодого героя влюбляется единственная дочь царя, наследница царства; помехой их браку является Медея – она должна уступить. Но она не согласна уступить – и жертвами ее козней гибнут не только Креонт с дочерью, но и оба сына Ясона.
Есть ли в этих двух трагедиях сходство? Да, есть: оно заключается в центральной мужской личности. Адмет и Ясон – в сущности один и тот же характер. Таково мнение переводчика: «Этот златокудрый эллин – один из тех людей, славу и счастье которых оберегают или даже создают влюбленные в них женщины. Их много: Адмет, Ясон…» В чем же основная черта их характера? В том, что они «эгоисты». Наш переводчик много раз их так называет, и притом не в эристическом тоне, а со спокойной, самопонятной уверенностью, очевидно не ожидая встретить возражений со стороны своих читателей.
И действительно, какие тут возражения возможны? Один идет к своему отцу Ферету и говорит ему: «умри за меня, чтобы я мог зажить новой жизнью»; отвергнутый им, он обращается с тем же требованием к жене, бессовестно злоупотребляя ее молодой самоотверженной любовью. Другой говорит жене: «Оставь мой дом, чтобы я мог зажить новой жизнью». Это ли не эгоизм? Конечно; только если Адмет – эгоист, то и жертва за него Алкесты теряет всякую нравственную ценность; несомненно правой в своей ненависти и мести оказывается Медея. И вот, кажется, причина, почему новейшая драма, усыновив Медею, отвергла Алкесту. Современная Алкеста сказала бы мужу: «Я бы с радостью отдала свою жизнь за тебя; но раз ты этой жертвы требуешь, или желаешь, или ждешь – ты становишься недостойным и ее и меня». А из этой концепции трагедии не сделаешь.
Да, по-видимому, приговор бесповоротен. Один только человек протестует против него, и этот один – сам Еврипид.
Прочтите внимательно сцену прощания Адмета с Алкестой, сцену его возвращения с ее похорон – да ведь этому человеку сто раз легче было бы умереть самому, чем отправлять на смерть жену, продолжая жить в опустевшем и опостылевшем дворце!
И прочтите внимательно сцену Ясона с детьми… Но и помимо ее: вникните в его отношения к этой самой ненавидящей и проклинающей его Медее! Она изгнана – ну, и с глаз долой; что может быть лучше для эгоиста? Так нет же: он всячески ублажает царский гнев, стараясь сохранить ее в Коринфе, и когда она своими угрозами добилась изгнания – он предлагает ей свою помощь, ищет для нее убежища у своих близких, и, конечно, когда его старый слуга уверяет Медею, что ее изгнание только временное, – мы чувствуем, что он этим выражает мысли своего хозяина. Да и сама Медея знает, что ее супруг не эгоист: оттого-то она и оставляет ему жизнь, это высшее благо всех эгоистов.
Положительно, мы путаемся в противоречиях – и я сильно подозреваю, что именно эти противоречия и им подобные и навели нашего переводчика на его отрицательное отношение к «психологической правде». Посмотрим, однако, нет ли другого исхода.
III
Очень часто противоречия – психологические и другие – получаются вследствие того, что критик, сознательно или бессознательно, навязывает исследуемому автору свою манеру мыслить и чувствовать, точно она – единственно возможная и допустимая. В данном случае мы молчаливо навязали Еврипиду свою концепцию человека – единственную, которую мы знаем, которая нам непосредственно понятна. А между тем в эпоху Еврипида другая концепция была в ходу – до того в ходу, что поэт даже не оговаривается, а считается с нею как с общим, самопонятным фоном. Разница между этими двумя концепциями еще не замечена – что и понятно, так как мы еще не додумались до биологической этики; но она на очереди. Назовем пока одну – онтономической, другую – филономической (phylo-) концепцией; первая – наша, вторая – та, которую предполагает Еврипид. Пробный камень для обеих – представление о Боге, карающем преступления людей в третьем и четвертом поколении, представление, которое древний Израиль разделял с древней Элладой. С онтономической точки зрения это – верх несправедливости; с филономической – высшая правда. Когда Цицерон, говоря об этом представлении («О природе богов»), гневно восклицает: «Какое же государство потерпело бы законодателя, который за вину отца или деда стал бы наказывать сына или внука?!» – то мы убеждаемся, что к его эпохе онтономическая концепция в сознании образованных людей окончательно вытеснила филономическую. В эпоху Еврипида дела обстояли иначе.
Возьмите дерево – скажем, сосну. Из ее ствола в стройном порядке вырастают, постепенно уменьшаясь, ветви. Каждая из них живет своею собственною жизнью, растет и гибнет сама по себе; но всё же все они объединены общим стволом, и яд, который проник бы в одну ветвь, не преминул бы со временем заразить и остальные. Представим себе теперь эти ветви одаренными сознанием: если это сознание будет ограничиваться каждой ветвью в отдельности, то мы получим онтономическую концепцию. Но если каждая ветвь будет, сверх того, еще непосредственно сознавать и свою связь с остальными, то ее сознание будет филономическим. Отсюда видно, что последнее сознание полнее и совершеннее первого.
- Император Траян
- Софокл и его трагедийное творчество. Научно-популярные статьи
- Зависимое сельское население Римской империи (IV-VI вв)
- Римская империя
- Римская республика
- Германо-Ретийский лимес и Рейнская армия Рима
- Династическая политика императора Константина Великого
- Очерк греческих древностей. Государственные и военные древности
- Император Август и его время
- Экстатичность культуры и проблемы эстетики
- Ориентализм в идеологии и политике Александра Великого
- Военная история Римской империи от Марка Аврелия до Марка Макрина 161–218 гг.
- Древнегреческая литература эпохи независимости
- Греческая культура в мифах, символах и терминах
- Еврипид и его трагедийное творчество: научно-популярные статьи, переводы