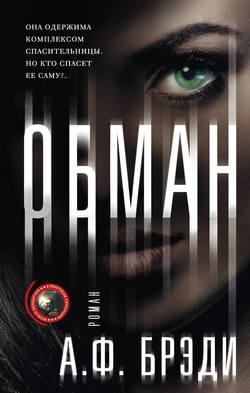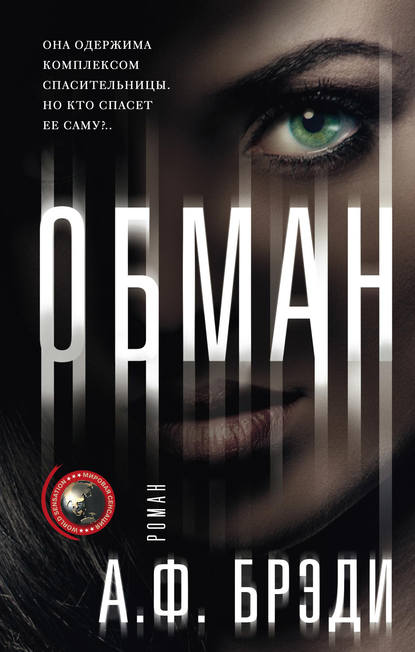Посвящается непонятым
– Видишь ли, этого все равно не избе жать, – сказал Кот, – ведь мы тут все ненормальные. Я ненормальный. Ты ненормальная.
– А почему вы знаете, что я ненормальная? – спросила Алиса.
– Потому что ты тут, – просто сказал Кот. – Иначе бы ты сюда не попала.
Льюис Кэрролл. «Алиса в Стране чудес»
A. F. Brady
The Blind
Copyright © 2017 by A. F. Brady
© Перевод и издание на русском языке, «Центрполиграф», 2018
Часть первая
18 октября, 9:40
Я стою на коленях на полу в своем кабинете, выпускаю лишний воздух из мешка с мусором и завязываю его. Ребята из отдела обслуживания всегда оставляют мне пустые мешки под корзиной для бумаг, чтобы я могла сменить полный на чистый и бросить использованный в мусорный бак. Я думаю, так легче всего скрыть запах алкоголя, когда меня рвет прямо в корзину. Мне хочется верить, что я хорошо переношу алкоголь и что меня никогда не тошнит, но, по правде говоря, все чаще и чаще «утром после» я осознаю, что снова стою на коленях в кабинете, согнувшись над корзиной, и меня опять выворачивает наизнанку.
Меня зовут Сэм. Я психолог, работаю в психиатрической больнице. Она совсем не похожа на те заведения, что вы, должно быть, видели в «Человеке дождя» или «Прерванной жизни». Расположена больница на Манхэттене, и здесь нет просторных лужаек и аккуратно подстриженных зеленых изгородей. Равно как и широких коридоров и дверей высотой одиннадцать футов, как в фильме «Пролетая над гнездом кукушки». Пахнет тут смесью антисептика и жевательной резинки – потому что антисептик сдабривают ароматом жевательной резинки. Освещают помещение люминесцентные лампы, а туалеты вечно не работают. Лифт размером с ангар для самолетов, и он всегда переполнен. Я работаю здесь шесть лет, и ни разу мне не довелось оказаться в лифте одной. Кто-то каждый день нажимает на кнопку экстренного вызова.
Панели на потолке в отделении украшают пятна и разводы от протечек в углах. Все двери выкрашены в серый цвет, и в них овальные стеклянные окошки, забранные металлической сеткой. Все, кроме дверей кабинетов, – они бледно-желтые, и никаких окон в них нет. Зато есть таблички с надписями типа «Ланч», «Идет сеанс» или «Не беспокоить». Таблички приходится часто менять, потому что пациенты пишут на них всякие гадости.
Как только входишь сюда, возникает ощущение, что мир вдруг как-то уменьшился. Звуки с улицы за эти стены не проникают, и, хотя я знаю, что нахожусь в самом шумном городе на земле, здесь этого совсем не слышно. На солнечную сторону выходят окна только одной общей комнаты, и там же стоят все растения, но они всегда покрыты слоем пыли, и никто не любит туда заходить.
У нас множество самых разных пациентов – всего сто шесть. Самому младшему из них шестнадцать, а самому старшему – девяносто три. Самому-самому старому было девяносто пять, но он умер несколько месяцев назад. В одном крыле живут мужчины, в другом – женщины, и почти у каждого есть сосед. Если пациент склонен к буйству или что-то в этом роде, его помещают в одиночную палату. И как только они это понимают, становятся по-настоящему буйными. Для них почему-то не доходит, что одиночная палата – это на самом деле обычная двухместная, но разделенная пополам перегородкой. При этом один из обитателей палаты теряет окно. Наше заведение называется психиатрический центр «Туфлос»[1], и я никогда не спрашивала почему.
Все это звучит как-то жульнически, глупо, а иногда даже и комично, но я чувствую, что и я, и все они не отличаемся друг от друга. Предполагается, что врачи должны вселять в больных надежду. Что мы обязаны применять все наши способности, и терпение, и с таким трудом заработанные знания и научные степени, чтобы улучшить их состояние. Мы гордимся своим незамутненным рассудком и не тронутой болезнью душой. Мы воображаем себя пастухами, призванными заботиться о стаде. Нам говорят, что это почетная и достойная высочайшего уважения работа и что мы приносим неоценимое благо обществу. Но все это просто куча дерьма. Между нами и ими нет разницы. Нет линии на песке, где мы по одну сторону, а они по другую. Нет каньонов, разделяющих нас. Разве что крохотная трещинка. У меня есть кабинет и ключ от него, а у них нет. Я пришла сюда, чтобы спасти их; они не могут спасти меня. Но иногда границы размываются. Говорят, «если не можешь делать сам, учи других». Что ж, если ты не можешь спасти себя, спаси кого-то еще.
19 октября, 11:12
С этой недели у нас появится новый пациент. Никто не хочет с ним работать. Его история болезни практически пуста, но сплетни, расползающиеся среди персонала, прекрасно заполняют все пробелы ужасающими байками и несусветными глупостями. (Он убил своего последнего психолога; он отказывается заполнять анкеты и сотрудничать, он не пациент, а кошмар.) Даже мне не хочется с ним работать, а я, как правило, беру себе тех, от которых отказываются другие. Никто не знает, что он за человек на самом деле, что из всего этого правда, а что просто идиотские сплетни. В его деле действительно ничего не понятно. Вся информация, что там содержится, основывается на внешнем описании и материалах, поступивших извне. Он отсидел срок в тюрьме; эти сведения сомнению не подлежат. Целых двадцать с чем-то лет, хотя за что, в документах почему-то не написано. Затем, после тюрьмы, он побывал в нескольких реабилитационных центрах. А теперь ему назначили лечение здесь, в качестве одного из требований условно-досрочного освобождения.
Мы считаем свою власть над пациентами чем-то само собой разумеющимся, хотя зиждется она, по сути, лишь на том, что они не осознают, что способны сопротивляться. И вот теперь явится этот парень и начнет мутить воду. Мне кажется, по-своему я его уважаю. Я прилегла вздремнуть в кабинете, надеясь, что что-нибудь изменится, и думается, он как раз сможет это сделать.
19 октября, 13:15
– О’кей, скажите мне, что означает «наследственный»?
У меня сеанс групповой терапии. Это психопедагогическая группа, и предполагается, что я должна помочь пациентам понять свои диагнозы. Психиатры так часто говорят человеку, что он страдает тем-то или тем-то, и никогда не объясняют обыкновенным человеческим языком, что это значит.
– Это означает, что такая болезнь есть в твоей семье, правильно? – Это Ташондра. У нее было одиннадцать детей. И каждого из них государство поместило под свою опеку. Она понятия не имеет, где ее дети, и двое из них вроде бы даже умерли, но она не уверена. Такова ее реальность.
– Именно так. Это означает, что в болезни виновата генетика. Так какие психические заболевания имеют генетическую основу? – Я пристраиваюсь на краю стола, где обычно сижу.
– Рак. У моей мамы был рак груди, и я тоже должна проверяться, потому что у нее он был, но у меня его нет. – Это Люси.
– Правильно. Рак во многом зависит от генов, так что действительно, если кто-то из вашей семьи был болен раком, вам также необходимо регулярно проходить осмотр у врача. Это очень важно. Но как насчет психических расстройств? Как насчет тех заболеваний, которые мы здесь лечим?
– Да все, так ведь? Я знаю, что если твои родители или брат – наркоманы, ты, возможно, тоже станешь наркоманом. А здесь людей лечат и от этого тоже. Вы лечите наркоманов. А еще иногда, если у кого-то в семье депрессия, у тебя тоже может быть депрессия. – Это Ташондра.
– Прямо в точку, – говорю я и поднимаю палец. – Депрессия может быть обусловлена генетически, так же как и шизофрения, маниакально-депрессивный психоз и многие другие расстройства, которые мы здесь лечим.
– Значит, дело х…, а? Если твоя мама – шизофреничка, то это перейдет и к тебе, и ты ничего не сможешь с этим поделать, а? Ты рождаешься чокнутым, так? Как в этой песне, «Рожден, чтобы стать плохим»? Рожден, чтобы стать сумасшедшим. – Это Тайлер. У Тайлера шизофрения. Ему двадцать два, но он очень умен и развит для своих лет. Кажется, он лучше понимает этот мир, чем многие из нас – нам почему-то это не дается. Он смирился с иными вещами, с которыми мы пытаемся бороться. Тайлер сумел простить.
– Ну, не обязательно. И следи за своим языком. Если у тебя есть генетическая предрасположенность, что означает – у кого-то из твоей семьи такая болезнь, ты можешь ее унаследовать, а можешь и нет. Это зависит от того, что происходит в твоей жизни. От того, складывается ли она так, что помогает тебе оставаться здоровым, или с тобой случается нечто такое, что способно заставить тебя заболеть. – Мои каблуки болтаются в воздухе.
– А что может заставить тебя заболеть? Типа, наркотики и всякая фигня вроде этого? – Это Тайлер. – Я знаю, что мой брат баловался наркотой в школе со своим другом, а потом он чокнулся. Его, конечно, закрыли, но, черт побери, он реально был сумасшедшим. Он никогда себя так не вел до того, как стал принимать эту наркоту.
– Наркотики – да, конечно. На самом деле это одна из самых главных причин, – объясняю я и киваю. Мои глаза блестят. – А также насилие, отсутствие одного из родителей или бедность, когда тебе не хватает еды или ты лишен возможности ходить в школу. Все это как бы ударяет по тебе. Так что если у тебя есть ген, отвечающий за депрессию или шизофрению, и ты вдобавок получаешь от жизни вот такие удары, то дело может кончиться болезнью.
– Типа как три страйка – и ты выбываешь. – Тайлер. Мы с ним часто говорим о бейсболе, когда встречаемся в коридорах. И я боюсь наткнуться на него однажды на стадионе «Янки стэдиум».
20 октября, 19:44
Уже пора собираться домой, и мне в голову начинают лезть мысли, которых я избегала весь день. У меня нет с собой ни спиртного, ни сигарет – это могло бы помочь мне думать, но все равно. Я медленно заглядываю в бездну.
Я знаю, что, когда окажусь дома и буду одна, с молчащим телефоном, они все равно придут, так что, в общем, можно начать уже и сейчас. Возможно, так мне станет чуть легче. Возможно, я не буду так душераздирающе рыдать дома. Единственно, мне, конечно, придется сидеть в метро в солнечных очках, потому что мое несчастное, тоскливое лицо точно распухнет, а на глаза то и дело будут набегать слезы. Как-то так вышло, что они появляются каждый день, каждый раз, как только я открываю дверь своей квартиры. В ту же секунду.
Так было не всегда. Когда-то все в жизни имело смысл. Тогда я понимала, что делаю, что происходит, а не просто автоматически день за днем совершала одни и те же действия.
Метро не работает. На линии А/С возгорание, и я вынуждена выйти за сто кварталов от моего дома. По непонятной причине я решаю пойти пешком. Обычно при ходьбе я думаю – есть у меня такая склонность – и это, наверное, все же не очень хорошее решение, потому что у меня нет при себе налички, и я не могу забежать по пути в какой-нибудь бар и выпить. Это помогло бы не думать.
Снаружи холодно. Настолько, что болят колени и немеют губы, так что трудно говорить. Глаза слезятся, но я не плачу. Я курю одну сигарету за одной, и перчаток у меня нет, поэтому приходится часто менять руки.
Несмотря на холод, на улице встречаются целые семьи. Я приметила их, еще когда выходила из вагона. По другой стороне улицы мамочка толкает перед собой коляску с ребенком, и мы идем параллельно друг другу уже несколько кварталов. Она похожа на меня. Ну, то есть она похожа на мою маму, а мне кажется, я вылитая мать. Мы с ней блондинки, и я думаю, что у той женщины тоже голубые глаза, как и у нас, но, конечно, она слишком далеко, и разглядеть я не могу. И она маленькая, совсем как мама. Я гораздо выше их обеих. Я всегда думала, что мой отец, должно быть, был здоровенным парнем. И теперь застреваю на этом и начинаю думать о своей семье, упорно направляясь на юг в суровом, жестоком городе.
Нас было только двое – я и мама. Я выросла без отца. Где-то он есть, конечно, но я понятия не имею где. Я никогда его не видела, но в принципе мне было совершенно все равно, потому что мама более чем успешно справлялась и без него. Иногда она пела ему хвалебные гимны: «Твой отец – прекрасный человек». А иногда ведрами лила на голову дерьмо: «Он просто сраный ирландский ублюдок, который меня не заслуживает». Интересно, эта малышка в коляске знает своего отца?
Меня зовут Саманта, потому что маму зовут Саманта. Наверное, по этой причине я предпочитаю обходиться коротким Сэм. Наша фамилия Джеймс. Так что у меня два имени. Я всегда говорю; никогда не доверяйте человеку, у которого два имени.
Теперь я уже могу видеть свою квартиру. Она единственная на этаже с темными окнами. Располагается мое жилище в старом доме из известняка в середине квартала. Лифта там нет. Я живу в Нью-Йорке несколько лет, здесь я заканчивала школу, и уже успела помотаться по разным квартирам – студиям и крохотным норкам с одной спальней в Бруклине и на Манхэттене. В этой квартире три шкафа – вещь практически неслыханная, и имеется ванна. А еще у меня есть кофейный столик и письменный стол, и квартира вполне могла бы сойти за жилье взрослого человека, если бы я только покупала еду и клала ее в холодильник. Мой диван коричневый, а наволочки на подушках разные, я меняю их в соответствии с временем года. Сейчас они темно-синие. Ковер большей частью выгорел, потому что окна выходят на юг и летнее солнце заливает комнаты до самого вечера. Раньше мне нравились его цвета, но теперь он напоминает мне коврик в спальне маленькой девочки. Кухня моя безупречно чистая, а над раковиной окно, так что, когда я мою бокалы для вина, могу поглазеть, что делают соседи. Радиатор шумит, но это меня успокаивает, потому что, если бы не он, здесь было бы тихо, как в могиле. Я никогда не включаю телевизор, потому что он заставляет чувствовать себя мелкой и незначительной.
Замок в парадной двери пошаливает. Такое ощущение, что он всегда заедает именно в тот момент, когда налетает особенно злой порыв ледяного ветра, и у меня начинают болеть уши. Полы в вестибюле выложены темно-зеленой плиткой, которая вечно выглядит пыльной, и я боюсь в один прекрасный день поскользнуться и расколоть себе черепушку. Ступени широкие и закругленные; стиль давно забытой нью-йоркской эры. Я поднимаюсь по ним и на ходу сдираю с себя пальто.
Я открываю бутылку вина, которую купила вчера вечером в магазине, где продают спиртное, на другой стороне улицы. Когда дело доходит до выпивки, я всегда стараюсь, чтобы это выглядело изящно и по-взрослому. Выпиваю я каждый вечер, но это ничего, потому что пью дорогое вино из дорогих бокалов и никогда не забываю вымыть их перед тем, как отправиться спать. И еще я всегда мою пепельницы, потому что даже мне кажется, что это ужасно – старые вонючие окурки по всему дому. Несколько раз я бросала курить, но потом бросила бросать, потому что возникли проблемы посерьезнее. Отчаяние заставляет держаться за странные вещи.
21 октября, 8:55
Я пью пережженный, какой-то едкий кофе в лаунже и жду, когда наш босс, Рэйчел, начнет совещание для персонала. У меня неухоженные, грязные ногти; лак почти совсем облез. Я поднимаю голову и ловлю на себе пристальный взгляд своего коллеги Гэри. Встретившись со мной глазами, он тут же отводит их, но снова быстро поворачивается в мою сторону.
– Что такое? – спрашиваю я.
Он потирает висок тыльной стороной левой руки и показывает на меня подбородком.
– Что?
Гэри повторяет жест.
Я ставлю на стол чашку с кофе, кладу свою красную ручку и отираю щеки и виски. Потом рассматриваю руки. На левом мизинце – уже засохший сгусток тонального крема вместе с крошечными колючими крошками корочки от ранки.
Рэйчел открывает собрание:
– Доброе утро, команда. Рада видеть вас всех сегодня с горящими от энтузиазма глазами и бодро поднятыми хвостами.
Приглушенный смех и саркастическое фырканье.
– Я знаю, что всем нам сейчас нелегко и мы ошарашены объемом свалившейся на нас работы, со всеми этими только что поступившими пациентами, но, как вам известно, есть времена года и циклы, которые влияют на психическое здоровье, а зима уже почти пришла, хотя пока еще только октябрь… – она грозит окну кулаком, – и дни становятся короче и холоднее, обостряется депрессия, синдром сезонного аффективного расстройства, ощущение безнадежности и тому подобные вещи. В общем, все это вы знаете и без меня. И после этих слов хочу напомнить вам, что у нас новый пациент и мы начинаем лечение со следующей недели.
Все нервно переглядываются, поправляют одежду, старательно смотрят в блокноты, как будто хотят раствориться в пространстве.
– Я слышала много разговоров на эту тему. И понимаю, что размышлять и обсуждать – это естественно, однако очень трудно сохранить профессионализм, подразумевающий положительное отношение в пациенту несмотря ни на что, отсутствие предубежденности и открытость, когда по коридорам ползают подобные слухи. И опять же, вы все знаете, о чем я говорю. – Она обводит нас свирепым взглядом, как будто ожидала от нас большего, а мы ее подвели.
– Что ж, в таком случае не могли бы вы рассказать нам немного больше об этом парне? – Гэри.
– У меня о нем столько же информации, сколько и у вас, так что здесь мы в одной лодке, так сказать. Но я призываю вас отбросить все домыслы, все, что вы успели себе навоображать, и сосредоточиться на тех немногих сведениях, которыми мы действительно обладаем. Он прибывает сюда, чтобы лечиться, чтобы ему помогли, а ваша работа – обеспечить ему это лечение и помощь и не делать из человека монстра.
– Послушайте, я всецело за положительное отношение и отсутствие предубежденности, но разве не важно обеспечить безопасность персонала? – Это снова Гэри. – Я имею в виду… я слышал, что его история болезни не заполнена потому, что он напал на своего предыдущего психолога. А еще слышал, что он не желает отвечать на базовые вопросы и обсуждать свою историю, а если настаивать, то взрывается, как ракета. Я хочу сказать, у него криминальное прошлое, а мне как-то не очень комфортно лечить пациента, про которого известно, что он напал на своего доктора.
– Мы так не работаем. Мы не отказываемся от проблемных пациентов. – Рэйчел опускает голову и листает историю болезни. – И здесь нет ничего о том, что ранее он вел себя агрессивно по отношению к персоналу.
– Это потому, что там вообще ничего нет! Его история болезни практически пуста! Там сказано только, что он здоровенный парень, носит шляпу и не разговаривает. И что он полжизни провел в тюрьме. Но почему-то нет ни слова о преступлении, которое он совершил. Как вам такое? Это же безумие! Нельзя принять пациента, отсидевшего срок, без всякой истории, без психосоциального профиля, без диагноза и с пустой историей болезни. Он впорхнет сюда, как бабочка, а мы должны высасывать информацию незнамо откуда.
Гэри преувеличивает. Раньше он был социальным работником в финансовой отрасли. Трудился на фирму, которая занималась корпоративными увольнениями, и помогал людям, потерявшим работу. Он постоянно чувствовал себя гонцом, что приносит дурные вести, и в конце концов это стало невыносимо. Гэри решил заняться чем-то более спокойным и стабильным, уйти от драм, каждый день делать что-то хорошее. Как выяснилось, он прыгнул со сковородки прямо в огонь, и теперь все еще недоуменно оглядывается по сторонам и удивляется, как здесь оказался.
– И что, по-твоему, мы должны сделать, Гэри? – Это Дэвид, который обычно не вступает ни в какие дебаты на собраниях.
– Послать его куда-нибудь еще!
– Но это смешно. Мы и есть «куда-то еще». Это его последняя остановка, дальше ехать некуда. Ты бы предпочел, чтобы он шатался по улицам? Без лечения? – говорю я, заодно вытирая пятна кофе со стола.
– Слушай, я просто хочу сказать, что не хочу им заниматься. У меня совсем мало времени, а заполнять по кусочкам целую историю болезни плюс ко всему остальному, что требуется… для парня, который, может быть, пырнет меня ножом и вообще даже не разговаривает?.. Ну уж нет. Простите меня, но нет, большое спасибо. – Гэри складывает руки на груди и, шумно фыркнув, откидывается на спинку стула.
– Тогда зачем ты вообще здесь работаешь? – Ширли немедленно сожалеет о том, что подала голос, и словно пытается вжаться в свой стул. В надежде, что из-за подобного комментария ее не заставят взять нового парня на себя.
Рэйчел вскакивает на ноги и тут же прекращает бессмысленные споры.
– Для всех нас очень важно устраивать нечто вроде форума, где мы будем делиться друг с другом проблемами и мнениями о пациентах и выносить все на открытое обсуждение. И эти наши собрания как раз и есть такого рода форумы. Мы здесь не для того, чтобы препираться. Я хочу, чтобы вы все поговорили со мной и между собой тоже о том, что вы слышали, и высказались, почему именно вы так нервничаете из-за нашего нового пациента Ричарда. Но еще раз предупреждаю вас: слухи, как правило, бывают ни на чем не основаны, и мы должны быть осторожны в своих оценках этого человека.
Гэри сползает ниже и выключается из дискуссии. Джули, наша принцесса – вечно бодра, вечно в прекрасном настроении, – сообщает, что боится за себя и беспокоится, что она слишком слаба физически и беззащитна, чтобы эффективно заниматься лечением пациента, который будет ее пугать. Прочие члены команды женского пола согласно кивают и негромко переговариваются. Джули исхитрилась сделать так, что теперь никто не навесит на нее новых пациентов еще много недель. Браво.
– За что он сидел в тюрьме? – Ширли.
– Я правда не знаю. – Рэйчел. – Я уже сказала, у меня доступ к тем же записям, что и у вас, поэтому никакой прочей информации.
– Но разве это не странно? Разве мы не должны быть в курсе? – Джули.
– Какая разница? – Я. – За вымогательство его посадили, или за вооруженное ограбление, или за что-то еще. Абсолютно никакой разницы. Может быть, за наркотики. Или преступление третьей степени, вообще что-то незначительное, а учитывая так называемый закон «три страйка – и ты выбываешь», он мог бы остаться там навсегда. Это не половое преступление – в базе он не зарегистрирован, я проверила. Ведь действительно не должно иметь значения, за что его осудили. Важно знать только то, что он там был. Его взгляд на мир и будущее явно изменился, и, возможно, там ему пришлось вытерпеть ужасные вещи. – Произнося это, я внезапно осознаю, что мне на самом деле жутко некомфортно из-за того, что мне неизвестно, почему он провел в тюрьме столько лет.
– Я слышала, что он не разговаривает. Вообще. И что он очень агрессивный. Он отказывается следовать правилам, у него не складываются отношения с другими пациентами, и он не заполняет никакие анкеты. – Ширли.
– Ну что ж, полагаю, это очевидно, что он не желает сотрудничать и помогать нам с бумагами. Но я предлагаю всем просто отнестись к этому как к предмету для размышлений и не заполнять пустые места в анкетах драматическими историями, в то время как мы не обладаем достаточной информацией. Факт тот, что он здесь, и мы будем с ним работать. – Рэйчел ни на кого не смотрит; она готовится бросить бомбу. Некоторое время она выжидает. Все начинают беспокойно ерзать.
– Сэм… – она натянуто улыбается мне, – и Гэри. – Гэри, побежденный, придавленный, тяжело оседает на стуле. – Я собираюсь отдать Ричарда тебе, Гэри, а Сэм будет твоей помощницей. Вы многому научитесь, работая с этим пациентом, и думаю, вас ждет серьезное испытание. И – Сэм, у тебя самый большой процент успешного излечения трудных больных и высокая квалификация. Я бы предпочла, чтобы Ричард начал с психологом-мужчиной, и посмотрим, как пойдут дела. Все мы будем рядом на случай, если вам понадобится поддержка и помощь, но я уверена, что вы справитесь.
Ширли и Джули переглядываются; в их глазах читается преувеличенное облегчение. Все выдыхают. Дэвид сочувственно треплет меня по плечу. Гэри раздраженно пыхтит и картинно роняет голову на грудь, когда Рэйчел передает ему копию истории болезни Ричарда. Он молча смотрит на меня и нетерпеливо закидывает ногу на ногу.
– Нет проблем, Рэйчел. Я за это возьмусь.
Я собираю свои бумаги, подхватываю чашку с кофе и, когда мы все медленно тянемся к выходу, Рэйчел вручает мне мою копию истории болезни.
Гэри уверяет меня, что у него тоже нет проблем, он сам возьмется за дело Ричарда и мне не нужно участвовать в процессе лечения. Гэри идиот.
– Все это очень хорошо и даже прекрасно, Гэри, но я бы хотела, чтобы ты зашел ко мне в кабинет и мы обсудили план действий. Это не потому, что я считаю, что ты один с ним не сладишь; просто мне бы хотелось быть в курсе того, что происходит, если тебе нужна будет моя помощь.
– У меня правда нет сейчас времени, и я хочу устроить первую встречу с этим парнем уже сегодня. – Гари стоит в дверях конференц-зала, занимая собой весь проем, и показывает пальцем в сторону своего кабинета.
– Да ладно, пойдем. Это займет десять минут.
Он испускает стон и следует за мной по коридору к моему кабинету.
– Садись, – предлагаю я и жестом показываю на кресло для пациентов.
Его кроссовки Gatorade издают при ходьбе хлюпающий звук. Гэри обрушивается в кресло.
– Я собираюсь найти его и привести в кабинет для ознакомительной встречи сегодня утром. Хочу поговорить с ним как мужчина с мужчиной и буду обращаться с ним так, будто он совсем не страшный и вообще никакой не исключительный случай. Уверен, что все эти идиотские слухи о том, что он страшный, вызваны только тем, что он бывший заключенный, а те, кто сидел в тюрьме, как правило, пугают обычных людей. Ну, во всяком случае, не меня. Я не боюсь. – Он трет кроссовкой мой ковер.
– И это весь твой план? Поговорить с ним как с мужчина с мужчиной? – Такую глупость я даже записывать не собираюсь.
– Ну да. Тоже мне, большое дело. В этом нет ничего особенного, Сэм. Он пациент, я психолог. Значит, он должен отвечать на мои вопросы. Не понимаю, почему раньше у всех были с ним проблемы.
Я качаю головой; у меня похмелье, и она кажется такой хрупкой, будто вот-вот разобьется. Таким образом я пытаюсь выгнать из нее глупый ответ Гэри.
– Не мог бы ты все же посвятить меня в детали? Как именно ты планируешь достучаться до него и пробиться сквозь стену молчания, хотя до сих пор никому этого сделать не удалось?
– Как я уже сказал, поговорить с ним как мужчина с мужчиной. – Он делает ударение на трех последних словах.
– Что значит «как мужчина с мужчиной»? – Моя ручка зависает над блокнотом, и я отвожу глаза. Я боюсь смотреть на Гэри, боюсь услышать его ответ.
– Тебе этого не понять, потому что ты не мужчина. – Он поднимается и снисходительно похлопывает меня по плечу, а затем наклоняется и добавляет: – Мы с тобой назначим еще одно совещание после того, как я получу от него ответы, о’кей?
И выходит.
23 октября, 23:37
Я откладывала вынос мусора целую неделю, и помойное ведро переполнено. Под раковиной в кухне мало места, и, поскольку пью я больше, чем готовлю, у меня большое ведро, которое стоит между дверью и холодильником. Оно скорее похоже на корзину для белья.
Прозрачный голубой пакет просел под тяжестью пустых бутылок, и я с силой дергаю его за красные завязки, чтобы вытащить. Стеклянное звяканье, которое он издает, абсолютно невыносимо. Разумеется, пакет протек, и от вони алкоголя недельной давности, смешанной с острым кислотным запахом бутылки с «Тропиканой», в которой я делала «отвертку» сегодня утром, к горлу тут же подступает тошнота. Именно поэтому я вечно оттягиваю эту процедуру до последнего момента.
Звяканье бутылок было бы не таким громким, если бы я не тащила пакет по застеленному ковролином коридору, а подняла бы его и закинула на плечо, на манер Санта-Клауса. Я так и делаю, когда подхожу к старым мраморным ступеням, ведущим в подвал.
Толкаю дверь, включаю свет и вижу разбегающихся во все стороны жуков. Они забрались сюда на зиму, а это помещение для них как буфет всякого дерьма, и им обеспечен нескончаемый пир вплоть до самой весны. Я бросаю свой мешок с бутылками в пластиковый бак. Кажется, несколько из них разбились. Протекший мешок испачкал мои пижамные штаны, и я пытаюсь вытереть мокрое пятно тряпкой, что висит на крючке у двери.
Я поднимаюсь в свою квартиру и убираю разводы на полу. Потом кладу две забытые бутылки из-под пива в свежий пакет и вставляю его в мусорное ведро. На книжной полке я держу две бутылки скотча, который никогда не пью. В каждой примерно на четыре пальца жидкости. Если кто-то заходит в гости, то это выглядит стильно и изысканно, очень по-взрослому. А еще в моем холодильнике всегда есть бутылка или две вина. Не потому, что я храню их для особого случая, а потому, что вино я покупаю практически оптом.
26 октября, 15:35
Возвращаясь после сеанса с женской группой, я вижу, что Гэри мнется у дверей моего кабинета.
– Привет, Гэри. Тебе что-нибудь нужно?
В его глазах отчаяние, и я знаю, что именно он пришел со мной обсудить.
– Да, мне надо с тобой поговорить. У тебя есть минутка?
– Конечно есть, заходи.
Гэри плюхается в кресло для пациентов и запускает потную руку в волосы.
– Это сводит меня с ума. Я не могу добиться ни слова от этого парня, а мы встречаемся каждый день начиная с пятницы.
– Ты имеешь в виду Ричарда Макхью? – Я точно знаю, кого он имеет в виду.
– Да. Я привел его к себе в кабинет в пятницу, как и собирался, и попытался начать с оценки психологического состояния, интеллекта и прочего для истории болезни. Ну, я говорил, да? – Он наклоняется ко мне через стол и машет мясистой рукой у меня перед лицом. – А он не сказал ни слова. Ни слова. Он просто сидел и смотрел. Я уж подумал, что он глухой или немой, потому что он… он молчал, и все. Не взбесился, не разорался, ничего такого, просто сидел молча. Я повторял одни и те же вопросы, а он пялился или на меня, или в окно. В тот раз я решил, что он, возможно, еще не готов. Рассказал ему о себе, постарался установить с ним контакт, сказал, что буду общаться с ним как с мужчиной, если и он будет общаться со мной как с мужчиной. И – ничего.
Гэри искренне удивлен, что его дурацкий самонадеянный план поиграть в мачо не сработал. Часть меня хочет рассмеяться ему в лицо, но другая часть сохраняет профессионализм и хочет помочь ему стать хорошим психологом.
– Так. Значит, с изначальным планом не вышло. Говоришь, после этого ты встречался с ним каждый день? Ты изменил подход или действовал так же?
– Да. Я попробовал все, что мне известно, применил весь свой опыт. Сначала да, я попробовал метод «как мужчина с мужчиной». Это не пошло. В понедельник я попросил его снова прийти ко мне в кабинет, и он не стал спорить или сопротивляться. Я решил, что в этот раз буду говорить только по делу и заставлю его поработать с опросниками. Но он не ответил ни на единый вопрос! Начал читать газету. Притащил с собой здоровенную кипу газет и даже не посмотрел в мою сторону, пока я задавал вопросы.