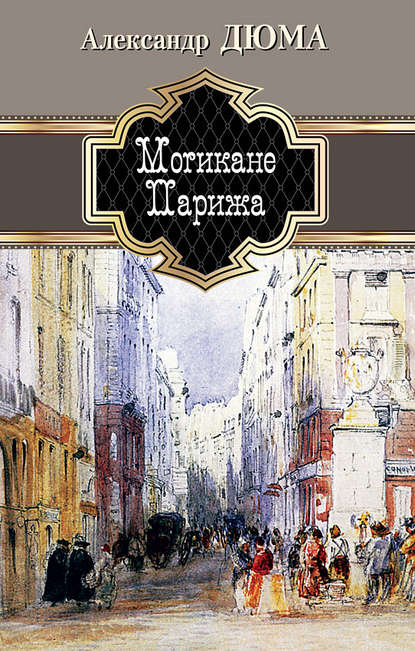000
ОтложитьЧитал
V. Драка
Петрюс стоял у открытого окна, спокойно скрестив руки и презрительно поглядывая на своих противников.
Людовик рассматривал Жана Быка с любопытством истинного ученого и был в таком восторге от этого великолепного экземпляра, что наполовину забыл опасность собственного положения. Он с радостью дал бы сто франков, лишь бы овладеть его трупом после его смерти.
Очень может быть, что вдумайся он посерьезнее, то согласился бы дать даже и двести, потому что видеть Жана Быка на анатомическом столе было неизмеримо безопаснее, чем стоять с ним лицом к лицу во враждебных отношениях.
Жан Робер вышел на середину зала отчасти затем, чтобы попытаться уладить дело миром, а отчасти затем, чтобы, в случае неудачи, принять первые удары на себя.
Несмотря на свою молодость, Жан Робер прочитал уже очень много и, в особенности, заняла его книга маршала Сакса о влиянии нравственной силы на физическую, а потому он и знал те моменты, в которые можно покорить одну другою.
Кроме того, он долго брал уроки бокса и борьбы. В то время искусство это было еще совершенно новое и лишь впоследствии доставило своему изобретателю громкое имя. Но Жан Робер познавал его из первых рук, и, будь перед ним не такой страшный противник, как Жан Бык, он мог бы и не опасаться исхода борьбы.
Но сначала он хотел употребить меры примирительные до тех пор, пока они не обратились бы в трусливое отступление.
С этой целью он заговорил первым.
– Позвольте, господа, – сказал он. – Прежде чем драться, лучше объясниться. Что вам угодно?
– Да это вы в насмешку, что ли, называете нас господами? – спросил тряпичник. – Мы не господа, слышите вы?
– Совершенно верно! – подхватил Петрюс. – Вы не господа, а сиволапые!
– Слышите, братцы, он назвал нас сиволапыми, – заворчал охотник на кошек.
– А вот мы им сиволапых-то и покажем! – вскричал каменщик.
– Да, вот только пропустите меня вперед! – про говорил угольщик.
– Молчите все! Это не ваше, а мое дело! – загремел Жан. – Жибелотт, на место!
– Да отчего же это именно твое дело?
– Во-первых, потому, что пятеро на троих не выходят, а особенно когда и одного достаточно! Жибелотт, Крючконогий, по местам!
Оба приятеля, хотя и с недовольным ворчаньем, но все-таки возвратились на прежние места и снова сели за стол.
– Вот так-то лучше! – заметил, оглядываясь в их сторону, Жан Бык. – А теперь, мои амурчики, – продол жал он, обращаясь к трем друзьям, – начнем песню сызнова и притом с самого начала. Запрете вы окно?
– Нет, – в один голос ответили все трое молодых людей, которые, несмотря на всю громоподобность его голоса, не могли не расхохотаться над его интонацией и своеобразной вежливостью.
– Да неужто же вы в самом деле хотите, чтобы я вас в порошок стер? – удивился великан, поднимая свои огромные кулачищи настолько, насколько позволял низкий потолок.
– Попробуйте, – холодно ответил Жан Робер, делая шаг вперед.
Петрюс рванулся вперед и в один прыжок очутился лицом к лицу с гигантом и заслонил собой Робера.
– Спровадь или держи в стороне тех двух, а с этим я сам справлюсь, – проговорил Робер, отстраняя худож ника рукою.
Он подошел к Жану еще ближе и дотронулся до его груди пальцем.
– Кажется, вы обо мне говорить изволите, ваше сиятельство? – шутливо спросил колосс.
– О тебе.
– А за что это вы изволили выбрать именно меня?
– Я мог бы сказать тебе на это, что ты самый дерзкий, так тебя больше тех и проучить следует, да на этот раз дело не в том.
– Так в чем же?
– А в том, что мы с тобой тезки: ты Жан Бык, а я Жан Робер. Ну, так нам и посчитаться промеж себя следует.
– Что меня зовут Жаном Быком, это правда, – сказал гигант, – а вот про себя так ты солгал. Зовут тебя совсем не Жан Робер, а Жан-Ф…
Но молодой человек в черном фраке не дал ему до говорить. До сих пор руки его были скрещены на груди, но в это мгновение одна из них вытянулась, как стальная пружина, и кулак ударил в висок великана.
Жан Бык, который не дрогнул, приняв на руки женщину, летевшую со значительной высоты, от этого удара зашатался, отпрянул на несколько шагов назад и упал навзничь на стол, у которого от его тяжести отскочили две ножки.
Почти то же самое происходило в это время и между другими борцами. Петрюс был мастер драться на палках; но так как на этот раз таковых не оказалось, он схватил каменщика и повалил его рядом с Жаном Бы ком. Людовик рассчитал свое дело по-научному и ударил доставшегося на его долю угольщика под седьмое ребро, прямо в печень, так что тот побледнел, несмотря на слой черной сажи, покрывавшей его лицо.
Жан Бык и каменщик снова встали на ноги.
Туссен, который удержался на ногах, едва переводя дух, добрался до скамейки и сел на нее, прислонясь к стене спиною.
Но молодые люди понимали, что все это было не больше, как только прелюдией настоящего боя, и потому все трое стояли наготове.
Тем не менее все действующие лица были и сами удивлены не менее зрителей.
Увидя поражение своих товарищей, тряпичник и Жибелотт опять встали со своих мест и подошли к ним.
Каменщик скоро сообразил, что получил удар не опасный, и поднялся со своей скамейки совсем сконфуженный.
Что касается Жана Быка, то ему казалось, что его ударил по голове камень, выброшенный какой-то адской катапультой.
Несколько секунд он был как бы в оцепенении, в ушах шумело, перед глазами носилось какое-то кроваво-красное облако.
Когда Жан Робер ударил его кулаком в висок, то задел и по лбу, на котором и образовалась раночка. Потекшая из нее кровь застилала великану один глаз.
– Ах, черт возьми! – вскричал Жан, подходя к противникам еще не совсем верными шагами. – Вот что значит, когда нападают невзначай. Малый ребенок, и тот может сшибить тебя с ног.
– Ну, хорошо, так соберись же на этот раз с силами, Жан Бык, да держись за землю крепче! – насмешливо посоветовал ему Жан Робер. – Смотри, не оплошай, потому что я намерен послать тебя доламывать остальные две ножки у стола.
Жан Бык бросился вперед с поднятыми кулаками, чем тотчас же и сделал громадную ошибку, потому что открыл себя всего противнику. Все искусство бокса и основывается именно на том простом соображении, что для того, чтобы описать в воздухе кривую, кулаку нужно гораздо больше времени, чем для нанесения прямого удара.
Однако на этот раз Жан Робер использовал систему не нападения, а защиты. Правой рукой он только принял страшный удар, который наносил ему Жан, но зато в тот момент, когда кулак великана уже опустился, Робер быстро повернулся и нанес как раз в середину груди страшный удар ногой, тайной которого в то время обладал только один Лекур.
Этим приемом Жан Робер исполнил обещание, которое дал плотнику: Жан задом попятился на свое прежнее место и, если не упал, то только потому, что опустился снова на тот же стол.
Он не вскрикнул и даже не проговорил ни слова: у него пропал от удара голос.
Между тем Петрюс и Людовик тоже делали свое дело.
Петрюс со свойственной ему подвижностью, заметив, что тряпичник направляется на него, схватил табурет и швырнул ему в голову, а пока тот, ругаясь, барахтался на полу, он, как истинный бретонец, ударом головы в живот повалил и каменщика.
Но Людовик, вместо того, чтобы воспользоваться этим преимуществом и придавить врага коленом, задумался, почему от этого человека так сильно пахнет валерианой.
Он еще размышлял над этой трудной задачей, когда тряпичник и каменщик, видя поражение всех своих сторонников, принялись кричать:
– Берись за ножи, ребята! За ножи!
В это время в зал вошел гарсон с устрицами.
Он с первого взгляда понял, в чем тут дело, быстро поставил посуду на стол и побежал по лестнице, очевидно, затем, чтобы предупредить кого следует.
Но сами участники сцены не обратили на его появление почти никакого внимания.
Они были слишком заняты собою, да и следом прихода гарсона остались только одни устрицы.
Гораздо действеннее оказалось появление гарсона на четвертом этаже.
При шуме, которое произвело падение Жана Быка, при треске изломанного стола, при криках: «За ножи, за ножи, ребята!» – спавшие пьяницы проснулись. Те, которые были несколько трезвее, стали прислушиваться; один, шатаясь, добрался до двери и отпер ее, а те, которые были еще в состоянии видеть, видели, как пробежал встревоженный гарсон.
Как люди, не раз бывавшие в подобных обстоятельствах, они тотчас догадались, в чем дело, и через несколько минут на лестнице раздались стук поспешных шагов, крик, ругательства и вой, точно от стада сорвавшихся с цепи животных.
То поднималась самая настоящая пена рынка, и скоро в зал стали один за другим входить пьяные, полусонные, одурелые и взбешенные субъекты, готовые мстить за то, что их разбудили.
– Э! Да здесь драка! Настоящая поножовщина! – кричали двадцать хриплых голосов.
При виде этой толпы по телу Жана Робера, который был впечатлительнее своих товарищей, пробежала холодная дрожь, охватывающая каждого человека при приближении пресмыкающегося. Он оглянулся на Петрюса, и у него невольно вырвалось восклицание:
– Ох, Петрюс, куда ты нас завел!
Но Петрюс уже избрал совершенно новый план за щиты.
Каменщик и Туссен пришли в себя и тоже кричали:
– В ножи их, в ножи!
– На баррикады! – ответил им Петрюс возгласом, который получил в Париже историческое значение.
– На баррикады! – кричал Петрюс, помогая встать Людовику и вместе с ним увлекая и Жан Робера в угол зала, который они тотчас же и отгородили столами и скамьями.
Несмотря на всю краткость затишья, вызванного его победой над тряпичником и каменщиком, он успел тогда же овладеть палкой, которая поддерживала занавеску на окне. Жан Робер захватил свою трость, а Людовик остался при том оружии, которым его наградила сама мать-природа.
Таким образом друзья очутились под защитой не которого рода крепости.
– А! Вот это очень кстати! – вскричал Петрюс, указывая друзьям на кучу сброшенных в углу пустых бутылок, битых тарелок, изломанных ножей и вилок. – Это отлично! Значит, и за снарядами у нас дело не станет.
– Да, это хорошо, – согласился Жан Робер. – А како во у нас насчет ран и увечий? Что касается меня, то я только угощал ими, а сам ничего не получил.
– Я тоже цел и невредим, – объявил Петрюс.
– А ты, Людовик?
– Мне, кажется, попало кулаком в скулу. Да меня не это занимает!
– А что же? – спросил Робер.
– Мне ужасно хочется знать, почему от последнего субъекта, с которым я имел дело, так сильно пахнет валерианой?
В это время рев и ругательства пьяной толпы достигли таких пределов, что троим друзьям поневоле пришлось прекратить дальнейший разговор.
VI. Господин Сальватор
Вид толпы произвел на простолюдинов совсем иное впечатление, чем на светских молодых людей.
Плотник Жан Бык и его товарищи поняли, что к ним подошла помощь.
Жан Робер и его друзья видели во вновь пришедших пьяницах только новых врагов.
Свой своему поневоле брат.
Толпа, злобно поглядывая на баррикаду, устроенную друзьями, окружила Жана Быка и его товарищей, рас спрашивая, в чем дело.
Рассказать это правдиво было довольно трудно, так как во всех неприятностях был виноват сам Бык.
Во-первых, он сам вызвал раздражение молодых людей, требуя, чтобы они заперли окно. Во-вторых, – и по мнению слушателей, эта вина была гораздо важнее первой – он допустил, чтобы его ударили до крови в лицо и до потери голоса в грудь.
Он принялся рассказывать все это по-своему, но как ни хитрил, а скрыть правды все-таки не сумел.
– Я хотел запереть окно, а оно осталось открытым. Я хотел побить за это, а меня побили самого, – объявил он, наконец, коротко и ясно.
Толпа, как истинная толпа, все-таки несла в себе чувство справедливости и, услышав признание Быка, принялась хохотать над ним, несмотря на всю свою ненависть к черным фракам.
Это еще больше взбесило плотника.
Он был зол и раньше, но этот хохот довел его до ярости.
Бык оглянулся на врагов и, видя, что они загородились в своем углу, а четверо его товарищей уже начали осаждать их, громко крикнул им:
– Эй, вы, стой! Оставьте их! Дайте я сам сотру этого фрачника в порошок.
Но тряпичник, угольщик, кошачий охотник и каменщик так увлеклись своей осадой, что не обратили на его окрик ни малейшего внимания.
Положение их было незавидное.
Людовик так ловко бросил в лицо тряпичнику осколок разбитой бутылки, что глубоко рассек ему щеку.
Жан Робер швырнул в Туссена табуретом и расшиб ему голову.
Наконец Петрюс сквозь отверстие в баррикаде весьма чувствительно ткнул своей палкой кошачьего охотника в грудь, а каменщика – в бедро.
Все четверо ревели от боли и злости:
– Убить их! Убить!
Драка, действительно, начинала переходить в смертельный бой.
Окончательно разъяренный и хохотом окружающих, и видом крови на одежде товарищей и на своей собственной, Жан Бык выхватил свой ватерпас и, занеся его над головой, один ринулся на баррикаду.
Петрюс и Людовик схватили по бутылке и бросились навстречу, собираясь размозжить ему голову. Но Жан Робер, видя, что это единственный серьезный противник и что от него нужно, наконец, так или иначе отделаться, оттолкнул их назад, прошиб в баррикаде отверстие и, продев в него свою тонкую трость, громко крикнул Быку:
– Послушай, да ты никак с ума сошел!? Разве тебе еще мало?
Толпа хохотала и аплодировала.
– Нет, не достаточно! – рявкнул Бык в ответ. – Я до тех пор не успокоюсь, пока не загоню тебе ватерпас в брюхо!
– Это значит, Жан Бык, ты понимаешь, что ты не сильнее меня, и хочешь быть злее. Ты не можешь победить меня, так собираешься убить.
– Я хочу отплатить тебе, гром и молния! – кричал Жан, распаляясь даже от звуков собственного голоса.
– Берегись, Жан Бык, – спокойно возразил молодой человек. – Даю тебе мое честное слово, что ты еще не бывал в такой опасности, как теперь.
– Вы ведь мужчины, – продолжал он, обращаясь к толпе, – уговорите этого человека. Ведь вы видите, что я спокоен, а он совсем с ума сошел.
Четыре или пять человек вышли из толпы и встали между Быком и баррикадой.
Но это вмешательство не только не успокоило Жана, а вызвало еще большее его раздражение.
Он взмахнул рукой, и все пятеро отлетели в сторону.
– А! Так я никогда не бывал в такой опасности, как теперь? – кричал он. – Уж не этой ли щепкой собираешься ты напугать меня? Ну-ка!
Он взмахнул над головою ватерпасом и двинулся вперед.
– Вот в том-то и дело, что ты ошибаешься! – проговорил Жан Робер. – Моя трость вовсе не щепка, как ты думаешь, а нечто совсем иное.
Он несколько раз повернул набалдашник и вынул из трости тонкую стальную рапиру. Трехгранный клинок превосходной ковки зловеще сверкнул в воздухе.
Толпа завыла от удовольствия и страха.
Эпизод развивался по всем правилам драматического искусства: подробности становились чем далее, тем интереснее.
– Ага! – вскричал Бык, видимо, радуясь освобождению от упрека совести. – Значит, и ты не с голыми руками! Мне только этого и надо было!
Он опустил голову, поднял вооруженную руку и бросился на Жана Робера. Прием этот был в высшей степени наивен, потому что им Бык открывал противнику всю свою грудь.
Но вдруг чья-то сильная рука так схватила его за кулак, что он выронил ватерпас и с ругательством оглянулся.
– Ах! Это вы, господин Сальватор! Это дело, разумеется, другое!.. – проговорил он, мгновенно смиряясь.
– Господин Сальватор! Господин Сальватор! – загудела толпа. – Хорошо, что вы пришли! Тут без беды не обошлось бы!
– Господин Сальватор? – проговорил Жан Робер, – Это еще кто такой?
– Имя у этого молодца многообещающее! – заметил Петрюс. – Посмотрим, оправдает ли он эти обещания…
Человеку, который явился с неожиданностью древнего божества, чтобы дать кровавому делу благое окончание, было на вид лет тридцать. В этом возрасте красота достигает полного своего развития и возмужалости, и в тот момент, когда этот человек с кротким лицом стоял и смотрел на толпу своим повелительным взглядом, он был действительно хорош.
Но через секунду было бы уже трудно определить его возраст.
Когда он смотрел вокруг с участием и любопытством, лоб его был гладок и чист, как у юноши; но если зрелище не нравилось ему, черные брови его хмурились, лицо покрывалось глубокими морщинами.
Заставив Быка одним пожатием кулака выпустить ватерпас, он оглянулся вокруг. Молодые люди хорошего общества, видимо, случайно попавшие в этот вертеп, стояли за кучей беспорядочно нагроможденной мебели. Тряпичник с рассеченным лицом припал к столу; все платье каменщика было залито кровью; лицо угольщика мертвецки бледно, а кошачий охотник, держась за бок, кричал, что он убит. При виде этой картины лицо Сальватора приняло такое строгое и жесткое выражение, что самые буйные опустили головы, а те, которые еще не совсем протрезвились, побледнели.
Сальватору предстоит играть главную роль в нашем рассказе, а потому необходимо дать возможно более точное описание его личности.
Как уже было сказано, на вид ему было лет тридцать. Черные, мягкие волосы его вились от природы, отчего они казались гораздо короче, чем были на самом деле. Глаза у него были кроткие, голубые и светлые, как вода в озере во время затишья, когда в него смотрится небо. При этом они поражали такой выразительностью, благодаря которой в них отражалась каждая его мысль.
Овал лица отличался рафаэлевской чистотой, ни одна линия не нарушала его гармоничности.
Нос был прям, тверд, неширок; рот невелик и с пре красными белыми и ровными зубами, а губы прятались под красивыми черными усами.
Все лицо, скорее матовое, чем бледное, обрамлялось черной бородой, к которой, видимо, никогда не прикасались ни ножницы, ни бритва. Эта девственная, мягкая и блестящая борода скорее смягчала общее выражение лица, чем придавала ему резкость.
Но что особенно поражало во всем существе его, так это удивительная белизна его кожи. То не была ни желтоватая бледность ученого, ни белая отечность кутилы, ни мертвенность преступника. Цвет этого лица вернее всего было бы сравнить с грустным светом луны, играющим на белом лотосе или на девственных снегах Гималаев.
Одет он был в нечто вроде черного бархатного пальто, которое стоило только несколько стянуть у кушака, чтобы оно стало совершенно подобием казакинов пятнадца того века. Жилет и панталоны на нем были тоже черные, бархатные.
На голове небрежно и красиво сидела черная бархатная шапочка, так напоминавшая своей формой ток[1], что каждый невольно взглядывал на нее пристальнее, отыскивая традиционное страусовое или соколиное перо.
Особенно аристократический вид придавало этому костюму среди толпы то обстоятельство, что он был не из манчестера, который носили и все рабочие, а из настоящего шелкового бархата, как платье какой-нибудь герцогини или актрисы, а ярко-красный галстук, небрежно повязанный вокруг шеи, красиво выделялся на мягком черном фоне.
Изящество и оригинальность этого костюма поразили и Жана Робера, и Людовика, но в особенности Петрюса. После своего замечания:
– Имя у этого молодца многообещающее! Посмотрим, оправдает ли он эти обещания, – он тотчас же прибавил: – Вот так чудеснейшая модель для моего «Рафаэля у Форнарины». Я с радостью дал бы ему шесть франков вместо четырех за час, если бы он согласился позировать.
Что касается Жана Робера, то его, как драматического автора, особенно ценившего театральные эффекты, больше всего поразила та почтительность, с которой встретила толпа оборванцев этого человека и которая напомнила ему Нептуна, усмиряющего своим божественным трезубцем бурные морские волны.
VII. Жан Бык отступает, а толпа следует за ним
Как только тридцать человек, находившиеся в зале, заметили приход странного незнакомца, в нем воцарилась такая тишина, что слышалось только шумное дыхание людей, утомленных борьбою.
Жан Бык сначала растерялся и принял это молчание за выражение общего неодобрения; однако, несколько придя в себя, заговорил как можно мягче:
– Господин Сальватор, позвольте мне объяснить вам…
– Во всяком случае, ты виноват! – возразил молодой человек тоном судьи, произносящего приговор.
– А все-таки я хотел сказать вам…
– Ты виноват! – настойчиво повторил молодой человек.
– Да как же вы можете это знать, когда вас тут вовсе и не было, господин Сальватор?
– Разве мне нужно было быть здесь, чтобы знать, что тут у вас было?
– Черт возьми! Но мне думается…
Сальватор протянул руку по направлению к Жану Роберу и его двум друзьям, которые стояли теперь рядом.
– Посмотри-ка сюда, – сказал он.
– Ну, что ж? И смотрю! – ответил Жан Бык. – Что из этого?
– И что ты видишь?
– Вижу трех фертиков, которым обещал дать добрую встрепку, и задам ее непременно.
– Вот и врешь! Ты видишь трех порядочных молодых людей, которые виноваты только тем, что зашли в такой вертеп. Но из-за этого тебе еще не следовало ссориться с ними.
– Да разве я начал ссориться с ними?
– Уж не станешь ли ты рассказывать мне, что это они затеяли ссору и начали драться с тобой и с твоими товарищами?
– Однако ж они и при вас собирались защищаться.
– Оно и понятно! За них была и их ловкость, и их правда! Ты ведь воображаешь, что все дело в силе, и даже переменил свое настоящее имя Варфоломея Лелона на прозвище Жана Быка… Ну, вот теперь и уверяй, что это не так! Дай бог, чтобы этот урок остался у тебя в памяти!
– Да говорю же вам, что они сами называли нас чудаками, разбойниками, сиволапыми…
– А за что они вас так называли?
– Они говорили, что мы пьяные.
– Нет, я тебя спрашиваю, за что они вас так называли?
– За то, что мы хотели запереть окно.
– А почему тебе так мешало, что оно отворено?
– Да потому что… потому что…
– Ну, ну, почему? Говори же!..
– Потому что я не люблю сквозняка, – с видимым усилием выговорил Жан Бык.
– Потому что ты пьяный бываешь зол, любишь ссориться и ухватился за первый попавшийся случай; потому что ты и перед этим с кем-нибудь поссорился и хотел на ком-нибудь сорвать злость за капризы и неверности мадемуазель…
– Молчите, господин, эта злодейка меня в могилу загонит!
– Ага! Видишь, значит, я попал метко!
Сальватор с минуту помолчал и нахмурился.
– Эти господа поступили хорошо, что отперли окошко, – продолжал он, – воздух здесь отвратительный! А так как на сорок человек одного отпертого окна мало, то сейчас же ступай и отопри еще одно.
– Я? – переспросил плотник и бессознательно крепче расставил ноги. – Чтобы я пошел отпирать второе окно, когда сам требовал, чтобы заперли первое?! Ведь я все еще Варфоломей Лелон, сын моего отца.
– Ты, Варфоломей Лелон-пьяница и задира, который позорит имя своего отца и который сделал хорошо, что принял вместо этого имени кличку. А я говорю тебе, что в наказание за то, что ты рассердил этих господ, ты пойдешь и откроешь второе окно.
– Пусть разразит меня гром небесный, если я тебя послушаюсь! – вскричал Бык, поднимая кулаки к потолку.
– Хорошо! В таком случае я тебя не знаю ни под именем, ни под кличкой. Ты для меня не больше как мужик-грубиян, и я стану прогонять тебя отовсюду, где мы встретимся.
Сальватор повелительно указал рукой на дверь.
– Ступай отсюда, – проговорил он.
– Не пойду! – отрезал плотник с пеной у рта.
– Именем твоего отца, которого ты сейчас помянул, приказываю тебе: ступай отсюда!
– Нет же, нет, – гром и молния, – не пойду! – повторил Бык, садясь верхом на скамейку и хватаясь за нее руками, точно рассчитывая в случае надобности защищаться ею.
– Так, значит, ты хочешь довести меня до крайности? – спросил Сальватор так спокойно, что никому не пришло бы и в голову, что в словах этих заключалась серьезная угроза.
Говоря это, он медленно подходил к плотнику.
– Не подходите, не подходите, господин Сальватор! – вскричал тот, быстро отодвигаясь на всю длину скамейки. – Не подходите ко мне!
– Уйдешь ты отсюда? – спросил Сальватор, делая еще шаг вперед.
Жан Бык вскочил и поднял скамейку, точно собираясь ударить ею молодого человека.
Но вдруг отвернулся и бросил ее в сторону.
– Ведь вы знаете, что можете меня заставить сделать все, что захотите, – сказал он. – Лучше я сам отрежу себе руки, чем ударю вас. Но по доброй воле я отсюда все-таки не уйду!
– Ах ты, упрямый негодяй! – вскричал Сальватор, хватая его одновременно за галстук и за кушак.
Жан Бык захрипел от ярости:
– Уносите меня, коли хотите, я вам не препятствую, а по доброй воле все-таки не пойду! – сказал он.
– Ну, так пусть же будет по-твоему! – проговорил Сальватор.
Он сильно встряхнул великана, точно вырвал с корнем дуб из земли, сшиб его с ног, поднял, донес до лестницы и раскачал над нею.
– Как ты хочешь: сойти с лестницы по ступенькам или слететь с нее одним махом? – спросил он.
– Я ведь в ваших руках, делайте со мною, что хотите, а по доброй воле я все-таки не уйду.
– Ну, так ступай по моей! – ответил Сальватор и, как тюк, бросил его с четвертого этажа на третий.
Вслед за тем послышался стук, с которым тело Быка скатывалось с последних ступенек.
Толпа не вскрикнула и даже не произнесла ни слова: она была довольна; она восторгалась.
Но трое молодых врагов несчастного Быка были глубоко взволнованы. Вечно веселый Петрюс был мрачен. У флегматичного Людовика сильно билось сердце. И только один впечатлительный поэт Жан Робер был, по-видимому, спокоен.
Когда Сальватор вернулся в зал уже без плотника, Жан положил рапиру в ее оригинальные ножны и вытер платком пот со лба.
– Благодарю вас, милостивый государь, что вы избавили меня и моих друзей от этого осатанелого пьяницы, – сказал он, протягивая Сальватору руку, – но боюсь, не повредило бы ему это падение?
– О, не беспокойтесь! – вскричал Сальватор, пожимая своей белой, аристократической рукой, только что показавшей такое чудо силы, протянутую ему руку. – Он пролежит всего каких-нибудь две-три недели, и за это время успеет горько оплакать то, что теперь наделал.
– Неужели вы думаете, что это чудовище способно плакать?! – с удивлением спросил Жан Робер.
– Говорю вам, что он будет плакать горючими, кровавыми слезами… Это самый честный человек с прекраснейшим сердцем, которое я когда либо знавал. Следовательно, беспокойтесь не о нем, а о себе.
– Почему же обо мне?
– Да, о вас… Позвольте мне дать вам один дружеский совет.
– Сделайте одолжение!
– В таком случае, – проговорил Сальватор так тихо, что его мог слышать только один его собеседник, – не ходите сюда никогда, мосье Жан Робер.
– Как?! Разве вы меня знаете?
– Знаю, как знают и все, – ответил Сальватор с безукоризненной вежливостью, – ведь вы один из наших знаменитейших поэтов.
Жан Робер покраснел до корней волос.
– А теперь, – продолжал Сальватор, обращаясь к толпе и мгновенно изменяя тон, – надеюсь, вы довольны и получили за свои деньги все, чего могли желать? Сделайте же одолжение, уберитесь отсюда поскорее. Воздуху здесь достаточно только на четверых; это значит, что я хочу остаться с этими господами один.
Толпа повиновалась ему, как стая школьников учителю, и, кланяясь молодому человеку, лицо которого было так же спокойно после предшествующей бурной сцены, как небо после грозы, стала молча спускаться с лестницы.
Четверо собутыльников Жана Быка прошли мимо него с опущенными головами и раскланялись перед ним так почтительно, как солдаты перед своим начальником.
Когда все они ушли, в дверях появился гарсон.
– Прикажете подать ужин, господа? – спросил он.
– Прикажем, и еще скорее, чем прежде, – ответил Жан Робер… – Надеюсь, вы будете так любезны отужинать с нами, мосье Сальватор? – прибавил он, обращаясь к молодому незнакомцу.
– Очень охотно, – ответил тот, – но не заказывайте для меня ничего лишнего. Я уже заказал себе ужин внизу, но услыхал шум и пришел сюда.
– Слышите? Ужин господина Сальватора подать сюда, – сказал Жан Робер гарсону.
– Слушаю-с! – ответил тот и убежал.
Спустя несколько минут, четверо молодых людей сидели за ужином.
Выпили сначала за победителей, потом за побежденных и, наконец, за того, кто подоспел так вовремя, чтобы предотвратить еще большее кровопролитие.
– А вы, кажется, отлично знаете и бокс, и борьбу, и фехтование, – заметил Сальватор, с улыбкой обращаясь к Жану Роберу – Вы дали бедняжке Жану ловкого туза в висок, превосходно лягнули его в грудь и собирались угостить премилым уколом рапиры, но я вошел и помешал вам… Ну, да это все равно!.. Стояли вы превосходно, и, будь я на месте мосье Петрюса, непременно нарисовал бы вас в этой позе.
– Как!? Вы знаете и меня? – вскричал Петрюс.
– Да, знаю, – с легким вздохом ответил Сальватор, точно это воспоминание навеяло на него облако грусти. – Прежде, чем завести мастерскую на улице Уэст, вы жили на улице дю-Регар, и там-то я и имел удовольствие видеть вас два или три раза.
Людовик все время молчал и сидел, задумавшись, точно сосредоточенно разрешал какую-то трудную задачу.
– Что это с вами, мосье Людовик? – спросил, обращаясь к нему, Сальватор. – Вы, кажется, чем-то озабочены? Так задумываться можно разве только перед экзаменами, а ведь у вас это дело, слава богу, окончено уже три месяца тому назад.
Жан Робер взглянул на Сальвадора с удивлением. Петрюс расхохотался.
– Вот, кстати, мосье Сальватор, – совершенно серьезно заговорил Людовик. – Вы знаете, кажется, все на свете…
– Вы очень любезны, – с улыбкой заметил Сальватор.
– Ну, так если вы знаете моих друзей, поэта Жана Робера и художника Петрюса, знаете, что я доктор, не знаете ли вы также, почему от кошачьего охотника так сильно разило валерьяной?
– Вы ловите рыбу, мосье Людовик?
– Да, иногда, в свободные минуты, хотя вообще я большей частью занят.
– В таком случае, как бы вы мало ни занимались рыболовством, вы, вероятно, знаете, что семена, которые употребляют для приманки карпов, сначала пропитывают мускусом или анисом.
– Ну, это знают не только рыболовы, но также и натуралисты.
– Тем лучше. А валерьяна для кошек то же самое, что анис или мускус для карпов, – она их привлекает. А так как дядя Жибеллот занимается охотой на них…
– О! – перебил Людовик, обращаясь к самому себе, с той несколько комичной флегмой, которая составляла одну из черт его характера. – О, наука! О, таинственная богиня! Неужели края твоего покрывала всегда открываются перед глазами смертных только случайно? И подумать только, что если бы Петрюсу не пришла фантазия ужинать в кабаке, если бы мы не поссорились с блузниками, я не дрался бы с кошачьим охотником, а вы не пришли бы вовремя разнять нас, то наука, может быть, еще десять, двадцать, наконец, сто лет все еще не знала бы тайны, что валерьяна для кошек то же, что анис и мускус для карпов.
Ужин шел весело.
Петрюс на жаргоне тогдашних мастерских рассказал, как ему однажды пришлось нарисовать в одном трактире двадцать портретов за неимением десяти франков двадцати сантимов, так что каждый портрет обошелся его счастливому обладателю по пятидесяти одному сантиму.