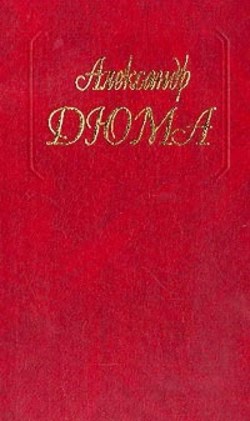I
В седьмой день месяца мая, который греки называют таргелион, в году пятьдесят седьмом от Рождества Христова и восемьсот десятом от основания Рима юная девушка лет пятнадцати-шестнадцати, высокая, красивая и быстрая в движениях, словно Диана-охотница, вышла из западных ворот Коринфа[1] и направилась на берег моря. Дойдя до лужайки, спускавшейся от опушки оливковой рощи к ручью, затененному померанцами и олеандрами, она остановилась и принялась собирать цветы. Вначале она колебалась, что ей рвать: фиалки и цветы шпажника, растущие под сенью деревьев Минервы, или же нарциссы и кувшинки, видневшиеся по берегам и на поверхности воды? Наконец она выбрала последние и, прыгнув, словно молодая лань, побежала к ручью.
На берегу она остановилась; от быстрого бега расплелись ее длинные волосы; она встала на колени, погляделась в воду и улыбнулась, увидев себя. И в самом деле, это была одна из прекраснейших дев Ахайи,[2] с полными неги черными глазами, ионическим носом.[3] и розовыми, будто коралл, губами; ее тело, крепкое, как мрамор, и гибкое, как тростник, напоминало статую Фидия, оживленную Прометеем[4] Лишь ступни ног, на вид слишком маленькие, чтобы выдержать вес девушки ее роста, казались несоразмерными; это можно было бы счесть недостатком, если бы кто-нибудь вздумал поставить в вину юному созданию подобное несовершенство. И даже нимфа Пирена, предоставившая ей зеркало своих слез, хоть и женщина, а не смогла лишить себя удовольствия воспроизвести этот образ во всей его прелести и чистоте. После минуты немого созерцания девушка разделила волосы на три пряди; те, что росли у висков, заплела в косы, соединила их на макушке и закрепила венком из олеандров и цветов померанца, который уже успела свить, и, оставив волосы сзади распущенными, словно грива на шлеме Паллады,[5] наклонилась, чтобы утолить жажду, ведь за этим и пришла она на край лужайки; и все же, сколь ни велика была жажда, девушка поддалась другому, еще более сильному желанию – стремлению убедиться, что она по-прежнему прекраснейшая из дочерей Коринфа. И вот живое лицо и отражение постепенно сблизились; можно было подумать, будто две сестры, нимфа и наяда, соединяются в нежном объятии: их губы соприкоснулись среди влаги, поверхность воды дрогнула, легкий бриз, пронесшись в воздухе, словно сладострастное дуновение, осыпал ручей розовым душистым дождем лепестков, и течение понесло их к морю.
Встав, девушка взглянула на залив и на мгновение замерла, захваченная открывшимся ей зрелищем: подгоняемая ветром с Делоса,[6] к берегу приближалась галера с двумя рядами весел, с позолоченной кормой и окрашенными в пурпур парусами. Хотя корабль был еще в четверти мили от берега, с него доносились голоса матросов, певших гимн Нептуну. Девушка узнала фригийский лад, на котором сочинялись священные гимны;[7] однако звуки, доносившиеся до нее, были непохожи на резкие голоса калидонских[8] или кефалленийских[9] рыбаков: хотя ветер рассеивал и приглушал их, они казались столь же искусными и так же ласкали слух, как песни жриц Аполлона. Привлеченная этой мелодией, юная коринфянка встала, сорвала несколько цветущих веток померанца и олеандра, чтобы сплести еще один венок и на обратном пути возложить его в храме Флоры, которой был посвящен месяц май; затем неспешной походкой, выдававшей любопытство и в то же время робость, она пошла к берегу моря, на ходу свивая душистые ветви, сорванные у ручья.
Бирема,[10] между тем приближалась к берегу, и теперь девушка могла не только слышать голоса, но и видеть лица поющих; песнь представляла собой моление, обращенное к Нептуну: его вначале исполнял корифей[11] а затем подхватывал хор, и ритм его был таким мягким и таким гармоничным, что оно вторило мерным движениям гребцов, налегавших на весла, и самих весел, ударявших о воду. Тот, кому отвечал хор, и кто, по-видимому, был хозяином судна, стоял на носу и аккомпанировал себе на трехструнной кифаре, вроде той, с которой ваятели изображают Эвтерпу, покровительницу гармонии;[12] у ног его лежал раб в длинном азиатском одеянии, которое могло принадлежать как мужчине, так и женщине, поэтому девушка на берегу не могла понять, кто это. Поющие гребцы стояли возле своих скамей и хлопали в такт: они благодарили Нептуна за попутный ветер, давший им передышку.
Два столетия тому назад это зрелище привлекло бы внимание разве что ребенка, собирающего раковины на песчаном берегу, теперь же оно вызвало крайнее изумление у юной девушки. Теперешний Коринф уже не был, как во времена Суллы, братом и соперником Афин. В году шестьсот восьмом от основания Рима консул Муммий взял город штурмом, граждане его погибли от меча, женщины и дети были проданы в рабство, дома сожжены, стены разрушены, статуи отправлены в Рим, а картины, за одну из которых Аттал,[13] некогда предлагал миллион сестерциев, служили подстилками римским солдатам: однажды Полибий[14] застал их играющими в кости на творении Аристида. Восемьдесят лет спустя Юлий Цезарь выстроил город заново[15] окружил его стенами, основал в нем римскую колонию, и Коринф снова начал возвращаться к жизни, но до прежнего великолепия было еще далеко. С целью как-то поднять значение города римский проконсул объявил о проведении с десятого мая в Коринфе Немейских,[16] Истмийских и Флоралийских,[17] игр[18] на которых он должен был увенчать победителей – самого могучего атлета, самого умелого возницу и самого искусного певца. По этой причине вот уже несколько дней разноплеменная толпа чужестранцев стекалась в столицу Ахайи, привлеченная либо простым любопытством, либо желанием завоевать награды; это обстоятельство на короткое время вернуло обескровленному, ограбленному городу былой блеск и оживление. Одни прибывали на колесницах, другие – верхом, третьи приплывали на нанятых или выстроенных ими судах; но никто из них не входил в гавань на столь богато украшенном судне, как то, что в эту минуту коснулось берега, который некогда оспаривали друг у друга влюбленные в него Аполлон и Нептун. Как только бирему вытащили на песок, матросы приставили к ее носовой части лесенку из лимонного дерева, выложенную серебром и бронзой, и певец, перекинув кифару за спину, сошел на берег, опираясь на раба, до этого лежавшего у его ног. Первый из них был красивый молодой человек лет двадцати семи – двадцати восьми, белокурый, голубоглазый, с золотистой бородой; одет он был в пурпурную тунику и синюю хламиду,[19] расшитую золотыми звездами; на шее у него был повязан шарф, концы которого свешивались до пояса. Другой казался лет на десять моложе: это был отрок на пороге юности; походка его была медленной, весь облик – болезненным и печальным, и все же свежесть его щек вызвала бы зависть у самой цветущей женщины; его розовая прозрачная кожа тонкостью могла бы поспорить с кожей самых сладострастных дев изнеженных Афин, а его белая пухлая рука по своим очертаниям и своей слабости, казалось, была предназначена скорее крутить веретено или держать иглу, чем носить меч или дротик, как подобает мужчине и воину. Как мы уже сказали, он был в белом одеянии, длиною до колен, расшитом золотыми пальмовыми ветвями; его длинные волосы ниспадали на обнаженные плечи, а на шее висело на золотой цепочке маленькое зеркало в оправе из жемчужин.
В то мгновение, когда он собирался ступить на землю, спутник резко остановил его. Юноша вздрогнул.
– Что случилось, господин? – спросил он тихо и боязливо.
– А то, что ты собирался ступить на берег левой ногой, и эта твоя неосторожность могла свести на нет все мои расчеты, благодаря которым мы прибыли сюда в девятый день нон,[20] а это доброе предзнаменование.
– Ты прав, господин, – ответил юноша, ступив на берег правой ногой; его спутник сделал то же самое.
– Чужестранец, – сказала старшему из путешественников дева (она слышала их слова, произнесенные на ионийском наречии[21]), – земля Греции, какой ногой на нее ни ступишь, благоприятствует всякому, кто прибывает на нее с дружескими намерениями: это земля любви, поэзии и сражений; у нее есть венки для влюбленных, для поэтов и для воинов. Кем бы ты ни был, чужестранец, прими этот венок в ожидании того, другого, за которым ты, как видно, сюда явился.
Молодой человек без колебаний принял и надел венок, что дала ему коринфянка.
– Боги благосклонны к нам! – воскликнул он. – Взгляни, Спор, вот померанец, яблоня Гесперид: его золотые плоды даровали победу Гиппомену, замедлив бег Аталанты,[22] а вот олеандр, дерево, любимое Аполлоном. Как зовут тебя, славная пророчица?
– Меня зовут Актея, – покраснев, ответила девушка.
– Актея! – воскликнул старший из путешественников. – Слышишь, Спор? Вот новое предзнаменование: Актея означает «берег». Значит, земля Коринфа ждала меня, чтобы наградить венком.
– Что же тут удивительного, Луций? Разве это не назначено тебе судьбой? – ответил юноша.
– Насколько я понимаю, – робко вмешалась девушка, – ты прибыл сюда, чтобы оспаривать одну из наград, обещанных победителям римским проконсулом?
– Помимо красоты, боги наделили тебя даром ясновидения, – отозвался Луций.
– Должно быть, у тебя есть родственники в городе?
– Вся моя семья находится в Риме.
– Ну тогда, быть может, какие-нибудь друзья?
– Мой единственный друг стоит перед тобой, и он, как и я, чужой в Коринфе.
– Но есть ли у тебя здесь хотя бы знакомые?
– Никого.
– У нас большой дом, и мой отец любит гостей, – продолжала девушка. – Быть может, Луций удостоит нас своим посещением? Мы будем молить Кастора и Поллукса быть к нему благосклонными…[23]
– А ты, девушка, не их ли сестра, не Елена?[24] – улыбаясь, перебил ее Луций. – Рассказывают, будто она любила купаться в источнике где-то неподалеку отсюда. Как видно, этот источник обладал чудесным свойством – продлевать жизнь и сохранять красоту. Наверно, Венера открыла эту тайну Парису,[25] а Парис доверил ее тебе. Если это так, прекрасная Актея, отведи меня к этому источнику: повстречав тебя однажды, я теперь хочу жить вечно, чтобы видеть тебя всегда.
– Увы! Я не богиня, – отвечала Актея, – и ключ Елены не обладает такой чудесной силой, но, как ты правильно сказал, он недалеко отсюда: гляди, всего в нескольких шагах он низвергается со скалы в море.
– Значит, этот храм возле источника посвящен Нептуну?
– Да, и эта сосновая аллея ведет к стадиону. Говорят, прежде здесь перед каждым деревом стояла статуя. Но Муммий забрал их, и они навсегда покинули мою родину, чтобы отправиться на твою. Пойдем по этой аллее, Луций, – улыбаясь, продолжала девушка, – она ведет к дому моего отца.
– Что ты думаешь об этом предложении, Спор? – спросил молодой человек, перейдя с греческого языка на латинский.
– Что твоя счастливая судьба не давала тебе оснований сомневаться в ее постоянстве.
– Ну что ж, доверимся ей и на этот раз, ведь никогда еще она не являлась в таком влекущем и чарующем облике.
Затем, снова перейдя на ионийское наречие, на котором он говорил необычайно чисто и правильно, Луций сказал:
– Веди нас, девушка, ибо мы готовы следовать за тобой; а ты, Спор, прикажи Либику присматривать за Фебой.
Актея пошла впереди, в то время как юноша, выполняя приказ своего господина, поднимался на корабль. Дойдя до стадиона, она остановилась:
– Взгляни, – сказала она Луцию, – вот гимнасий.[26] Он уже полностью подготовлен, даже пол посыпан песком, ведь игры начнутся послезавтра, и начнутся с состязания борцов. Справа, на том берегу ручья, в конце сосновой аллеи, – ипподром. Как ты знаешь, второй день игр будет посвящен гонкам колесниц. И наконец, вон там, на склоне холма, ближе к крепости, находится театр, где будут состязаться певцы. Какой из трех венков будет оспаривать Луций?
– Все три, Актея.
– Ты честолюбив, чужестранец.
– Число три любезно богам, – заметил Спор, успевший присоединиться к своему спутнику, и путешественники, ведомые прекрасной коринфянкой, продолжали свой путь.
Недалеко от города Луций остановился.
– Что это за источник? – спросил он. – И что это за разбитые барельефы? Мне кажется, они восходят к временам наивысшего расцвета Греции.
– Это источник Пирены, – ответила Актея. – Ее дочь была убита Дианой на этом самом месте, и богиня, видя горе матери, превратила Пирену в источник,[27] когда та оплакивала дочь, упав на ее тело. А создателем этих барельефов был Лисипп,[28] ученик Фидия.
– Взгляни, Спор, – восторженно воскликнул молодой человек с лирой, – взгляни, какой великолепный замысел! Какая выразительность! Это сражение Улисса с искателями руки Пенелопы, не правда ли? Посмотри, как правдиво умирает этот раненый, как он корчится, как страдает. Стрела торчит у него прямо под сердцем; попади она чуть выше – и не было бы этих смертных мук. О, ваятель был большой искусник, он знал свое дело. Я прикажу перевезти этот мрамор в Рим или в Неаполь, пускай стоит в моем атрии. Таких предсмертных мук я не видел даже у живых людей.
– Это один из остатков нашего былого великолепия, – сказала Актея, – город высоко ценит его и гордится им; подобно матери, потерявшей прекраснейших детей, он дорожит теми, что остались. Вряд ли ты, Луций, достаточно богат, чтобы купить этот обломок.
– Купить! – ответил Луций с неизъяснимым пренебрежением. – Зачем мне его покупать, если я могу просто взять его? Если я хочу получить этот мрамор, он будет мой, хоть бы весь Коринф был против! (Спор сжал руку своего господина.) Другое дело, – продолжал он, – если прекрасная Актея скажет мне, что она желает, чтобы этот рельеф остался на ее родине.
– Не понимаю, откуда у тебя такая власть, Луций, и столь же трудно понять, откуда она у меня, но все же я благодарна тебе. Оставь нам наши обломки, римлянин, и не довершай дела своих отцов. Они пришли как победители, а ты приходишь как друг. То, что с их стороны было варварством, с твоей было бы кощунством.
– Успокойся, девушка, – ответил Луций. – Я заметил, что в Коринфе есть нечто куда более ценное, чем рельеф Лисиппа, который, в сущности, не более чем мрамор. Когда Парис прибыл в Спарту, он похитил там не статую Минервы или Дианы, но Елену, прекраснейшую из спартанских женщин.
Под горящим взглядом Луция Актея опустила глаза и, продолжая свой путь, вошла в город; оба римлянина последовали за ней.
В эти дни к Коринфу вернулось его былое оживление. Известие об играх, что должны были там состояться, привлекло соискателей наград не только со всей Греции, но также из Сицилии, из Египта и из Азии. В каждом доме уже было по гостю, и двум римлянам было бы крайне затруднительно найти себе пристанище, если бы Меркурий, покровитель путешественников, не послал им навстречу эту гостеприимную юную деву.
Она провела их по городскому рынку, где в тесноте и беспорядке продавалось все: египетские папирусы, льняные ткани, ливийские изделия из слоновой кости, киренские кожи, ладан и мирра из Сирии, карфагенские ковры, сидонские финики, тирский пурпур, фригийские рабы, кони из Селинунта, мечи кельтиберов,[29] галльские кораллы и карбункулы.[30] Затем, продолжая путь, они миновали площадь, где некогда возвышалась статуя Минервы – дивное творение Фидия,[31] которое из уважения к великому ваятелю так и не решились ничем заменить, – свернули на одну из улиц и еще через несколько шагов остановились перед стариком, стоявшим на пороге своего дома.
– Отец, – сказала Актея, – вот гость, которого посылает нам Юпитер. Я встретила его, когда он сходил с корабля, и предложила ему остановиться у нас.
– Добро пожаловать, златобородый юноша, – сказал в ответ Амикл и, одной рукой отворяя дверь, протянул другую Луцию.
II
На следующий день после того, как дверь Амикла открылась для Луция, молодой римлянин, Актея и ее отец возлежали в триклинии.[32] за празднично накрытым столом и готовились бросить жребий, кому быть царем пира[33] Старик и девушка хотели уступить эту честь гостю; но он, то ли из суеверия, то ли из почтения к ним, отказался от венка, и тогда хозяева велели принести тали.[34] Первым рожок взял старик, у него получился «бросок Геркулеса». Затем бросила кости Актея: у нее получился «бросок колесницы». Наконец настал через молодого римлянина. Он взял рожок с видимым беспокойством, долго встряхивал его, дрожащей рукой опрокинул над столом и вскрикнул от радости – это был «бросок Венеры»,[35] лучший из возможных.
– Видишь, Спор, – воскликнул он по-латински, – видишь, боги несомненно благоволят к нам, и Юпитер не забыл, что род наш восходит к нему: бросок Геркулеса, бросок колесницы и бросок Венеры – можно ли вообразить более удачное сочетание для того, кто хочет состязаться в борьбе, гонках и в пении, да и потом – в худшем случае – разве последний бросок не сулит мне двойную победу?
– Ты родился в счастливый день, – ответил юноша, – и солнце коснулось тебя перед тем, как ты коснулся земли: и в этот раз, как и во все предыдущие, ты победишь всех соперников.
– Увы! Было время, – вздохнув, сказал по-латински старик, – было время, когда Греция могла бы предложить противников, достойных оспаривать у тебя победу; но где те дни, когда Милон Кротонский на Пифийских играх был награжден шестью венками,[36] когда афинянин Алкивиад;[37] выставил на Олимпийских играх семь колесниц и завоевал четыре награды? Вместе со свободой Греция утратила ловкость и силу, и Рим начиная с Цицерона посылал к нам своих сынов, чтобы отнимать у нас все наши награды[38] так пусть Юпитер, от которого, как ты похваляешься, пошел твой род, покровительствует тебе, молодой человек! Ибо после чести увидеть, как победа достанется одному из моих сограждан, самое большое удовольствие для меня – увидеть, как ее удостоится мой гость; принеси же венки из цветов, дочь моя, пока у нас нет лавровых.
Актея вышла и вскоре вернулась с венком из мирта и шафрана[39] для Луция, венком из сельдерея и плюща для отца и венком из лилий и роз для себя. Кроме того, один из молодых рабов принес другие венки, побольше, и пирующие надели их себе на шею. Актея разместилась на ложе справа, Луций занял консульское место,[40] а старик, стоя между дочерью и гостем, совершил возлияние и произнес молитву богам, затем в свою очередь возлег на ложе, говоря молодому римлянину:
– Как видишь, сын мой, мы не отступили от установленных правил, ибо число сотрапезников, если верить одному из наших поэтов, должно быть не менее числа граций, но и не должно превосходить число муз.[41] Рабы, подавайте кушанья первой перемены!
Принесли нагруженный блюдами поднос; рабы стали поблизости, готовые повиноваться первому же знаку пирующих. Спор улегся у ног хозяина, чтобы тот мог вытирать руки о его длинные волосы, а сциссор[42] приступил к своим обязанностям.
Когда принесли вторую перемену блюд и аппетит сотрапезников был отчасти утолен, старик остановил взор на госте и со старческим благодушием некоторое время разглядывал прекрасное лицо Луция, кому белокурые волосы и золотистая борода придавали необычайное выражение.
– Ты прибыл из Рима? – спросил он.
– Да, отец мой, – ответил молодой человек.
– Из самого Рима?
– Я сел на корабль в гавани Остии.
– Боги по-прежнему хранят божественного императора и его мать?
– По-прежнему.
– Не готовится ли Цезарь выступить в поход?
– Сейчас нет такого народа, который бы восстал. Цезарь, властитель мира, дал миру покой, при котором расцветут искусства: он затворил врата в храме Януса[43] и взял в руки лиру, чтобы воспеть хвалу богам.
– А он не боится, что, пока он поет, царствовать будут другие?
– А! – нахмурился Луций. – Так, значит, и в Греции поговаривают о том, что император – дитя?
– Нет, но люди боятся, что он еще долго будет медлить со своим превращением в мужчину.
– Я думал, что он надел тогу совершеннолетнего на похоронах Британика.[44]
– Британик давно уже был приговорен к смерти Агриппиной.[45]
– Да, но убил его Цезарь, я могу поручиться за это, верно ведь, Спор? Юноша поднял голову и улыбнулся.
– Он убил брата! – воскликнула Актея.
– Он воздал смертью сыну за смерть, уготованную матерью ему самому. Если ты об этом не знаешь, девушка, спроси отца, он, как видно, слыхал об этих делах: Мессалина.[46] послала солдата убить Нерона в колыбели, и солдат уже хотел нанести удар, как вдруг из постели ребенка выползли две змеи и обратили центуриона в бегство[47] Нет, нет, высокочтимый, успокойся, Нерон не дурак, как Клавдий,[48] не безумец, как Калигула, не трус, как Тиберий, и не гистрион,[49] как Август.
– Сын мой, – ужаснулся старик, – послушай себя, ты же оскорбляешь богов!
– Клянусь Геркулесом, до чего смешны боги! – воскликнул Луций. – Ну, разве не забавен бог Октавиан,[50] который боялся жары и холода, боялся грома и явился из Аполлонии к старым легионам Цезаря, хромая, точно Вулкан! Вот так бог, чья рука была столь слаба, что порой не могла удержать перо; он прожил свой век, так и не осмелившись хоть раз по-настоящему быть императором, и перед смертью спросил, хорошо ли он сыграл свою роль! Разве не забавен бог Тиберий с его капрейским Олимпом,[51] откуда он не смел высунуться и где сидел точно пират на бросившем якорь корабле, между Фрасиллом, заботившимся о его душе, и Хариклом, управлявшим его телом![52] Тиберий, кто правил миром и не мог простереть над ним крылья, словно орел, а вместо этого забился в расселину скалы, точно филин! Разве не забавен бог Калигула, кто от выпитого зелья помрачился в уме:[53] он считал себя столь же великим, как Ксеркс, оттого что выстроил мост из Путеол в Байи[54][55] и столь же могущественным, как Юпитер, оттого что изображал грозу, катаясь в бронзовой колеснице по медному мосту;[56] он, кто называл себя женихом Луны![57] и кого Херея и Сабин двадцатью ударами меча послали справлять свадьбу на небо[58] Разве не забавен бог Клавдий, кого однажды искали на троне, а нашли за ковром;[59] раб и игрушка четырех жен, самолично подписавший брачный договор своей супруги Мессалины со своим же вольноотпущенником Силием![60] Потешный бог, у кого при каждом шаге подгибались колени, при каждом слове шла пена изо рта, у кого запинался язык и тряслась голова![61] Аи да бог – жил, всеми презираемый, не умея внушать страх, и умер, поев грибов, собранных Галотом, очищенных Агриппиной и приправленных Локустой![62] О! Что и говорить, замечательные боги, и как же величественно должны они выглядеть на Олимпе рядом с Геркулесом, несущим палицу, рядом с возницей Кастором[63] и кифаредом Аполлоном!
После этой неожиданной и кощунственной выходки Луция на несколько мгновений наступило молчание. Амикл и Актея с удивлением смотрели на гостя, и прерванная беседа еще не успела возобновиться, когда вошел раб и сообщил, что явился посланный от проконсула Гнея Лентула.[64] Старик спросил, к кому прибыл посланный: к хозяину или к его гостю. Раб отвечал, что это ему неизвестно, и ликтора ввели в дом.
Он прибыл к гостю: проконсул узнал, что в гавань вошел корабль, понял, что владелец корабля собирается оспаривать награды, и приказывал ему явиться во дворец префекта,[65] чтобы внести свое имя в список состязателей и заявить, какой из венков он будет оспаривать. Старик и Актея встали, слушая приказы проконсула; Луций же выслушал их, возлежа на пиршественном ложе.
Когда ликтор умолк, Луций вытащил из-за пазухи таблички слоновой кости, покрытые воском, на одной из них нацарапал острием стилета несколько строк,[66] припечатал табличку своим перстнем и отдал ее ликтору, приказав отнести ответ Лентулу. Удивленный ликтор колебался; Луций повелительно взмахнул рукой; солдат поклонился и вышел. Тогда Луций щелкнул пальцами, подзывая раба, протянул свой кубок виночерпию, наполнившему его, выпил часть вина за здоровье хозяина дома и его дочери, а остаток отдал Спору.
– Молодой человек, – сказал старик, первым нарушив молчание, – ты называешь себя римлянином, но мне трудно в это поверить; если бы ты жил в императорской столице, то лучше умел бы выполнять приказы представителей Цезаря: проконсул здесь столь же всевластен и столь же чтим, как Клавдий Нерон в Риме.
– Разве ты забыл, что в начале трапезы боги на время сделали меня равным императору, избрав царем пира? Видел ты когда-нибудь, чтобы царь спускался с трона и повиновался приказам проконсула?
– Так ты отказался повиноваться? – с ужасом спросила Актея.
– Нет, но я написал Лентулу, что, если ему так хочется узнать мое имя, узнать с какой целью я прибыл в Коринф, то он может прийти и сам спросить об этом.
– И ты думаешь, он придет? – воскликнул старик.
– Не сомневаюсь, – ответил Луций.
– Сюда, в мой дом?
– Прислушайся, – сказал Луций.
– А что?
– Вот он стучится в дверь: я узнаю звук фасций. Вели отворить, отец мой, и оставь нас одних.
Старик и его дочь в изумлении встали и сами пошли к двери; Луций остался лежать.
Он не ошибся: это действительно был сам Лентул. Взмокшее от пота лицо свидетельствовало о том, с какой поспешностью он явился на приглашение чужестранца; он торопливо и взволнованно спросил, где благородный Луций, и когда ему указали комнату, снял тогу и вошел в триклиний, закрыв за собой дверь, у которой тут же стали на страже ликторы.
Никто не узнал, что произошло во время этого свидания. Проконсул удалился не ранее чем через четверть часа; Луций вышел в перистиль и присоединился к прогуливающимся там Амиклу и Актее. Его лицо было спокойным и приветливым.
– Отец мой, – сказал он, – вечер сегодня прекрасный, не хочешь ли проводить твоего гостя к крепости, откуда, говорят, открывается великолепный вид? Кроме того, я очень желал бы убедиться, что приказ Цезаря выполнен: ведь он, узнав, что игры будут проводиться в Коринфе, отправил сюда древнюю статую Венеры, дабы она благоприятствовала римлянам, что прибудут сюда состязаться с вами за венки.
– Увы, сын мой, – ответил Амикл, – я уже слишком стар, чтобы служить проводником, но у нас есть Актея, легконогая, словно нимфа, она и проводит тебя.
– Благодарю, отец мой, я не попросил об этом одолжении из страха, что Венера позавидует красоте твоей дочери и в отместку навредит мне; но раз ты сам мне это предлагаешь, то я наберусь духу и соглашусь.
Актея залилась румянцем, улыбнулась и по знаку отца побежала за покрывалом. Вернулась она закутанная столь же тщательно, как добродетельная римская матрона.
– Принесла ли сестра моя обет богам или, быть может, она – о чем я и не догадывался – жрица Минервы, Дианы или Весты? – спросил Луций.
– Нет, сын мой, – сказал старик, взяв его за руку и отведя в сторону. – Но ты, наверно, знаешь, что Коринф – город гетер: в память о том, что их заступничество спасло город от нашествия Ксеркса, мы запечатлели их на картине, подобно тому, как афиняне написали портреты своих полководцев после Марафонской битвы. С тех пор мы так боимся остаться без них, что покупаем их в Византии, на островах Архипелага и даже в Сицилии.[67] Их узнают по открытому лицу и открытой груди. Не беспокойся, Актея вовсе не жрица Минервы, Дианы или Весты; однако она боится, как бы ее не приняли за служительницу Венеры, – и он добавил погромче: – Идите, дети мои; когда взойдете на вершину холма, ты, Актея, покажешь гостю памятные места и расскажешь о славном прошлом Греции, свидетелями которого они были. Единственное благо, какое остается рабу и какое не могут отнять у него хозяева, – это память о временах, когда он был свободен.
Луций и Актея отправились в путь; вскоре они достигли северных городских ворот и пошли по дороге, ведущей к крепости. С птичьего полета крепость казалась близко – едва ли в пятистах шагах от города, однако дорога так петляла, что им понадобилось не менее часа, чтобы ее пройти. В пути Актея останавливалась дважды: первый раз – чтобы показать Луцию могилу детей Медеи; второй раз – чтобы он увидел место, где некогда Беллерофонт получил в дар от Минервы коня Пегаса. Наконец они дошли до крепости, и перед входом в стоящий у крепости храм Луций увидел знакомую ему статую Венеры, всю увешанную блистающим оружием; справа от нее – статую Амура, а слева – статую Солнца, бога, которого первым стали почитать в Коринфе.[68] Луций простерся ниц и вознес молитву.
Почтив богов, Луций и Актея пошли по тропинке, пересекавшей священную рощу и вела на вершину холма. Вечер выдался великолепный, небо было безоблачно, а море спокойно. Коринфянка шла впереди и казалась Венерой, ведущей Энея по дороге в Карфаген;[69] Луций шел позади, вдыхая воздух, напоенный благоуханием ее волос. Время от времени она оборачивалась и, поскольку, выйдя из города, она сдвинула покрывало на плечи, горящий взор римлянина не мог оторваться от прелестного лица, которому ходьба придала живости, и груди, которая высоко вздымалась под легким покровом туники. По мере того как они поднимались, расстилавшийся перед ними вид становился все пространнее. Наконец, добравшись до самой высокой точки холма, Актея остановилась под шелковицей и прислонилась к ее стволу, чтобы перевести дыхание.
– Вот мы и пришли, – сказала она Луцию. – Что ты скажешь об этом виде? Не правда ли, он не уступает тому, что открывается из Неаполя?
Римлянин не ответил; он подошел к ней, обхватил рукой толстую ветвь шелковицы и, вместо того чтобы взглянуть на открывшийся перед ним вид, устремил на Актею глаза, горевшие такой страстью, что девушка, чувствуя, как краснеет, поспешила заговорить, чтобы скрыть волнение.
– Погляди туда, на восток, – продолжала она, – и, хотя уже начинаются сумерки, вон там ты увидишь крепость Афин, похожую на белую точку, и Сунийский мыс, что вырисовывается на лазури волн будто наконечник копья; ближе к нам, в Саронийском заливе, вон тот остров в виде подковы – это Саламин, где сражался Эсхил и где Ксеркс потерпел поражение;[70] там, внизу, ближе к югу в направлении Коринфа и приблизительно в двух сотнях стадиев отсюда, – Немея и лес, где Геракл убил льва, чью шкуру он потом носил в память о своей победе; там, вдали, у подножия горной цепи, замыкающей горизонт – Эпидавр, любезный Эскулапу;[71] за Эпидавром – Аргос, родина царя царей.[72] На западе, в потоках золота от заходящего солнца, за плодородными равнинами Сикиона, за голубой полоской моря, на небосклоне виднеются, словно два завитка дыма, Сама[73] и Итака – видишь их? А теперь повернись спиной к Коринфу и погляди на север: справа от нас – гора Киферон, где бросили на погибель новорожденного Эдипа; налево – Левктры, где Эпаминонд разбил лакедемонян; прямо напротив нас – Платеи, где Аристид и Павсаний победили персов; а там, посредине и на оконечности горной цепи, тянущейся от Аттики до Этолии, – Геликон, заросший соснами, миртами и лаврами, и Парнас с его двумя заснеженными вершинами, а между ними бьет Кастальский ключ, получивший от муз способность наделять поэтическим даром тех, кто пьет его воду.