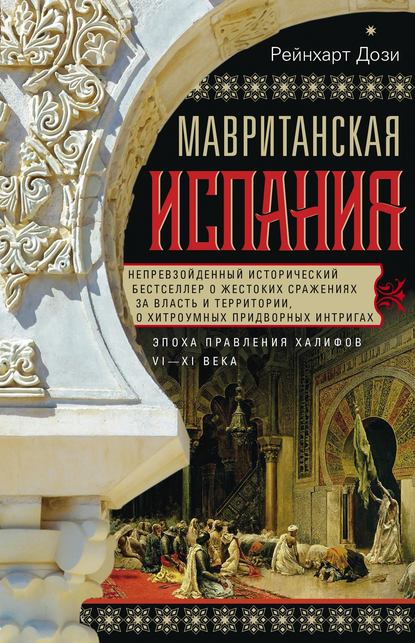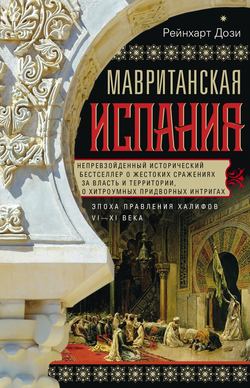
000
ОтложитьЧитал
В заключение Каис дал понять Муавии, что ансары с радостью будут служить ему: несмотря на их набожность и нежелание служить неверующему, они не могут примириться с утратой важных и выгодных постов. Муавия на это ответил:
– Я не знаю, ансары, какое право вы имеете на мое милосердие. Клянусь небом, вы всегда были моими непримиримыми врагами. Это вы в битве при Сиффине едва не разгромили меня – тогда ваши блестящие копья сеяли панику среди моих людей. Сатира ваших поэтов больно жалила меня. А теперь, когда Бог установил то, что вы старались разрушить, вы приходите ко мне и предлагаете обратить внимание на слова пророка. Нет, союз между нами едва ли возможен!
Кайс, гордость которого была уязвлена, сменил тон:
– Право на твое милосердие дает нам то, что мы хорошие мусульмане: одного только этого достаточно в глазах Бога. Это правда, что люди, объединившиеся против пророка, имеют другие доводы, более весомые для тебя. Мы не завидуем им. Да, мы были твоими врагами на поле боя, но, будь у тебя желание, ты мог бы предотвратить войну. Пусть наши поэты провоцировали тебя своими сатирами, но то, что в них ложно, забудется, а правда останется. Твоя власть установлена. Хотя с сожалением, но мы признаем этот факт. В битве при Сиффине, когда мы были близки к победе над тобой, мы сражались под знаменами человека, который верил, что выполняет волю Всевышнего. Что касается наставлений пророка, каждый правоверный будет следовать им. Но раз ты заявляешь, что наше единство невозможно, теперь только Бог может помешать тебе творить зло, о Муавия!
Возмущенный такой дерзостью, халиф закричал:
– Немедленно убирайтесь!
«Защитники» уступили. Власть вернулась к вождям племен – старой знати. Тем не менее сирийцы не чувствовали удовлетворения. Они рассчитывали полностью насладиться всеобъемлющей местью. Муавия, человек умеренный, не позволил этого, однако они понимали: настанет день, когда конфликт вспыхнет снова, и тогда борьба уже будет не на жизнь, а на смерть. Что касается «защитников», их сердца терзали гнев и раздражение. Пока жив Муавия, власть Омейядов настолько прочна, что пытаться свергнуть ее – бесполезно. Но Муавия не бессмертен. Решив не поддаваться отчаянию, мединцы стали готовиться к будущим сражениям.
Во время этого периода вынужденного бездействия задача воинов перешла к поэтам обеих сторон. Кровожадные сатиры давали выход взаимной ненависти. Ссоры и перебранки вспыхивали ежедневно. И если сирийцы и принцы из Омейядов не упускали ни одной возможности продемонстрировать ансарам ненависть и презрение, последние платили им той же монетой.
Глава 4
Язид I
Муавия незадолго до смерти посоветовал своему сыну Язиду бдительно следить за Хусейном, вторым сыном Али. Его старший сын, Хасан Разводящийся, к этому времени уже умер, отравленный одной из жен. Шииты верили, что к этому причастен Муавия. Также следовало присматривать за Абдуллахом, сыном Зубайра, в свое время претендовавшим на трон. Эти люди были опасны. Они оба жили в Медине. Когда Хусейн сообщил Абдуллаху, что халиф, судя по всему, мертв, тот проинформировал его о своих намерениях: «Я никогда не признаю Язида своим сувереном! Он пьяница, распутник и имеет безрассудную страсть к охоте». Абдуллах не ответил, хотя имел такое же мнение.
Язид I не обладал ни умеренностью, ни утонченными манерами отца, а также не разделял его склонности к легкой жизни и комфорту. Он был точной копией своей матери Майсун, удалой бедуинки, которая, по ее собственному выражению, предпочитала свист ветра в пустыне стараниям даже самых талантливых музыкантов и сухую корку хлеба, съеденную в тени шатра, всем пышным яствам, подаваемых ей в роскошных залах Дамаска. Прошедший обучение под руководством матери в племени бени кельб, Язид получил качества скорее уместные для молодого вождя племени, чем для монарха. Он презирал церемонии и этикет, был учтив со всеми, весел, щедр, красноречив. Кроме того, он был весьма неплохим поэтом, любил охоту, танцы, вино и песни. Его отношение к строгой религии, во главе которой его поставил случай и против которой безуспешно боролся его дед, было прохладным. Набожность – часто неискренняя, и высокие моральные устои – нередко притворные, ветеранов ислама были чужды его открытой натуре. Он даже не пытался скрывать, что предпочитает то время, которое теологи назвали Джахилией – веком невежества. И он без каких-либо угрызений совести предавался наслаждениям, запрещенным Кораном, исполняя любой каприз своего изменчивого нрава. При этом он ни с кем не соблюдал строгий этикет. В Медине его ненавидели, зато в Сирии обожали. По крайней мере, так считал Исидор. Замечания этого почти современного писателя о характере Омейядов представляют особый интерес, поскольку он выражал мнение сирийцев Испании, а более поздние арабские хронисты судили этих принцев с точки зрения мединцев.
Как и прежде, старая мусульманская партия имела изобилие командиров, но без войск. Хусейн, который, легко избежав пристального внимания доверчивого правителя Медины, нашел убежище вместе с Абдуллахом на священной земле Мекки, был счастлив, получив письмо от арабов Куфы, попросивших его возглавить их. Они обещали признать его халифом и заставить сделать то же самое все население Ирака. Посланцы из Куфы прибывали один за другим, и последний доставил послание выдающейся длины. Одни только подписи заняли сто пятьдесят листов. Напрасно осторожные и дальновидные друзья советовали ему не бросаться сломя голову в столь опасную авантюру и не доверять обещаниям и фальшивому энтузиазму народа, обманувшего и предавшего его отца. Только Хусейн, гордо демонстрируя полученные им петиции, которых, по его утверждению, было так много, что хватило бы навьючить верблюда, предпочитал слушать вредные подсказки своего честолюбия. Он покорился своей судьбе и отправился в Куфу, к большому удовлетворению своего фальшивого друга Абдуллаха, который, в то время как все считали его неспособным противостоять внуку пророка, внутренне ликовал, видя, как он покорно идет навстречу гибели, можно сказать, подставляет голову палачу.
В приверженности, которую демонстрировали делу Хусейна в Ираке, не было религиозной составляющей. Эта провинция была в особом положении. Муавия, хотя родился в Мекке, основал династию, по сути, сирийскую. При нем Сирия превратилась в доминирующую провинцию. Дамаск стал столицей империи; при халифате Али Куфа занимала почетное место. Уязвленные в своей гордыне арабы Ирака с самого начала проявили беспокойный, мятежный, анархичный – в общем, очень арабский дух. Вскоре провинция стала местом сбора политических смутьянов всех мастей, бандитов и убийц. После этого Муавия доверил управление ею Зияду, своему сводному брату. Кто был отец Зияда, точно неизвестно, но Муавия признал его сыном Абу Суфьяна. Зияд не удовлетворился тем, что держал горячих голов в узде: он их уничтожил. Он ездил по стране с отрядом солдат, ликторов и палачей и железной рукой подавлял любые попытки поднять политические или социальные беспорядки. Благодаря его суровому, можно сказать, безжалостному управлению в провинции установилась спокойная обстановка, но именно по этой причине Ирак был готов приветствовать Хусейна.
Однако терроризм держал в своих когтях жителей провинции крепче, чем они сами это понимали. Зияда больше не было, но он оставил сына, достойного отца – его звали Обайдаллах. Именно ему Зияд доверил задачу подавить заговор в Куфе, когда Нуман ибн Башир, правитель города, выказал умеренность, показавшуюся халифу подозрительной. Выступив из Басры во главе войска, Обайдаллах остановился на некотором расстоянии от Куфы. Закрыв лицо, он ночью вошел в город в сопровождении всего десяти солдат. Чтобы прозондировать настроения горожан, он сказал своим людям, чтобы они во всеуслышание называли его Хусейном. Многие знатные горожане предложили ему гостеприимство. Фальшивый Хусейн отказался от их приглашений, и, окруженный взволнованной толпой, скандировавшей «Да здравствует Хусейн!», он направился к крепости. Нуман сразу приказал закрыть ворота. Обайдаллах потребовал, чтобы их открыли и впустили внука пророка. Нуман ответил: «Возвращайся туда, откуда пришел. Я предвижу твою судьбу и не хотел бы, чтобы разнесся слух об убийстве Хусейна, сына Али, в замке Нумана». Удовлетворенный этим ответом, Обайдаллах открыл лицо. Узнав его, толпа рассеялась, охваченная ужасом. А Нуман почтительно приветствовал его и пригласил в крепость. На следующий день Обайдаллах объявил верующим, собравшимся в мечети, что станет отцом родным для всех, кто ему покорится, но мятежников истребит его меч. Последовали волнения, но они были довольно скоро подавлены. С тех пор больше никто не говорил о восстании.
Слухи об этих событиях достигли ушей Хусейна, когда он был недалеко от Куфы. С ним было не больше сотни человек, в основном его родственники. Тем не менее он продолжил движение вперед. Слепая и глупая доверчивость, владевшая многими претендентами, не миновала и его. Он был убежден, что, стоит ему появиться у ворот Куфы, горожане с оружием перейдут на его сторону. В районе Кербелы навстречу ему вышел отряд, посланный Обайдаллахом, получивший приказ захватить его живым или мертвым. Получив предложение сдаться, Хусейн начал переговоры. Командир отряда Омейядов – Амир ибн Саад – не выполнил отданный ему приказ. Он колебался. Амир был курашитом, сыном одного из первых учеников Мухаммеда, и идея пролить кровь сына Фатимы не могла ему понравиться. Поэтому он обратился к своему начальнику и передал ему предложения Хусейна. Получив это сообщение, даже сам Обайдаллах заколебался. Но Шамир ибн Диль-Джаушан, представитель куфанской знати, командир армии Омейядов, – араб арабов, как и его внук, с которым мы впоследствии встретимся в Испании, – укрепил его решимость, заявив, что, если судьба отдает врага тебе в руки, колебания неуместны. Хусейн должен сдаться без всяких условий. И Обайдаллах отправил своему командиру соответствующий приказ. Но хотя Хусейн отказался сдаться без условий, его не атаковали. Тогда Обайдаллах выслал другой отряд, которым командовал Шамир, отдав ему приказ отрубить курашиту голову и принять командование его отрядом, если тот будет упорствовать в своем бездействии. Но когда Шамир добрался до лагеря, курашит, больше не колеблясь, отдал приказ о наступлении. Тщетны были увещевания Хусейна: «Если вы верите в религию, основанную моим дедом, как вы сможете оправдать свои поступки в Судный день?» Не помогло и привязывание свитков Корана к копьям. По приказу Шамира его люди с мечами напали на Хусейна и зарубили его. По другой версии, он был пронзен стрелой. Почти все его спутники постарались продать свои жизни как можно дороже, но в конце концов пали на поле сражения. Это случилось 10 октября 680 года.
Будущие поколения, даже склонные к сентиментальности относительно судьбы своих неудачливых предков и зачастую не обращающие внимания на соображения правосудия, национального мира и ужасов гражданской войны, не остановленной в самом начале, считали Хусейна жертвой жестокого преступления. Персидский фанатизм довершил картину: он изобразил святого вместо обычного авантюриста, спешившего навстречу гибели из-за странного заблуждения и безумного честолюбия. Подавляющее большинство современников видели его в ином свете: они считали его клятвопреступником, виновным в государственной измене – ведь он поклялся в верности Язиду при жизни Муавии и не сумел добиться успеха, реализовав свое право на халифат.
Смерть Хусейна открыла путь другому претенденту, который был благоразумнее и по крайней мере в своих глазах способнее, чем его предшественник. Это Абдуллах, сын Зубайра. Он делал вид, что дружит с Хусейном, однако его истинные чувства были очевидны даже для Хусейна и его сторонников. «Успокойся, Ибн-Зубайр, – сказал Абдуллах ибн Аббас, распрощавшись с Хусейном, которого тщетно пытался убедить не идти в Куфу. – Для тебя, жаворонок, небеса открыты. Откладывай яйца, пой, чисть перышки – словом, делай то, что сердце пожелает. Хусейн ушел в Ирак, и весь Хиджаз твой». Тем не менее, хотя Ибн-Зубайр втайне принял титул халифа, как только уход Хусейна в Ирак освободил место, он изобразил глубочайшее потрясение и неизбывное горе, когда святого города достигли новости о трагедии. Он даже поспешил произнести патетический панегирик убитому. Абдуллах был прирожденным оратором. Он был необычайно красноречив, и никто не владел лучше него искусством сокрытия истинных чувств и демонстрации чувств притворных. Едва ли с ним мог кто-нибудь сравниться в умении скрывать пожирающую его жажду богатств и власти под правильными словами долга, добродетели, религии и благочестия. В этом заключался секрет его влияния. Теперь, когда Хусейн больше не стоял у него на пути, Абдуллах назвал его праведным халифом, всячески превознес его добродетели и благочестие и обрушил поток брани на предателей и бандитов – арабов Ирака. Эффектную концовку его речи Язид мог бы применить к себе, если бы счел уместным: «Еще никогда этот святой человек не предпочитал звуки музыки чтению Корана, развлечения угрызениям совести, вызванным страхом перед Аллахом, обильные возлияния посту или удовольствия охоты благочестивым размышлениям. …Очень скоро нечестивцы пожнут плоды своих богомерзких дел».
Для Абдуллаха стало делом первостепенной важности привлечь на свою сторону наиболее влиятельных «беженцев» – мухаджирунов. Он опасался, что их будет не так легко одурачить, как простой люд, относительно истинных мотивов своего восстания. Он предвидел противодействие, особенно со стороны Абдуллаха, сына халифа Омара (Умара), человека бескорыстного, глубоко религиозного и очень проницательного. Между тем Ибн-Зубайр не был малодушным и не имел обыкновение пасовать перед трудностями. Сын Омара имел супругу, набожность которой могла сравниться только с ее доверчивостью. Эта дама убедила Ибн-Зубайра, что он должен начать. Он посетил ее и долго разглагольствовал с привычной бойкостью о своем ревностном энтузиазме в отношении к ансарам, мухаджирунам, пророку и Аллаху. Когда он увидел, что его елейные речи произвели соответствующее впечатление, он попросил ее убедить Ибн-Омара признать его халифом. Она обещала сделать все от нее зависящее и тем же вечером, подавая ужин супругу, стала на все лады расхваливать Ибн-Зубайра. Свой панегирик она завершила словами:
– Ему на самом деле не нужно ничего, кроме сохранения и приумножения славы Всевышнего!
Ее муж сухо и холодно ответил:
– Ты помнишь роскошный кортеж, который обычно следовал в обозе Муавии, когда он отправлялся в паломничество, – особенно великолепных белых мулов, покрытых пурпурными попонами, на которых сидели дамы в ослепительных одеждах, украшенные жемчугами и бриллиантами? Ты не могла их забыть. Именно эти мулы нужны твоему святому другу. – Сказав это, он продолжил ужин и больше не слушал свою простодушную жену.
Ибн-Зубайр уже год бунтовал против Язида, а тот все еще не обращал на него особого внимания. Такое безразличие казалось странным для правителя, который не мог похвастать наличием терпения и кротости среди своих добродетелей. Но, во-первых, Язид не считал Абдуллаха очень опасным, поскольку он, более осторожный, чем Хусейн, не покинул Мекку. Кроме того, он не имел желания без острой необходимости запятнать кровью регион, который даже в языческие времена предоставлял надежное убежище и людям, и животным. Он не сомневался, что подобный акт богохульства не добавит ему популярности в глазах верующих.
Но, в конце концов, его терпение истощилось, и он в последний раз потребовал, чтобы Абдуллах его признал. Зубайр отказался. В ярости халиф обещал, что мятежник все равно принесет клятву верности, но когда его приведут к трону в цепях. Однако когда первый порыв гнева прошел, Язид, как правило беззлобный и добродушный, пожалел о своей клятве. Но поскольку клятву нарушать нельзя, он стал придумывать способ ее сдержать, не раня гордости Абдуллаха. Он решил послать ему серебряную цепь и великолепную мантию, которая скроет от посторонних глаз весьма дорогостоящие кандалы.
Халиф назначил десять человек, чтобы отвезти эти весьма своеобразные дары Ибн-Зубайру. Во главе миссии был поставлен ансар Нуман, сын Башира, обычный посредник между ультраортодоксальной партией и Омейядами. Его сопровождали вожди разных сирийских племен, настроенные не столь примиренчески. Депутация прибыла в Мекку. Абдуллах, как и следовало ожидать, отказался принять дары халифа, однако Нуман, которого отказ не обескуражил, попытался переубедить его, взывая к здравомыслию. Частые конфиденциальные беседы между Нуманом и Ибн-Зубайром вызвали подозрение другого депутата, Ибн-Идаха, вождя ашаритов, самого многочисленного и могущественного племени в Тивериаде. Идах решил, что Нуман – ансар, а тот, кто предал свою партию и свое племя, вполне способен предать халифа. И однажды, встретив Абдуллаха, он обратился к нему со следующими словами:
– Ибн-Зубайр, могу тебе поклясться, что Ибн-Башир не получил никаких других поручений от халифа, кроме тех, что получили все мы. Он глава нашей миссии, и это все. Клянусь Аллахом, я не понимаю, что значат ваши темные делишки. Ансары и мухаджируны – птицы одного полета, и только Аллаху известно, что они затевают.
На это Абдуллах с высокомерным презрением ответил:
– А какое тебе до этого дело? Пока я здесь, я делаю что хочу. Я неуязвим, как та голубка, которую защищает святость этого места. Никто не осмелится ее убить, потому что это будет святотатство.
– Думаешь, подобные соображения меня остановят? – удивился Ибн-Идах и повернулся к пажу, который нес его оружие: – Мальчик, дай мне лук и стрелы.
Паж подчинился. Сирийский шейх тщательно выбрал стрелу, прицелился в голубку и воскликнул:
– Голубка, Язид, сын Муавии, пьяница? Скажи «да», если посмеешь, и эта стрела пронзит тебя. Голубка, ты собираешься свергнуть халифа Язида, исключить его из числа детей Мухаммеда и надеешься на безнаказанность, потому что это святилище? Скажи, что именно это в твоем сердце, и стрела пронзит его.
– Ты же знаешь, что птица не может ответить, – с жалостью сказал Абдуллах, тщетно пытаясь скрыть тревогу.
– Это правда. Птица не может ответить. Но ты можешь, Ибн-Зубайр. Послушай: я клянусь, ты поклянешься в верности Язиду, свободно или по принуждению, иначе ты увидишь знамя ашаритов, развевающееся над этой равниной. Имей в виду, я не стану обращать внимание на святость этой земли, на которую ты так рассчитываешь.
Услышав эту угрозу, Абдуллах побледнел. Он и помыслить не мог, что человек способен на подобную нечестивость, даже если этот человек – сириец. Дрожащим от гнева голосом он спросил:
– Ты действительно осмелишься совершить святотатство и обагрить кровью эту святую землю?
– Осмелюсь, – невозмутимо ответствовал сириец, – а вина за это падет на голову того, кто выбрал святую землю, чтобы составить заговор против повелителя правоверных.
Возможно, если бы Абдуллах был твердо убежден в том, что этот шейх правильно передал чувства своих соплеменников, многих бедствий, постигших ислам и его лично, можно было бы избежать. Но Ибн-Зубайр был обречен на гибель, как уже погибли зять и внук пророка, а также многие мусульмане старой школы, сыновья сподвижников и друзей Мухаммеда. Судьба уготовила им многочисленные неприятности и беды.
Однако для Абдуллаха роковой час еще не пробил. Судьба решила, что несчастная Медина сначала должна искупить своим полным разрушением, изгнанием и убийством жителей гибельную честь предоставления убежища беглому пророку и воспитания истинных основателей ислама – фанатичных воинов, которые, покорив Аравию его именем, даровали новорожденной вере залитую кровью колыбель.
Глава 5
Разграбление Медины
Шел 682 год от Рождества Христова. Солнце только что опустилось за горный хребет, протянувшийся к западу от Тивериады. От былого величия города сегодня остались только развалины, но в те времена, о которых идет речь, он был столицей провинции Иордан (в которую входила центральная часть Палестины к западу от реки; пять районов – Дамаск, Хомс, Киннасрин, Иордан и Филастин) и временная резиденция халифа Язида I. Минареты мечетей и башни зубчатых стен, залитые серебристым светом луны, отражались в спокойных водах озера – Галилейского моря, хранившего так много священных для христиан воспоминаний. Воспользовавшись ночной прохладой, из города вышел небольшой караван и направился на юг. Девять путешественников, находившихся во главе кавалькады, явно были высокопоставленными людьми. Но ничто в их внешности не указывало на принадлежность к придворным – халиф редко подпускал к себе людей столь зрелого возраста и с такими строгими, а то и мрачными лицами.
Некоторое время все молчали. Наконец один из путешественников заговорил:
– Итак, братья, что вы думаете о нем? Следует признать, что он проявил по отношению к нам щедрость. Тебе он дал сто тысяч монет, не так ли, сын Хандалы (Абдуллаха)?
– Сумма такова, – ответил человек, к которому был обращен вопрос. – Но он пьет вино и не считает это грехом; он играет на лютне, а его спутниками в дневное время являются охотничьи собаки, а в ночное – разбойники; он живет в кровосмесительной связи со своими сестрами и дочерьми и никогда не молится. Короче говоря, он обходится без религии. Что мы будем делать, братья? Думаете, мы можем и дальше терпеть этого человека? Мы и без того проявили неоправданную снисходительность, и, если мы продолжим в том же духе, с небес посыплются камни, чтобы уничтожить нас. Что посоветуешь, сын Синана?
– Я скажу тебе, – был ответ. – После возвращения в Медину мы должны дать торжественную клятву не повиноваться этому распутнику и сыну распутника, а потом мы поступим правильно, засвидетельствовав почтение сыну мухаджируна.
Пока он произносил свою речь, мимо проследовал человек, ехавший в противоположном направлении. Большой капюшон плаща скрывал его лицо, и путешественники не смогли бы его рассмотреть, даже если бы их внимание не было отвлечено беседой, которая с каждой минутой становилась все более оживленной. Когда путешественники удалились за пределы слышимости, человек в капюшоне остановился. Даже простая встреча с ним была, по понятиям арабов, дурным знаком, поскольку он был одноглазым, – этот предрассудок распространился по всему Востоку. Более того, его лицо, обращенное на путешественников, было искажено злобой и ненавистью, единственный глаз метал молнии. Едва слышно одноглазый проговорил: «Клянусь, если я еще когда-нибудь встречусь с тобой, там, где смогу тебя убить, я не пощажу тебя, сын Синана, хотя ты и сподвижник Мухаммеда».
Путешественники были жителями Медины. Они являлись представителями знати этого города, и все до одного были мухаджирунами или ансарами. Далее мы вкратце расскажем об обстоятельствах, которые привели их ко двору халифа.
В Медине начались беспорядки, появились первые признаки восстания. Ссоры возникли из-за пахотных земель и плантаций финиковых пальм, которые Муавия в свое время выкупил у местных жителей, но теперь они требовали их обратно, утверждая, что он заставил их продать земли за сотую часть их реальной стоимости. Правитель Осман, полагавший, что его родственник халиф легко найдет способ уладить разногласия, да еще и сумеет втереться в доверие к местной знати, благодаря своим дружелюбным манерам и щедрости, предложил направить миссию в Тивериаду, и его совету последовали. Но хотя правителем руководили самые добрые намерения, выяснилось, что правитель совершил не просто опрометчивый проступок, но непростительную ошибку. По непонятной причине он даже не подумал о том, что знать Медины обязательно расскажет согражданам о нечестивых привычках его кузена, что лишь ускорит начало восстания. Ему надо было не предлагать визит ко двору халифа, а стараться любой ценой его предотвратить.
Ход событий можно было легко предвидеть. Язид действительно предложил гостеприимство прибывшим гостям, причем оно было одновременно и сердечным, и учтивым. Он проявил большую щедрость, подарил ансару Абдуллаху, сыну Хандалы, знатного и смелого воина, павшего при Оходе, сражаясь за Мухаммеда, сто тысяч серебряных монет и еще по десять или двадцать тысяч монет выделил каждому гостю, в зависимости от ранга. Заметим, что десятый депутат, Мундир ибн Зубайр, не сопровождал своих коллег на обратном пути в Медину, получив разрешение Язида посетить Ирак. Однако Язид не был лицеприятным человеком, а его двор не являлся образцом умеренности и приличий. Распущенность халифа и его любовь к бедуинам – которые, этого нельзя не признать, временами были лишь немногим лучше бандитов – потрясли строгих пуритан – граждан Медины, заклятых врагов сынов пустыни.
После возвращения в Медину депутаты не только не постарались смягчить нечестивые привычки халифа, они сделали разоблачения, которые, вероятнее всего, преувеличили то, что они видели или слышали. Их обвинения, проникнутые благочестивым гневом, произвели настолько сильное впечатление на сердца людей, готовых верить в худшие сплетни о Язиде, что в мечети разыгралась необычная сцена. Когда мединцы собрались, один из депутатов объявил:
– Я сброшу Язида, как сбрасываю этот тюрбан! – С этими словами он швырнул на землю свой головной убор. – Язид осыпал меня дарами, я это признаю, – продолжил он. – Но он пьяница и враг Бога.
– Что касается меня, – продолжил другой депутат, – я сброшу Язида, как сбрасываю свои сандалии.
Вмешался третий депутат:
– Я сброшу его, как сбрасываю этот плащ.
Остальные последовали их примеру, и вскоре мечеть явила собой весьма необычное зрелище: повсюду были разбросаны тюрбаны, плащи и предметы обуви. Высказав, таким образом, свое намерение свергнуть Язида, мединцы, в качестве следующего шага, решили изгнать из города всех Омейядов, которые в нем находятся. Соответственно, последним было велено немедленно покинуть город, предварительно дав клятву не оказывать помощи солдатам, которые идут на город, а, наоборот, дать им отпор. Если же это окажется невозможно, не возвращаться в город с сирийскими войсками. Правитель Осман безуспешно пытался убедить повстанцев, что, изгнав его, они накличут на город опасность. Он объяснил им, что к городу идет сильная армия, которая сокрушит его. И если горожане не изгонят своего правителя, у них будет повод получить снисхождение от победителей. Осман предложил им сначала одержать победу, а уж потом изгонять его, говоря, что этот совет дает им ради их же блага, чтобы избежать кровопролития. Но только мединцы не пожелали прислушаться к гласу рассудка. Они осыпали своего правителя, так же как халифа, проклятиями, сказав, что начнут с него, а уж потом за ним последуют его родственники. Омейяды пришли в ярость. Мерван – который был сначала хаджибом халифа Османа, а потом правителем Медины – назвал людей нечестивыми, а их религию – мерзкой. Тем не менее он столкнулся с немалыми трудностями, когда искал, кому можно доверить свою жену и детей. Обстоятельства были против Омейядов. Они дали требуемую клятву и направились к выходу из города. Им вслед неслись проклятия населения и летели камни. А некто Хорейс Прыгун, названный так, поскольку был лишен прежним правителем ноги и передвигался прыжками, без устали погонял животных, на которых ехали несчастные изгнанники, покидавшие город, как опаснейшие преступники. Через некоторое время они достигли Дху-Хощоб, где им следовало ожидать дальнейших распоряжений.
Первым делом они отправили гонца с просьбой о помощи к Язиду. Об этом узнали мединцы. Пятьдесят всадников немедленно устремились в погоню за Омейядами, вынудив их бежать с места остановки. Прыгун и здесь не упустил возможности отомстить. С помощью одного из представителей Бени Хазм (семья ансаров, которая поддержала убийство халифа Османа, предоставив свой дом в распоряжение повстанцев) он погонял верблюда Мервана так сильно, что тот едва не сбросил седока. Опасаясь худшего, Мерван спешился и предложил перепуганному животному спасаться самостоятельно. Когда они добрались до деревушки Совайда, что в 60 милях к северо-западу от Медины, Мерван встретил одного из своих освобожденных рабов, который жил там и пригласил бывшего хозяина разделить с ним пищу. Мерван ответил: «Прыгун и его достойные товарищи не позволят мне остаться. Если будет угодно небесам, однажды этот человек окажется в нашей власти, и тогда, не сомневаюсь, его руку постигнет та же судьба, что ногу». Только когда Омейяды достигли Вадиль-Куры, что в 20 милях к северу от Совайды, им было позволено отдохнуть.
Тем временем начались ссоры между самими мединцами. Пока у них была общая цель – выдворить из города Омейядов, оскорблять их и издеваться над ними, жители города были единодушны. Однако их мнения резко разделились, когда зашла речь о выборе халифа. Курайш не желал ансара, а ансар отказывался видеть на этом посту курашита. Но поскольку необходимость согласия представлялась очевидной, было решено отложить этот вопрос и выбрать временных правителей. А к вопросу о новом халифе можно будет вернуться после свержения Язида. Гонец, посланный Омейядами, – его звали Хабиб – проинформировал Язида о случившемся. Когда Язид услышал новости, он был больше удивлен и возмущен слабостью своих родственников, чем поступком горожан.
– Неужели Омейяды не могли собрать тысячу человек, чтобы оказать сопротивление? – спросил он.
– Разумеется, – ответил гонец. – Омейяды могли собрать и три тысячи человек.
– И с такими значительными силами они даже не попытались сопротивляться мятежникам?
– Их было слишком много. Сопротивление было бы бесполезным.
Если бы Язидом владело только негодование на людей, которые взбунтовались после того, как получили от него крупные суммы денег, он бы выслал против них армию. Но он все еще желал избежать ссоры с фанатиками. Возможно, он помнил слова пророка о том, что проклятие Бога, ангелов и людей падет на того, кто обратит меч против мединцев. В любом случае он во второй раз продемонстрировал умеренность, что было тем более удивительно, поскольку являлось нехарактерным. Желая принимать только мягкие меры, он направил ансара Нумана, сына Башира, с миссией в Медину. Все было тщетно. Это правда, что ансары не остались совершенно равнодушными к благоразумному совету своих соплеменников, утверждавших, что их слишком мало и они слишком слабы, чтобы противостоять армиям Сирии. Но все племя курайш было за войну, и его вождь Абдуллах, сын Моти, заявил Нуману: