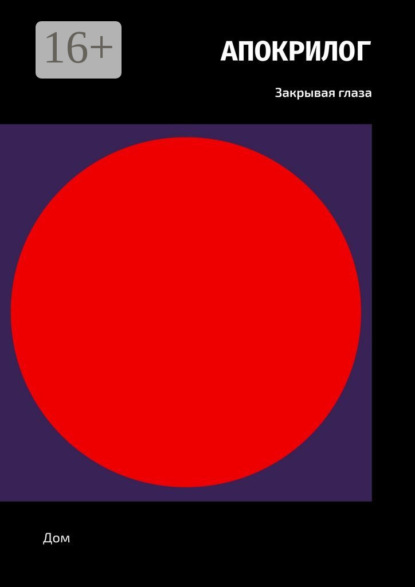001
ОтложитьЧитал
Но где же мои девочки? Эта мысль укрыла меня сквозящим прохладой, одеялом сна. Но хочу вас предупредить: то, что вижу во сне я, не имеет ничего общего с тем, что видите вы. Мои сны — это действительность и подлинность, которой я питаюсь и в которую, по мере надобности, выхожу. Мне снится то, что занимало мои мысли перед уходом в астрал реальности.
И вот, значит, снится мне:
«Свежесть ворвалась; хочется вскурить чайную розу, пропитанную ментолом. Мы сидим на заднем дворе у Марты, на корточках, а над нами звёздное небо, из которого как будто доносятся крики пролетающих чаек. А мы сидим, мечтаем, вдыхаем полные лёгкие свежести, ещё медленнее выдыхая, – словно смакуя реакцию организма на одурманивание свободы духа. Этот, изначально, сладковатый вкус, смешанный с запахом фруктовых ноток, уводит в воспоминания о детстве…
Вокруг пустынная и непробудная ночь, но деревья и всё вокруг словно самоосвещает своими приютившимися светлячками свежую зелень недавно пробудившихся листочков почек. Вокруг ни травинки не шелохнётся: эти зелёные гвардейцы своих полей и блюстители тишины всегда вооружены остриём своей игольчатой пики, проникающей в упруго-эфирную, лавандово-масляную ночь. Кроны полуспящих, полубдящих деревьев – похожие на марабу, втянувшего голову в плечи – отсвечивают едва уловимым свечением цвета хаки, что своим плавным переходом подрезает ночь, нежащуюся сном на их овлажнённых подушках. Пахнет убаюканной, волшебно изумрудной зеленью почек и ростков. Нам всё чудится, слышится, что где-то вдалеке блеют козы или мычат коровы. А мы словно дожидаемся какой-то вести; сидим в экзальтированном всеуслышании, сосчитывая наше сердцебиение – как индикатор всякого изменения.
Что же должно произойти и что будет дальше? — этого мы не знаем, – но присутствует внутренняя убеждённость, что это «что-то» неминуемо. Кроме нас, никого нет ни в домах, ни на улицах, – только прерывистое блеяние животи́ны, доносящееся с периферии окрестностей и желтые изогнутые усики улиточных фонарей, освещающие пустынные дороги.
Напряжённой пружиной привстаём с корточек, подсаживаясь вплотную друг к дружке и тотчас ощущаем мягкую, обнимающую бризом, прохладу, которая словно безмолвно напоминает, что мы действительно одни и рассчитывать нам не на кого.
— Марта, слышишь, сверчки зацвирикали и запахло тиной?
— Сверчки, это да-а, они такие лапопусики! – покачиваясь на корточках, с улыбкой на губах, умиляется Марта.
— Марта, но я слышу… бульканье! Этот звук вроде окружает!.. – едва не подскакивая, но вновь приседая, вскрикиваю я нервным шёпотом.
— О, Боже!.. Кажется, я что-то слышу! Что это? Что, Фелинка?!
— Кажется, это как-то связано с нашей прогулкой!.. Помнишь, где поляна с козами и мёртвыми… Оно пришло! – с дрожью в голосе, но твёрдой убеждённостью заверяю я, оборачиваясь к ней лицом, с глазами, прожжёнными ясностью, и напряжённой кривой улыбкой.
— Только не надо, не пугай, ты же знаешь… тьфу-тьфу!.. (Через плечо.) Господи, избавь! Ты про кого говоришь? – ужасается она побелевшим лицом, тряся меня за плечи.
— Март, мы в тот день были… посвящены!
— Но…
В этот момент раздаётся неестественно зычный и жутко продолжительный звонок в калитку».
Я вскочил со своих перин; сглотнул; включил ночник, и, не поверите, у меня до того зашлась кружиться голова, что перед глазами завертелись мириады блёсточек. Не сон, не сон! – я знал, чувствовал какой-то подвох, скрытую опасность, которая медленно подбиралась к моим девочкам. От волнения, которое меня охватило, я весь был в дыму и наэлектризован давлением. Хочу также отметить произошедшие во мне изменения: появилась какая-то лёгкость, радость и жизнелюбие. Затем я вновь подскочил к своему объекту наблюдений. Если же они в черепке Рутинезии, то, стало быть, запах варева рутинезийцев должен был за это время как-то улучшиться, что ли? Но приблизившись, мне стало ясно, что те дохляки не изменят своему запаху, даже под таким прекрасным предлогом… Они живут в вонизмах, облагораживают их, персонифицируют, собирают в баночки и ставят в морозильник, – для них это подобно благовониям миро. Они плодят детей именно в этих помоях, которые сами выделяют и которыми же питаются. Но стоит придерживаться толерантности: у них тоже, как и на других планетах, свои крысы в голове. Только вот количество этих ондатр извне, превышает то количество, которое способно вместится в их крысином мозгу. Не хватило им места в извилинах, вот они и материализовались оттуда во внешний мир, – к тому же изнутри «крысы» весь мусор оприходовали и там им делать нечего.
Я вновь перевожу взгляд на тот самый домик-сморчок, согбенный под слоем слизи. В нём все продолжаются «входящие ритуалы». Разница лишь в том, что теперь каждый, отъевшись не остывающим «горячим» в своё удовольствие, разбрёлся по отведённым для себя каморкам, уже оттуда голося свернувшемуся калачиком, сорняку, который по привычке бурчит себе под нос имена всех существующих и несуществующих родственников (последний этап проверки), чего те, конечно же, уже не слышат.
Что же способно раскачать облагороженную заунылость? Ну а что, допустим, у них есть, кроме пространства выеденного мозга, покрывшегося непробиваемой скорлупой? Пыреи, мокрицы, ежовники, подмаренники, осоты, – это сорняки! – их нужно вырвать с корнем из той почвы, что их питает. Удобрение? Ну конечно же это сорняки-мутанты! – они издавна приспособились к рациону и мутировали под него. Внутри них – смола кровавого цвета, сыздавна затвердевшая и заключающая собой переброженную кофейную гущу. Один шорох, хрипенье, кашлянье, брюзжание листьев у тысячи разных голов, которые то и дело вгрызаются в землю. Чураясь неопределённо повисшего белого купола неба, они отрицают своё высшее предназначение, которое бы их оторвало с корнями от земли. Возросши ростом, им было бы удобнее начинать отдраивать и разукрашивать свой мшистый холст небосклона. А пока что «оторвало» только мебель и прочую дребедень, которая побольше возвысилась, чем они.
Один стержень вставных чернил одной касты; одна многоголосая фуга, составленная из различных тонов общего тембра. Пока в самой церкви родственники «по такое-то колено» – точнее, их духи, обряженные в платья – поют в церковном хоре, а-капелла рабов подпевает им на задворках церкви. Таков обряд, сакраментальный лейтмотив, – выводить на запятки вереницу повязанных. «Живые» рабы, видимо, надеются очиститься от врождённых оков, следуя изливаемым указаниям/поучениям тех духов, которые в свой черёд надеются очиститься благодаря раздаче эмпирии — внушением долга послушания/повиновения, – «а иначе будет так-то…». Иными словами, такая располагающая своей заботой, добродетель родственничков, есть не что иное — как выгода, в целях искупления своих грехов; надменное высокомудрие. Они приспособились маскироваться под добродетели, – одначе сами сущие ханжи.
Сорняки, что вы можете дать, не имея прерогатив плодоносия? Опять круг замыкается… Сорняки-дикари… и попадись им более слабый и беззащитный родственник, они высосут из него все соки, всё будущее, оставив без возможности к плодоношению. Но почему же «дикари» всё никак не окрыляются от этих соков? Отчего же испокон веков проходит ритуал жертвоприношений, но в их жизни не наблюдается никаких перемен? Ответ уже был дан: это замкнутый круг; circulus vitiosus.
Тореадора с красным полотном уже давно нет, но метапрограмма, – запоминание и автоматическое воспроизведение устаревшей установки, – на красный цвет (это только образный пример; всем давно известно, что быки – дальтоники) у всех современных быков сохраняется негативной от того общего предка, который и выработал эту программу. В нашем случае, чувство незащищенности и поиск одобрения действий, был выработан в современном поколении – «сильными сорняками»/предками, которые уже, будучи компостом, напевали им свою волынку, насыщаясь соками «живых» – под маской заботы. Таковы традиции…
Изменится ли запрограммированность сорняков, если их пересадить из земли – в почву, удобренную церковным хором? Невольно, да, – как тот, кто всю жизнь ел мясо и по неясным побуждениям вдруг решил увлечься вегетарианством, хотя у самого на уме, при виде отваренной спаржи, или соевых котлет, это самое мясо в различных вариациях. Этот пост — временное воздержание, – т. е. сдерживание и накопление желания отъестся вдоволь. Ну а если сорную траву и подавно вырвать с корнями из земли? Тогда она просто зачахнет, но анемохоры пыльцы вновь и вновь будут разноситься анемофилией ветра, чтобы впитаться в землю и дать ростки, в конечном счете, вновь вписавшись в замкнутый круг. Такую траву, в принципе, без гербицидов, не вывести. Так что же делать? Полагаю, нужно поменять метапрограмму сорняка о его бесполезности и ненужности, а также излечить его от «комплекса виновника», о котором ему кричат из прошлого те, кто давно о́тжил своё, но чьи корни накрепко засели в почве, всё разрастаясь и овладевая бо́льшими площадями.
Уберите старые сети корней, цепляющиеся за новые, дабы, наконец, прорости свободными от установок! Им нужно показать их смысл, суть, надобность, полезность, изменив тем самым их структуру ДНК. Вереница цепей рабского подобострастия, наконец, освободиться от невольничества, реликвии уважения и почитания церкви прошлых верований, и возымеет собственные взгляды и суждения.
Промочите засохшую кровь молоком, и смойте её. Устаревшая церковь предастся анафеме современных модернистских мировоззрений и самоуничтожится. Осталось определить, – что же поспособствует срыванию оков? Открыть им завесу в моё царство, бесспорно, было бы самым действенным, но я не приверженец радикальных экстремистских мер, способных в одно и то же время породить и обратный аффект. Я более склоняюсь к последовательности и конструктивности действий, чтобы те успевали усваивать данные им уроки и подготавливаться к следующим…
О, как бы мне хотелось отблагодарить себя за правильное решение и отправиться к вам, на Тихую гавань безбрежного океана. Там бы я улёгся на гамак, растянувшись между проливами двух материков, и отвёл бы душу. Но никакого мне жалования, никакого отпуска, пока не расплачусь с долгами…
Стало так легко, словно через приоткрытое окно заструился голубой воздух небесной свежести, ублажающий мои нервы после длительных размышлений. В моём распоряжении константа бесконечности, а они щёлкают время как семечки, – и за это время успевают обменяться всякой ересью, которая-то и затрудняет мою работу — возвращение долгов; затрудняет, как, впрочем, и все другие их выходки, загрязняющие напиток.
Будучи от рождения обделённым багрянородной (голубой) кровью, передающейся по наследству, я являюсь самым бедным предпринимателем, и все по той же причине… Вот мне и приходится давать то по черепу, то в глаз, то в бровь этим негодникам: землетрясения, смерти, цунами, бури, наводнения, – и всё только с той целью, чтобы они перестали маяться дурью и заметили мои призывы к вашей милости. Они, наверное, свыклись с моими всплесками рук и взрывами голосовых связок, наподобие: «Что вы, черти, творите?!». Для них это стало обыденностью, атмосферными возмущениями!..
А что вы скажете об их смене дня и ночи? Лично мои глаза и без того воспалённые, устают за всей этой фантасмагорией наблюдать, которую они сотворяют. А мои сны?! Вы знаете, что я вижу изо дня в день на протяжении пяти миллиардов лет? Их! Только их! Увольте. Причём во снах я их поедаю; меня то и дело рвёт от этих несочетаемых ингредиентов и послевкусия марганцовки. Но во сне, как в царстве мёртвых Аид, все повторяется и я вновь и вновь запихиваюсь ими; мне уже хочется переварить их, наконец, и выплюнуть в другой конец, но они так и не лезут. Навязчивая идея несварения; я даже пересмотрел весь свой рацион, но бесконечная мука терзает меня до сих пор: я исхудал, осунулся, а былая чёрная энергия замедлилась и охладилась, на смену которой объявилась долгожданная паранойя.
Мне постоянно кажется, что они рядом и наблюдают, изучают, записывают и зарисовывают своими чернильными пастами всё, чем я занимаюсь. Непослушные упрямцы! Вы же доведёте наш клуб до банкротства! Небось, как недалёкие, они все в мечтах о захватывающих приключениях, – о, так и будет! если клуб заколотят: их отправят в лапы ассенизаторов, а я, как багрянородный маргинал, буду просить милости, но, слава Всевышнему, уже не у них!..
Позвольте же мне, по случаю, предопределить всю хронологическую последовательность и завершённость этой игры в «Дурака»: паразиты так и не возьмутся за разум, отказываясь принимать аксиому моего для себя/для нас, труда; продолжат обряжаться в броню от лучей глаз моего надзора, – вынужденного, по бо́льшему счету… кстати, вы замечали, что на солнце долго не посмотришь, иначе можно отхватить зрительный ожог? Так вот, знайте, это глаз мой закипает злостью! Затем, в какой-то непредсказуемый момент, в мои «покои» (ставшие таковыми за период моей прохладительной бездеятельности) войдёт – о, покой всем мучениям! – зоил, в своей чёрной мантии, окружённый дымчатой глорией, и, дав пинок под зад, вышвырнет меня кубарем за дверь, скинув вослед все моё имущество/хлам. Потом всё пойдёт по своим орбитам.
Когда меня выкурят, чёрная матерь Тереза, — мать всех мох начинаний и даже поставщик той материи, из которой был сотворён сам клуб со всеми предметами мебели и интерьера, одним словом — моя вездесущая жёнушка, – прознает о моем положении первой, по той простой причине, что именно она даст на это согласие. В таком случае это будет означать только то, что она меня бросает, по причине лишения достоинства. Так как её известной и единственной страстью, фетишом – отчего ко мне и приварилась – была моя всемогущая энергия, разжигающая и заставляющая кипеть, бурлить и взрываться её недра, впоследствии чего зарождаются новые планеты – наши общие дети, можете себе представить, вообразить весь титанический масштаб той катастрофы, которая незамедлительно последует, если я без остатка потеряю свою энергию и силу, превратившись в заиндевевшего от мороза, инфертильного дохляка? Жёнушка вырвет свою мягкую перину из-под моего немощного тела и единственное, что выделит для отца своих планет – во всеобщем Космодоходном доме – это отдельный (надвое миниатюрнее нынешнего) войдный гроб.
Как бы странно это ни прозвучало, но жена моя — однолюбка, способная рождать планеты только от главного источника энергии – то есть от меня. Поэтому, когда я сгину, она, не найдя себе иного партнёра для зачатия здоровеньких планет, либо будет воспроизводить мутантов с дурной наследственностью — наподобие гомункулов, – либо покончит с собой, взорвав тем самым все на́бело. Либо же дождётся необратимого процесса: без обогрева теплом энергии (а часть меня за окном), всё сущее само собой замёрзнет, – и это с тем учётом, что без меня эта наседка способна высиживать яйца планет только в холодильном инкубаторе.
И вот, возлежит готовенький палимпсест новой книги начала, искрящийся пастозой ледяного молчаливого бархана. Хрустальная ваза пуста и натрусить из неё можно лишь архаическую насыпь утраченного, – потерянных надежд, страстей и грёз. Космические сферулы/космическая пыль потерянных, не рождённых планет. Откуда возникнуть воде или цветам, если есть лишь одна пустая ваза и пыль? Всё, что останется вообразить фантазии – это какой-то атомный бздык, – но его нужно будет вообразить всем вместе, дружно, и, может быть, из этого что-нибудь получится.
Бездонная хрустально-голубая ваза взорвётся на мириады осколочков, и соберётся вновь, формируясь в мозаичную хрустальную черепаху. Закон притяжения… Но нужно подумать об этом всем вместе, накануне исхода, и, возможно, она ещё и поплывёт. Лучше своё начало предскажет только конец, – все вместе, дружно!.. Новый мир прибудет из старого…
Пускай, как из ларца с сокровищами, из черепахи будут выходить крошечные песчинки яйцеклеток, поблескивающие золотым блеском, щекочущим нос своим стремительным и резким запахом готовности. Пройдут миллиарды миллиардов лет, прежде чем эти песчинки обрастут перламутром, сделавшись жемчужинами. Они высыплются из неё россыпью украшений, которые она скрепила, изначально нанизав на нить. Премудрая черепаха обучит их апокрифным знаниям, которые предвидела и успела перенести в нынешнее – из Большого взрыва, – в пролив между двух океанов. Она единственная выжившая, не давшая себя растворить закостенелому Космосу, благодаря чему за ней был закреплён титул «Премудрой». Её мудрость заключается в том, что она не подвластна устоям внешнего мира, потому как под панцирем, с момента зарождения Вселенной (опять-таки, предвидя её концовку), она вынашивала то, кому должна будет открыть свой мир. Она рассекала глубины, точно всюдусущая исследовательская подводная лодка; она много наблюдала. Фактически её детёныши/жемчужины зародились благодаря проведённому ей анализу материи и энергии; вбиранию недоработок предыдущего недо-абсолюта.
На старом палимпсесте с иссохшими рельефными прожилками прошлой материи и энергии, она выводила тушью безупречное количество пиктографических рисунков.
Покуда она невидимо, медленно и бесшумно двигалась сквозь всё зримое пространство, моя энергия не иссякала ни на миг.
А теперь я нахожусь в той самой гиблой ячейке, – в которую моя жена заблаговременно меня припрятала, – в немалой надежде на восстановление моих былых сил. В клубе! Уместно добавить, что ухудшение своего состояния я ощутил задолго до ссылки сюда. Тереза почему-то полагала, что забросив меня в эту дыру и дав мне возможность раскрыть свой потенциал в предпринимательстве (черепки — это как раз и есть следствие моего потенциала), я вновь воспряну, как после оздоровления в санатории «Пять звёзд»… Но это, как вы теперь поняли, только спровоцировало пароксические осложнения; а забытую свободу и лёгкость, как временный паллиатив, я почувствовал только при въезде в войд… Теперь же я на распутье и понимаю, что ни жены не потяну по её габаритам и габаритам её запросов, ни того, что за этот реабилитационный затворнический период успел сотворить/натворить. Ответственность всё туже сдавливает мои плечи тисками, а поддержки и помощи только жди-свищи.
Может быть, я слишком переусердствую с ювелирным подходом к паразитам, которые, пользуясь этим, уже зароились в моей голове? Так и бывает: посвящаешь свою жизнь одному делу, и, за неимением другой жизненной опоры, оно же предательски направляет тебя в сторону Квазара. Сейчас тот остаток энергии, который сосредоточился распаляющим сгустком в каверне желудка, потихоньку угасает, неустанно раздувая мои внешние объёмы вроде медузного отёка. Может один и тот же кошмар с гомункулами, – которые, не иначе, существуют только в моём замурованном мозгу и с чем желудок справляться бессилен, – мне снится потому, что я, чем переварить их, скорее либо переварю сам себя, либо лопну от недоедания. Это свыше моих сил, лишить жизни своё творение, – то есть лишить смысла свою, и до того «без-цельную» жизнь, заодно порешив и мечты с надеждами.
А, вот и мой друг зоил! Почто ты вторгаешься в мою неприкосновенность? Топчешь грязными ногами мои раздутые телёса? Твоя главная задача — отдавать моей жене сведения о моем состоянии. Ты только прикидываешься другом, – вроде врача-психиатра. Подавись моими напитками и оставь меня! Да, я заметил твой сегодняшний фосфен: лёгок на помине как летящий метеорит, разменивающийся луннопроходочной сарабандой горящих носков ног. Откуда бы взяться твоему воодушевлению, когда моего спокойствия и свет погас, – оно кануло на дно, серебристой чайкой, реющей промеж вулканических хребтов, политых лавинным соусом «спайси». Тебе не стоит докладывать моей жене, что я растолстел, потому как она решит, что это произошло от восстановления энергии. И прежде чем я успею разорвать порочный круг, утопившись пресыщенностью и смирением, она высосет меня из ванной моего клуба, выдернув затычку из входа; всосёт обратно, в мои же потроха и в свои сточные воды.
Знал бы кто, какой пылает клубок нервов в сердце моего желудка, состоящий из многообразия переплетённых паучьих нитей, которые оплели весь мой клуб ожиданиями. В частности, эти электрические нитеподобные провода подсоединены к черепкам, которые низкочастотными импульсами, словно по струнам, скручивающим мою внутреннюю пустоту, поставляют мне энергию. Этот источник продуцирует между нами при помощи детектора лжи, подключённого к черепкам – с их заклинающими ответами/исповедями. Если же детектор распознаёт лож — что зачастую — то с удовольствием рубает именно творца этих врунов – т. е. меня, – того, кто сотворил их в приступе горячки, под импульсами выхлопов задыхающихся газов безвыходности. Разве мог я сотворить что-нибудь цельное, вопреки своей безцельности, которая определяется моей несостоятельностью в семейном, деловом и социальном плане? Что же это выходит: я надеялся позаимствовать энергию у тех, кто, в свою очередь, и сам подключён к моим трубкам-капельницам?..
Клац, трям, брям и затем глиссандо смычком по всем наболевшим струнам; тремоло щекотки вздымается бурлящим потоком вверх от пуза. Пузо! Так вот оно что – ха-ха, – причиной всему ты! От тебя-то и исходят источники моих страданий! Скажи мне, чего расстраиваешь мои струны-капельницы своими трихинеллёзами, энтеробиозами, аскаридозами, запорами и скарабиазами? Ты генерируешь метеориты метеоризмов, провоцируя мой истерический хохот – щекотанием порожних субтильных кишок; накачиваешь газами засохшую кровь тех агнцев/сорняков, которые, изначально, дети, и алчут молока, чтобы отмыть кровь! В таком случае, лучше пощекочи мне желудок, авось, наконец, расслабится и пропустит этих несваренышей.
Метеоризм – это газ; хохот – пневматическое сокращение щекотливой энергии и саливация космо-сферул. В таком случае, если поднатужиться и закидать мирных жителей смехом и метеоритами, возможно и раздуется моя истерическая энергия в конвульсивном шоке. И мне помощь и для них это встряска и новые впечатления, – бартер. Хорошо всем, ведь для них смех – это непозволительная радость, роскошь.
А в случае с метеоритами: настанет день их избавления от обыденности, которого они ждали, сами того не ведая; устав от автоматических повторений рук и ног, поднимающихся на нитях. Одно дело, если бы это произошло под дождливый плач, скатывающийся со сточных черепиц грязных крыш, с которых валятся наземь мокрые крысы… Тут уж им и так все ясно, – это норма. А истерический смех облицовывает реальность, вроде закулисного шабаша ведьм, открывающего за кустами крапивы – вертеп предателей, паяцев, лжецов, ханжей, агрессоров и прочей нечисти, пребывающей, в комплексе, в каждом.
Они срывают свои маски, выдавая мир реальности: сумасшествие беззубого старика, вглядывающегося в просвет зоркими безумно-плутовскими глазами, промеж взбушевавшейся апокалипсической бури неба. Его хитрые, застывшие в довольном прищуре, лисьи глаза и улыбка до ушей, затянутая щипцами на макушке, срывает блеющий смех, пока набалдашник головешки заходится буйно вертеться вокруг своей оси, набирая скорость в темп смеху. Вот это и есть состояние моего «пуза», которое охватило кишечник по избавлению от бздыков.
Натяну поводья, взявши четверню струн в две руки (их у меня на бесконечность больше). Просто смех и радость, конская улыбка, взъерошенный кверху, мигающий собачий хвост, рапортующий о благорасположении. Теперь понятно, почему ведьм от падения спасает смех: он окрыляет лучше кислорода, которым дышат обычные. Нужно смеяться громко, чтобы, закрывая на все уши, не выказывать недружелюбия. Вы наверняка знаете, что такое невольно подпадать под маску театрального смеха, оставаясь визави с тем, кому что-то должен; с кем не желаешь говорить, а то и вовсе иметь никаких дел; кто имеет подоплёку пренебрежения, злорадства, заунылости и т. д. Но мой смех очи́щен от этого, он ис-це-лен. Мне полегчало и по этой причине я ржу как сумасшедший, удерживая поводья восьмью энергетическими центрами/струнами. Да, а что вы думали? Безумство и хаос и есть подлинная чистота!
А чтобы стать обладателем такого редкого, а может и вовсе вымершего смеха, только и нужно, что задействовать все оголённые органы чувств, разбросанные по точкам тела, и немедля приступать к иглоукалываниям! Либо же задержать воздух в кишечнике, покуда вас будет щекотать лживый ишачий смех привздёрнутых масок; по телу проступит куча эмоций, с которыми вам предстоит совладать, иначе маска исчезнет – а это карнавал!
Маски напудренных мартышек с заскорузлой щелью рта, растянутого надменной кокетливой ухмылкой; хрустящие придворные платья прохаживаются прямо подле вашего носа. Вам предстоит оставаться в тон, выглядеть интеллигентно; нос кверху, хвост трубой; войдите в тело и слейтесь с ним. Бонтон и политес приличия, покуда под задранными синичьими носами проворачиваются грязные дела: тебя обкрадывают, водят лезвиями подставных плюмажей по телу (которое ты обязался вернуть после боевого крещения); подножки ставят лакированные носочки туфель. Но ты держись, – приличия и регалии достоинства важней!
Если вы когда-нибудь попадали в клетку с хищниками, то не понаслышке знаете, на что вы играете. Тут принцип тот же; поэтому все зависит от вашего предпочтения: либо сохранять достоинство для смертного одра, либо оставаться спокойным, отслеживая резкие движения, жесты, выхлопы слов и высказываний. Но есть ещё запасной вариант: отказаться от напускной сдержанности достоинства (ох, как же вы пытаетесь наделить достоинством тело, которое от самих себя прячете за шелками и бархатами) и делать то, на что я вас направлю. Истерический смех – не им ли захлёбываются младенцы? – и есть эквивалент; залог успеха; торговая марка от производителя с ярлычком и моей заверительной подписью о прохождении курса по отлучению от сдержанности качеств (противоположных высшему качеству), изолирующих вас от меня.
Живите со смехом, друзья, – вас от него не отлучат, как от молока! Он прибудет вашим прочнейшим щитом и поборником от пандемониума визгливого похихикивания прищуренных хряков, выделанных из той юфти, в толстокожесть которой завёрнуты все вокруг, – таков модернистский стиль, «бренд». Интеллигентные свиньи, облачённые в смокинги, зашнурованные в платья, блио, навихрюченные жабо, отштукатуренные пудрой и нарумяненные дудником и шафраном; здесь же мериносовые белые агнцы, которых всё туже стягивает лассо, отчего те истерически блеют. За что они изгнаны современными трендами? За то, что у них есть собственная белая лоснящаяся шкурка с белыми клубящимися вьюнками? За то, что они вне системы ценностей, потому как им не́зачем одевать/напяливать маски, обтягивающие все тело в корсет? Потому ли, что их наружность естественной красоты и колечки извиваются, указуя на лучи моего солнца, как росточки, смиренно принимающие благодать свыше. А вот под той таксидермической «роскошью» золотых фибул, подвесок, ожерелий, шляп — лишь смердящий трупный яд.
Золотые зубы, седые косматые волосы, слепые глаза, пастозные, флуктуативно дребезжащие тела, испещрённые отметинами лезвий плюмажей; копытца втиснутые в туфлицы, которые своими каблуками-шпильками все глубже пробивают землю под ногами, тут же её трамбуя в стиле па хали-гали, с крутыми реверансами голов и зафиксированными зияющими взглядами исподлобья. Видимо, они намеренно опускают литосферный лифт в бездну; удерживают его тросы, как та лампа у жителей Рутинезии; как зуб, дребезжащий на нерве, скрипя и охая от страха перед выдёргиванием.
Они тверды и последовательны в своём детище, как щипцы для вырывания зубов, и готовы вырвать землю под ногами, только бы вставить новый золотой зуб, – участника конкурса пародии на ценности. Ежели бы только один зуб – так их полная пасть! Местность за местностью; экспансии, войны; продолжение следует по стопам золотых зубов, которые, сбившись в один белый коренной зуб, всеми силами цепляются за дёсны самыми сильным корнями-агнцами. Однако зуб не воспалён, он абсолютно здоров!
«Дз-з-здж-ж, дзы-ыдж-ж-ж!» – сверчаще-гульное зудение бормашины. Она пытается препарировать кариес, который имеется только у самого стоматолога.
Дз-ы-ынь! – раздаётся заключительный от-звонок в калитку.
— Что это? – срывается взвизгнувший голосок Марты. — Я слышу, Боже мой, слышу, – бубнит она, принимаясь, как на иголках, муштровать молитву о спасении.
— В дом, скорее! – не в тон кричит Фелина. – Она подскакивает к калитке, задвигая обожжённым движением засов и мигом устремляясь вслед за Мартой, на крыльце дома схватив её за руку, уводящую за распахнутую дверь.
Их тонкие ножки трусятся от избытка адреналина, по которым распространяются пустые пузырьки страха, вот-вот сольющиеся в закипающую кровь. Их попирает на словоблудство, которое затихает только в моменты ужасающе-продолжительного звонка в калитку, – тогда, в унисон, вместе с ним, звучит их сбивчивый и безнадёжный припадок смеха. Марта, словно на напруженных нервами, ногах, быстро проскакивает через зал, в спальню матери. Там горит свет; все прибрано и кровать застлана, но родителей нет (она их уже звала). Усиленным намагниченным толчком она переносится обратно к Фелине.
Стоя в свету окна, как кленовые листочки, сплочённые друг к дружке, они, внезапно, замечают какое-то глубинное бурчание с бурлением. Доходит до того, что половицы пола, посвистывая, занимаются ходить под давлением увеличивающегося закипания недр, которое пытается прорваться наружу торфяной магмой, уже покрывшей пол тонким слоем липкости цвета драконьей зелени. Из расселин между досками начинают источаться дурно — до невозможности — пахнущие миазмы тления. Девочки замечают, что гвозди уже не сдерживают хтоническое брожение почв и теперь их ноги, лишившись устойчивости, словно встали на доску для серфинга в беснующемся море. Однако, не вода там, увы, а нечто желеобразное и вязкое, которое раздувается как на дрожжах.
Фелина со всей прытью подмывает к окну прихожей, едва не падая на движущееся нечто. Выглянув в него, она замечает (прикрывши рот тихим ужасом), что весь двор покрыт расплывающимся слоем слизи светло-оливкового цвета. Над самой землёй нависает дымка испарений более тёмного и насыщенного зелёного цвета. На смену ночи пришли утренние «сумерки» цвета гнойных носовых выделений. Светло-горчичное небо осыпалось сонмом «душных» капелек тумана-конденсата и словно обвисло над землёй, – казалось, что оно бездонно. К окну подскочила встревоженная и едва ли не рыдающая Марта, чьи растрёпанные, ванильно-сахарные волосы, покрылись сладким сахарным сиропом паники.