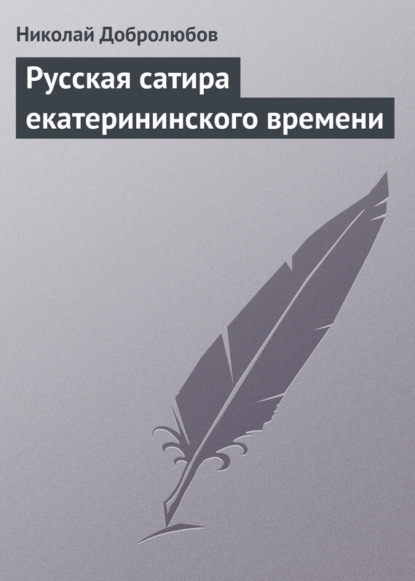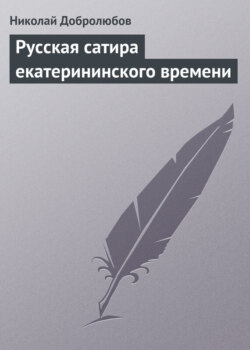
000
ОтложитьЧитал
4-е. Все места, и самый сенат, вышли из своих оснований разными случаями, как неприлежаннем к делам моих некоторых предков, а более случайных при них людей пристрастиями. Сенат установлен для исполнения законов, ему предписанных, а он часто выдавал законы, раздавал чины, достоинства, деньги, деревни, одним словом, почти все, и утеснял прочие судебные места в их законах и преимуществах, так что и мне случилось слышать в сенате, что одной коллегии хотели сделать выговор за то только, что она свое мнение осмелилась в сенат представить, до чего, однако же, я тогда не допустила, но говорила господам присутствующим, что им радоваться надлежит, что закон исполняют. Чрез такие гонения нижних мест они пришли в толь великий упадок, что и регламент вовсе позабыли, которым повелевается: против сенатских указов, есть ли оные не в силе законов, представлять в сенат, а напоследок и к нам. Раболепство персон, в сих местах находящихся, неописанное, и добра ожидать не можно, пока сей вред не пресечется; одна форма лишь канцелярская исполняется, и обдумать еще и ныне прямо не смеют, хотя в том часто интерес государственный страждет. Сенат же, вышед единожды из своих границ, и ныне с трудом привыкает к порядку, в котором ему быть надлежит. Может быть, что и для любочестия иным чинам прежние примеры прелестны; однако же покамест я живу, то останется как долг велит. Российская империя есть столь обширна, что, кроме самодержавного государя, всякая другая форма правления вредна ей; ибо все прочие медлительнее в исполнениях и многое множество страстей разных в себе имеют, которые все к раздроблению власти и силы влекут, нежели одного государя, имеющего все способы к пресечению всякого вреда и почитающего общее добро своим собственным; а другие все, по слову евангельскому, наемники суть.
5-е. Весьма, по обширности империи, великая нужда состоит в умножении циркуляции денег; а у нас, по счетам монетного департамента, не более 80 000 000 рублей серебром в народе, которую сумму расположа по числу людей, придет по 4 руб. на человека, есть ли еще не менее. Разные были проекты, из которых наконец вышла медная монета, на которую много очень жалоб; однако ж, пока не будет знатного умножения серебра в государство, сей вред сносить должно, а паче в оном стараться надлежит, как уже начато, чтоб не было разного весу монеты, содержащей одинакую цену, так как и разных цен одного весу и металла, да чтоб серебро всевозможным способом вовлечь в государство так, как хлебным торгом, как о том и Комиссии о коммерции уже приказано.
6-е. О выписании серебра иного сказать не могу, как только, что сия материя весьма деликатна и многим о сем неприятно слышать; однако ж вам надлежит и в сие дело вникнуть. Все сие пишу, дабы вас ввести в наисекретнейшие материи, дабы вы в сем, при вступлении в дела, не новы были и могли сами разбирать, которые действительно полезны или только оными быть кажутся.
7-е. Труднее вам всего будет править канцеляриею сенатской и не быть подчиненными обмануту. Сию мелкость яснее вам чрез пример представлю. Французской кардинал де Ришелье, сей премудрый министр, говаривал, что ему менее труда править государством и Европу вводить в свои виды, нежели править королевскою антикаморою, понеже все праздноживущие придворные ему противны были и препятствовали его большим видам своими низкими интригами. Один для нас только способ остается, которого Ришелье не имел: переменить всех сомнительных и подозрительных без пощады.
8-е. Законы наши требуют поправления: 1-е) чтоб все ввести в одну систему, которой и держаться надлежит; 2-е) чтоб отрешить те, которые оной прекословят; 3-е) чтоб разделить времянные и на персон данные, от вечных и непременных. О сем уже было помышляемо, но короткость времени меня к произведению сего в действо еще не допустила.
9-е. Великое отягощение для народа есть соль и вино, на таком основании, как оные находятся. В корчемстве столько винных есть, что и наказывать их почти невозможно, понеже целые провинции себя оному подвергли; а что пресечь нельзя, не худо бы к тому изыскивать способы к поправлению и облегчению народному.
10-е. Малая Россия, Лифляндия и Финляндия суть провинции, которые правятся конфирмованными им привилегиями, и нарушить оные отрешением всех вдруг весьма непристойно б было; однако ж и называть их чужестранными и обходиться с ними на таком же основании есть больше, нежели ошибка, а можно назвать с достоверностью глупость. Сии провинции, так же и Смоленскую, надлежит легчайшими способами привести к тому, чтоб они перестали глядеть, как волки к лесу.
Нет сомнения, что наставлений подобного рода, как письменных, так, еще более, изустных, немало составлено было Екатериною в первые годы ее царствования. Нет сомнения и в том, что они производили хотя некоторое действие и на тех, которые были исполнителями ее воли. Все должно было проснуться от давней дремоты; апатический застой невежественного общества должен был уступить место смелому и быстрому стремлению вперед, и улучшениям и усовершенствованиям во всех частях народного быта и государственного управления. Мы видели, что Екатериною было поднято чрезвычайно много существеннейших вопросов государственной жизни, что она не оставила без внимания ни финансы, ни торговлю и промышленность, ни положение войска, ни судопроизводство, ни законодательство. В особенности относительно законодательства она дала такие задатки своего мудрого попечения о благе народа, что возбудила изумление целой Европы. Известен факт созвания ею комиссии для составления нового уложения. В январе 1767 года объявлено было, чтобы в течение полугода собрались в Петербург депутаты из всех провинций России, от всех племен и сословий, не исключая и крестьян. В июле действительно собрались депутаты, комиссия была открыта и получила себе в руководство знаменитый «Наказ» (П. С. З., № 12945 и 12949). Комиссия составилась из 645 депутатов; на нее отпущено было 200 000 рублей; в декабре 1768 года она приостановлена, ничего не сделавши. Срок окончания ее занятий несколько раз был отсрочиваем: сначала до 1 мая 1772 года, потом до 1 августа, потом до ноября, затем до 1 февраля 1773 года. Наконец, оказавшись совершенно неспособною к законодательству, комиссия для составления проекта нового уложения осталась только по имени; в 1796 году она была переименована Павлом I в комиссию составления законов, в 1804 году снова преобразована, и т. д. Но, несмотря на некоторую бесплодность созвания государственных сословий в 1767 году, оно произвело в то время необыкновенный восторг не только в русских, но и за границею. «Наказ» обошел всю Европу, как блистательное свидетельство высоких качеств ума и сердца императрицы русской. Созвание (по выражению объяснителя к сочинениям Державина){32} «депутатов из всех народов, составляющих Российскую империю, от дальнейших краев Сибири, камчадалов, тунгусов, от каждой области по два человека, даже якутов и пр.» – оставило памятник по себе и в следующих стихах певца Екатерины (Державин, I, стр. 144):
Ее изобрази мне ты,
Чтоб, сшед с престола, подавала
Скрижалей заповедь святых,
Чтобы вселенна признавала
Глас божий, глас природы в них;
Чтоб дики люди, отдаленны,
Покрыты шерстью, чешуей,
Пернатых перьем испещренны,
Одеты листьем и корой,
Сошедшися к ее престолу
И кротких вняв законов глас,
По желто-смуглым лицам долу
Струили токи слез из глаз…{33}
Но особенно рельефно выразился всеобщий энтузиазм того времени к великому начинанию – в речи, которая произнесена была представителем всех депутатов, 27 сентября 1767 года, при поднесении императрице титула Премудрой, Великой, Матери отечества. Мы приведем из этой речи, помещенной в Полном собрании законов (№ 12978), две тирады: одна изображает мрачное положение России пред вступлением на престол Екатерины, другая – благоденствие отечества под ее правлением.
Плачевное отечества нашего состояние до преславного и навеки достопамятного восшествия богом избранный и венчанныя всеавгустейшия нашей самодержицы на всероссийский императорский престол не токмо всем россиянам, но и целому свету известно. Когда мысленно воззрим на минувшее, дух в нас еще трепещет и падение империи живо представляется воображению. Видели мы веру поруганную, законы, приведенные в замешательство, правосудие, изнемогшее с падением законов, с правосудием истребленную совесть и добронравие. Государственные доходы истощались, потеряна была довольность, и угнетена торговля; грабительство, лакомство, корыстолюбие и прочие пороки, покровительством многих лиц ободренные, возрастали с гибелью народа и усугубляли бедствия отечества нашего; и, наконец, везде неустройства торжествовали, где следовало царствовать порядку… Перемена дивная вдруг последовала! Радость прогнала тьму печалей!.. Со дня восшествия ее императорского величества на престол все дни ее можно исчислить благодеяниями: вреды и неустройства исправлены и прекращены; православная вера наша торжествует и зрит монархиню, дающую пример подданным во благочестии; правосудие царствует купно с ее величеством на Престоле; человеколюбие обитает в ее душе и без послабления смягчает строгость законов. Пороки исчезают, и корень их пресекается; но с кротостью исправляются нравы, просвещаются умы, и добродетели, под священною сению престола, процветают нужнейшие роду человеческому искусства, земледелие и домоводство монаршим взором ободряются, торговля возрастает, и с нею изобилие рукоделий умножается; везде введены полезные учреждения, и словом – во всех частях государственных, во всех делах разум и добродетели нашея великия государыни сияют и не обретают ничего выше сил своих. Но, печась о настоящем, премудрая наша самодержица печется и изливает благодеяния на времена и будущие… и пр.
Эту речь можно назвать первообразом той сатиры, которая получила такое развитие в журналах 1769–1774 годов и рассмотрению которой посвящена книга г. Афанасьева. В речи депутатов мы видим две половины, противоположные одна другой: в первой излагается ужасное положение России до Екатерины, расстроенное до последней степени и грозившее падением империи; во второй прославляются неимоверные успехи, совершенные Россиею в пятилетний период от 1762 до 1767 года. Те же две стороны находим мы и в сатирических произведениях екатерининского времени: все они с необычайною резкостью восстают против, общественных пороков, но во всех выражается довольно ясно та мысль, что эти пороки и недостатки суть исключительно следствия старого неустройства, остатки прежнего времени и что теперь уже настала пора для их искоренения, явились новые условия жизни, вовсе им неблагоприятные. Эта мысль, положенная в основание всякого обличения, всякой сатиры, служит даже объяснением резкости тогдашних журналов, удивительной и для настоящего времени, когда наша гласность сделала такие огромные успехи. Сатирики 1770-х годов, проникнутые верою в близкое усовершенствование России, вследствие принятых императрицею мер, считали священным долгом содействовать путем литературным всем ее начинаниям. И чем более проникались он и благоговейным восторгом к действиям Екатерины, тем смелее и беспощаднее становилось их обличительное слово против старых злоупотреблений, потому что все доброе и полезное они соединяли с волею императрицы, а все злое и недостойное разумели как противоборство ее намерениям и желаниям. Таким образом, сатира на все современное общество являлась в мыслях благородных сатириков не чем иным, как особым способом прославления премудрой монархини. Указывая недостатки управления и карая вопиющие злоупотребления во всех родах, сатирики отнюдь не думали делать укоры самому правительству; напротив, они говорили: вот как презренны и низки некоторые люди, не понимающие благотворных видов монархини и не желающие им содействовать. И, отправляясь от этой мысли, сатирики уже не церемонились с безумными и порочными, в которых видели противников обожаемой монархини. Иногда обличения тогдашних журналов заключали в себе и прискорбную мысль о том, что так трудно прогрессивному правительству бороться с невежеством и недобросовестностью отсталых людей; но и это бывало очень редко. Чаще же всего горькие истины обличения скрашивались отрадным убеждением, что все-таки дело прогресса идет вперед и что скоро правда и свет одержат решительную победу над ложью и мраком. Издатель «Вечеров»{34} в самом начале своего журнала говорит о том, что «ябеды узловатее становятся, а крючки больше растут, подьячие богатеют», и пр. Но вслед за тем он прибавляет: «Однако вскоре воссияет истина, исчезнут совсем приказные сплетни, воспоют музы, прославят царствующую на земле Астрею, прославят такими стихами, которые ее достойны, а недостойные умолкнут» («Вечера», ч. I, стр. 5). Такие надежды – и не при начале только сатирических изданий, а во все продолжение царствования Екатерины – выражались нередко даже в виде положительной уверенности, хотя, обращаясь к действительности, сам автор тут же находил вещи, совершенно нейдущие к златому веку. Так, например, Василий Новиков, в посвящении своего «Театра судоведения» (1791 г.), говорит: «Во дни благословенного державствования в стране, где царствует правосудие и торжествует невинность, где изгоняется порок и водворяется добродетель, где низится невежество и возвышается просвещение, в сии дни блаженства я рожденный и воспитанный приемлю смелость», и пр. …А через несколько страниц, в заключение своего предисловия, он же пишет: «Великим бы почел я торжеством для моих трудов, если бы чтение сей книги заступило место карточной игры и других пустых времяпровождений, столь мало приличных важности судейского звания» («Театр судоведения», ч. I, стр. 5–6). Сличения подобных мест могут наводить на мысль, что восторги тогдашних писателей были не более как реторическою фразою, которая ставилась, может быть, с умыслом, чтобы под ее защитою смелее поражать пороки. Но такое заключение будет несправедливо: характер всей сатиры екатерининского времени отличается самым искренним уважением к существующим постановлениям и преследованием исключительно одних только злоупотреблений. Доказательством этого служит и манера обличений, и даже внешняя история сатиры. Замечательно, что прекращение сатирических журналов совпадает с концом первой турецкой войны и усмирением пугачевского бунта. В первые годы царствования Екатерины было чрезвычайно много материалов для сатиры, потому что много было людей, осмеливавшихся восставать против правления Екатерины. В 1762 году разносились по России ложные слухи о ее намерениях, издавались фальшивые манифесты, волновались крестьяне разных местностей, как видно из указов по этим предметам, данных чуть не в первые дни царствования Екатерины. В 1763 году составлен был целый заговор Хрущевыми и Гурьевыми,{35} в 1764 году произошла попытка Мировича{36}. С этих пор в течение десяти лет постоянно каждый год выходило по нескольку указов – то о публичном сожжении пасквилей и о наказании тех, у кого они окажутся, то о предостережении от продерзких речей, то об усмирении крестьян, увлекшихся ложными слухами. В 1771 году было серьезное волнение по поводу моровой язвы,{37} наконец, в 1773 году разразился пугачевский бунт… Все это очень беспокоило тогдашнее правительство, и Екатерина прилагала все старания, чтобы своими распоряжениями привлечь к себе сколько можно более приверженцев и предупредить могшее возродиться недовольство. Одним из орудий ее в этом деле была литература. Конечно, в тогдашнем обществе литература почти ничего не значила; но к ней обратились, вероятно, отчасти вообще по естественной людям наклонности к благоприятной для них гласности, а всего более – по соображению того, какое значение имела литература, и особенно сатира, во французском обществе. Видя, как француз боится насмешки, зная, какое страшное влияние имел Вольтер, надеялись, вероятно, что и в России сатира может занять довольно почетное место в ряду других средств, служащих к уничтожению противников благих мер Екатерины. Этим отчасти может быть объяснено даже то усердие, какое сама она прилагала к сочинению комедий и сатирических безделиц, под названием «Былей и небылиц». Но в видах Екатерины вовсе не было того, чтобы дать литературе неограниченное право рассуждать о политических предметах и смеяться над всем, что не будет нравиться писателям. Она очень не любила, когда под видом гласности в литературу прокрадывались какие-нибудь «продерзкие речи». Вот почему, когда внутреннее спокойствие было совершенно восстановлено, а конец первой турецкой войны возвеличил имя Екатерины и в Европе, когда остатки старого недовольства и недоверия к ней стали ей уже не страшны, она охладела к сатире, как к вещи уже ненужной и могущей быть только вредною для ее спокойствия. С 1773 года она перестала писать комедии и возвратилась к этому занятию только уже через десять лет, когда, вместе с княгиней Дашковой, вздумала подвинуть вперед русскую науку заведением Российской академии. В 1774 году прекращаются и сатирические журналы. Разумеется, сатира, раз явившись, все-таки не могла быть совершенно уничтожена, но по крайней мере с этих пор нет уже у нас того внешнего признака, по которому можно следить действия сатиры шаг за шагом и судить о ее распространении в обществе и о степени успеха, – нет более периодических изданий, отличающихся сатирическим характером. Мы не имеем никаких данных, по которым бы можно было утверждать, что сатирические издания вообще после 1774 года подвергались у нас каким-нибудь официальным стеснениям и преследованиям. Но самый их характер объясняет до некоторой степени их падение. Они были живы, блестящи, эффектны, интересны, даже дерзки до тех пор, пока имели дело с остатками отжившего порядка, против которого шла сама Екатерина. Над этими остатками и потешались они в течение пяти лет. Но мало-помалу люди старого времени заменились людьми свежими, противники нового направления удалены, в силу вошли его приверженцы, приняты меры, каких прежде не было, сделаны преобразования в старинном порядке. Если теперь и были в администрации и в обществе недостатки, то недостатки эти уже нельзя было сваливать на старое время: нужно было говорить прямо против существующего порядка. А этого-то и не могла тогдашняя сатира; до этого-то и не доросла она, не доросло и само общество, в котором приходилось ей действовать. Ясно, что круг ее действий должен был очень сузиться: она могла, например, восставать против ужасов пытки, когда сама императрица неоднократно высказывала отвращение от этой ненавистной судебной меры (см., например, два указа 15 января 1763 года); но когда потом обстоятельства привели к восстановлению тайной экспедиции и когда явился страшный Шешковский, тогда, разумеется, кричать против пытки стало не очень повадно. Сатирики не хотели подвергаться опасности и молчали. Подобного рода обстоятельства парализировали смелость и откровенность сатиры и в отношении к другим предметам. Таким образом, значение сатирических изданий потерялось в публике: сатиры на дурных стихотворцев, на подражателей французам, на скупцов и мотов, на хвастунов и рогатых мужей и т. п., конечно, оставались в полном распоряжении литературы; но эти предметы не могли уже так занять публику, как обличение дурных судей, помещиков, попов, вельможной спеси и невежества, пыток, ханжества и т. п. Зато, вместо новых журналов, в течение многих лет и перепечатывались те из старых в которых с особенной резкостью затрогивались эти предметы. Особенный успех имели «Живописец», «Трутень» и «Вечера». «Живописец» имел шесть изданий, последнее – в 1829 году!{38}