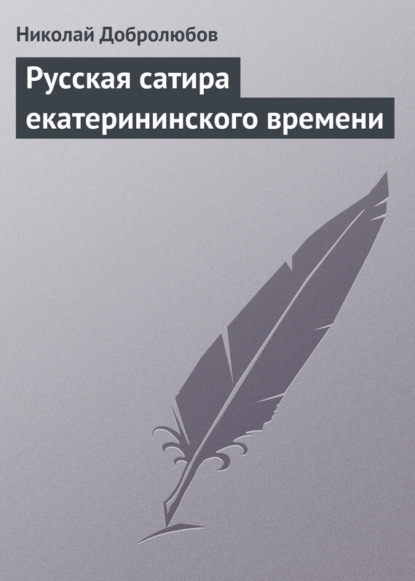000
ОтложитьЧитал
(Русские сатирические журналы 1769–1774 годов. Эпизод из истории русской литературы прошлого века. Соч. А. Афанасьева. Москва, 1859)
А я бы повару иному
Велел на стенке зарубить,
Чтоб там речей не тратить по-пустому,
Где нужно власть употребить.
Крылов{1}
Искусство говорить слова для слов всегда возбуждало великое восхищение в людях, которым нечего делать. Но такое восхищение не всегда может быть оправдано. Конечно, и звук, как все на свете, имеет право на «самостоятельное существование» и, доходя до высокой степени прелести и силы, может восхищать сам собою, независимо от того, что им выражается. Так, нас может пленять соловьиное пенье, смысла которого мы не понимаем, итальянская опера, которую обыкновенно понимаем еще меньше, и т. п. Но в большинстве случаев звук занимает нас только как знак, как выражение идеи. Восхищаться в официальном отчете – его слогом, или в профессорской лекции – ее звучностью означает крайнюю односторонность и ограниченность, близкую к идиотству. Вот почему, как только литература перестает быть праздною забавою, вопросы о красотах слога, о трудных рифмах, о звукоподражательных фразах и т. п. становятся на второй план: общее внимание привлекается содержанием того, что пишется, а не внешнею формою. Таким образом, красивенькие описания, звучные дифирамбы и всякого рода общие места исчезают пред произведениями, в которых развивается общественное содержание. Является потребность в изображении нравов; а так как нравы, от начала человеческих обществ до наших времен, были всегда очень плохи, то изображение их всегда переходит в сатиру. Таким образом, сатира, говоря слогом московских публицистов{2}, «служит доказательством зрелости общественной среды и залогом грядущего совершенствования государства». Не мудрено поэтому, что и у нас сатира привлекает к себе особенную благосклонность образованной публики и приводит в восторг лучших наших историков литературы, то есть тех, которые уже переступили степень развития, дозволяющую иным восхищаться слогом официальных отчетов.
Относительно значения и достоинства сатиры вообще мы совершенно соглашаемся с почтенными историками литературы нашей. Но мы позволим себе указать на одну особенность нашей родной сатиры, до сих пор почти не удостоенную внимания ученых исследователей. Особенность эта состоит в том, что литература наша началась сатирою, продолжалась сатирою и до сих пор стоит на сатире – и между тем все-таки не сделалась еще существенным элементом народной жизни, не составляет серьезной необходимости для общества, а продолжает быть для публики чем-то посторонним, роскошью, забавою, а никак не делом. Это значит, что и сатира у нас вовсе не есть «следствие зрелости общественной среды», а объясняется совершенно другими причинами. Причины эти нетрудно понять: сатира явилась у нас, как привозный плод, а вовсе не как продукт, выработанный самой народной жизнью. Кантемир, обличая приверженцев старины и вздорных поклонников новизны, сказал не думу русского народа, а идеи иностранного князя{3}, пораженного тем, что русские не так принимают европейское образование, как бы следовало по плану преобразователя России. Ставши под покровом официальных распоряжений, он смело карал то, что и так отодвигалось на задний план разнообразными реформами, уже приказанными и произведенными; но он не касался того, что было действительно дурно – не для успеха государственной реформы, а для удобств жизни самого народа. В то время как вводилась рекрутская повинность, Кантемир изощрялся над неслужащими; когда учреждалась табель о рангах, он поражал боярскую спесь и местничество;{4} когда народ от притеснений и непонятных ему новостей всякого рода бежал в раскол, он смеялся над мертвою обрядностью раскольников;{5} когда народ нуждался в грамоте, а у нас учреждалась академия наук, он обличал тех, которые говорили, что можно жить, не зная ни латыни, ни Эвклида, ни алгебры…{6} С Кантемира так это и пошло на целое столетие: никогда почти не добирались сатирики до главного, существенного зла, не разражались грозным обличением против того, от чего происходят и развиваются общие народные недостатки и бедствия. Характер обличений был частный, мелкий, поверхностный. И вышло то, что сатира наша, хотя, по-видимому, и говорила о деле, но, в сущности, постоянно оставалась пустым звуком…
Любопытно проследить, как это случилось, и мы не отказываемся, по мере возможности, когда-нибудь серьезно заняться этим вопросом. Но теперь выскажем лишь несколько общих замечаний, нужных для настоящего предмета нашей статьи.
Когда человек говорит о деле, то прямая цель его слов та, чтобы дело было сделано; когда сатирик восстает против недостатков, то у него непременно есть стремление исправить недостатки. Но, чтобы подобная цель могла достигаться, нужно говорить дельно и договаривать до конца; иначе никакого толку не выйдет. Если меня, например, порицают за то, что я живу в дурной квартире и ем плохую пищу, между тем как у меня нет денег для лучшей квартиры и пищи, то очевидно, что все порицания не принесут мне ровно никакой пользы. Человек, истинно желающий, чтобы я исправился от дурной привычки скудно есть и жить в бедности, непременно обратит свои обличения не на квартиру и стол мой, а – или на то, зачем я сам ничего не делаю для своего обеспечения, или на то, зачем другие не вознаграждают моего труда как следует. То же самое и в нравственной жизни общества. Большая часть общественных явлений не может быть изменена просто волею частных лиц: нужно изменить обстановку, дать другие начала для общей деятельности, и тогда уже обличать тех, которые не сумеют воспользоваться выгодами нового устройства. Наши сатирики отчасти не хотели понять этого, а отчасти и понимали, да не могли выразить. Они нападали на необразованность, взяточничество и ханжество, отсутствие законности, спесь и жестокость в обращений с низшими, подлость пред высшими и пр. Но весьма редко в этих обличениях проглядывала мысль, что все эти частные явления суть не что иное, как неизбежные следствия ненормальности всего общественного устройства. Большею частию нападали на взяточника так, как будто бы все зло взяточничества зависело единственно от личной наклонности таких-то к обдиранию просителей. Никогда в сатирах наших вопрос о взятках не переходил в рассмотрение общего вреда бюрократии и тех обстоятельств, которыми сама бюрократия порождена и развита. То же было и во всех других вопросах. Большая часть сатириков наших уподоблялась человеку, обличающему бедняка за то, что тот не живет в роскоши, и добросовестно убежденному, что от этих обличений жизнь бедняка пойдет лучше. Некоторые же из обличителей задавались такой мыслию: «Мы, дескать, будем обличать и ославлять бедняка за его скудость; когда это дойдет до хозяина, от которого он получает жалованье, так хозяин-то усовестится, да и сделает ему прибавку». Рассуждение это, замечательное по своей наивности, очевидно руководило весьма многими из наших сатириков, от Сумарокова до наших дней, и вследствие того обличения бедняка в скудости обыкновенно заканчивались увещанием исправиться, оставаясь на службе у того же хозяина… В одной из наших прежних статей мы уже говорили о подобных сатириках, называя их Маниловыми{7}, и здесь не можем не повторить, что именно этот маниловский характер и лишал постоянно нашу сатиру реального значения. Жевали, жевали, мяли, мяли у нас в литературе разные общественные вопросы и под конец дошли – до чего же? – до эстетического открытия, что и сатира может быть таким же словом для слова, как и звучное стихотворение Фета или Хомякова… Оказалось, что не одни розы и грезы, не одну географию славянских рек, но и общественные язвы можно воспевать только для процесса воспевания. Сатира явилась только другим видом, или, если хотите, другою степенью старинных эклог, рондо и мадригалов… Здесь был, конечно, уже не звук для звука, но и не звук для дела; это было – обличение для обличения, спор для спора, остроумие для остроумия. До настоящего дела было отсюда чрезвычайно далеко, не только в выражении, но и в мысли сатириков. Они твердили: не нужно прислуживаться к начальству, не нужно брать взяток, не нужно эксплуатировать других и пр. Но как же быть, когда без прислуживанья и без взяток большинство чиновников не может выбиться из ничтожества, не может содержать семьи, прилично одеться и т. д.? Как быть, ежели при современных общественных отношениях всякий, кто не эксплуатирует другого, должен почти умирать с голода? При этих вопросах не только обличаемые, но и сами обличители становились в тупик и начинали бить воздух отвлеченностями о том, что, во всяком случае, надо, однако, быть честным. Но так как этот аргумент был уже слишком слаб даже пред судом их собственной совести, вроде докторского уверения больному, что следует беречь здоровье, то они обыкновенно пускались в очарования и надежды. «Конечно, – рассуждали они, – худосочие и ревматизм нельзя уничтожить медикаментами; надо переменить образ жизни и всю внешнюю обстановку. Но в настоящее время, когда все идет вперед, не нужно особенных усилий для того, чтобы сделать такую радикальную перемену: она совершается сама собою. По сложности ученых наблюдений за последние пятьдесят лет оказывается, что климат вообще смягчается в северных странах, море оседает, гастрономия делает новые успехи, многие изнурительные для здоровья работы исполняются новоизобретенными машинами», и пр. и пр. …Нет сомнения, что все это должно быть весьма утешительно для больного бедняка, потому что подает ему надежду, что медленный, но верный прогресс скоро коснется и его положения и уничтожит причины его болезни… Такие и подобные рассуждения всегда составляли одну из необходимых частей нашей сатиры; причины их заключались в неуменье или нерешимости указать действительные средства поправить дело; следствием же их была та двойственность, та беспрерывная цепь разочарований и новых надежд, та умилительная смесь негодования и восторга, которые доставили нашим сатирикам так много обломовской миловидности и так мало действительной силы…
Винить ли их за то, что они не умели вылечить больного? Требовать ли от них, чтобы они приняли на себя громадный труд изменить всю обстановку, благоприятствующую болезни? Нет, это было бы несправедливо и нелепо. Их можно упрекать в другом: зачем они придают своим утешительным фразам значение, которого они не имеют? Зачем они, повторяя много лет одни и те же фразы, наконец до того сами увлекаются ими, что говорят их даже не в смысле простого утешения, а прописывают в виде действительного лекарства? Наконец, зачем они так мало имеют последовательности, так поверхностно смотрят на жизнь, что полагают, будто новейшими успехами гастрономии воспользуется желудок больного бедняка или что поднятие балтийского берега может на нынешнюю осень предохранить от наводнения жителей Галерной гавани?..
Несколько месяцев тому назад мы говорили о современной нашей сатире и выражали прискорбие о ее мелочности и поверхностности. Мы высказали убеждение, что от такой сатиры не выйдет истинной пользы для общества. Некоторые приняли наши слова за убеждение, что обличать вовсе не нужно и что сатира только портит эстетический вкус публики{8}. Но мы вовсе не то имели в виду: мы хотели сказать, что наша сатира не то и не так обличает… Плодить далее рассуждения об этой материи мы считаем крайне неудобным, потому что – известное дело – о настоящем времени всегда трудно произносить откровенное и решительное суждение, а у нас в настоящее время, когда поднято столько вопросов и сделано столько начинаний, подобное суждение положительно невозможно. Но если аналогия может к чему-нибудь повести, то нам представляется в книге г. Афанасьева превосходный случай проследить один «эпизод из истории русской литературы», во многих отношениях аналогический настоящему времени. Этот эпизод представляет нам сатира екатерининского периода. Книга г. Афанасьева, рассматривающая сатирические журналы того времени, дает нам очень много данных относительно того, что тогда делала сатира. К сожалению, он не обратил внимания на то, какие результаты произошли в самой жизни от столь ярых обличений. Но мы постараемся сделать за него несколько указаний из источников, всем постоянно доступных: из учебника русской истории г. Устрялова, из «Полного собрания законов»{9} и из нескольких журнальных статей, напечатанных в последнее время.
Век Екатерины долгое время являлся нам в каком-то волшебном сиянии, златым веком процветания России по всем частям. До недавнего времени наше внимание привлекалось только светлою стороною последней половины прошлого века. Созвание депутатов со всей России, Наказ, учреждение о губерниях, громы суворовских и румянцовских побед, приобретение Крыма и Польши, развитие народного просвещения, процветание наук и художеств, оды Державина, поэмы Хераскова, комедии Фонвизина и самой Екатерины – все это преисполняло благоговением даже самую нечувствительную душу. Но «в настоящее время, когда» Россия вступает в новый период существования, и для екатерининской эпохи наступила уже история. Теперь уже нужны не дифирамбы, не безотчетные хвалы, а беспристрастное и спокойное рассмотрение фактов того времени во всей их полноте. Скрывать или искажать исторические факты, бывшие за сто или за восемьдесят лет назад, было бы крайне невежественным и зловредным, почти иезуитским поступком. Вот почему теперь беспрепятственно появляется в печати множество материалов для екатерининской истории, которые до сих пор не могли появиться в свет. В «Русской беседе» напечатаны «Записки» Державина{10}, в «Отечественных записках», в «Библиографических записках» и в «Московских ведомостях» недавно помещены были извлечения из сочинений князя Щербатова{11}, в «Чтениях Московского общества истории» и в «Пермском сборнике» – допросы Пугачеву и многие документы, относящиеся к историй пугачевского бунта;{12} в «Чтениях» есть, кроме того, много записок и актов, весьма резко характеризующих тогдашнее состояние народа и государства; месяц тому назад г. Иловайский, в статье своей о княгине Дашковой, весьма обстоятельно изложил даже все подробности переворота, возведшего Екатерину на престол;{13} наконец, сама книга г. Афанасьева содержит в себе множество любопытных выписок из сатирических журналов – о ханжестве, дворянской спеси, жестокостях и невежестве помещиков и т. п. Выписки эти в прежнее время были невозможны; но теперь они являются в весьма значительном количестве, потому что «в настоящее время, когда» крестьянский вопрос принял уже такие обширные размеры и предан правительством такой широкой гласности, подобные исторические указания могут делаться совершенно безопасно. Опираясь на эти примеры, и мы решаемся раскрыть, насколько возможно по скудости источников и другим обстоятельствам, истинное отношение сатиры екатерининского периода к самой действительности того времени и показать, каковы были результаты тогдашних литературных толков для последующей жизни народа и государства.
* * *
Ежели рассматривать сатиру екатерининского времени как нечто самобытное и серьезное и не обращать внимания на факты, противоречащие такому взгляду, то нельзя не удивляться ее силе и смелости, нельзя не прийти в восхищение и не подумать, что такая сатира должна была произвести благотворнейшие результаты для всей России. До таких именно убеждений и дошел г. Афанасьев, как видно из первых слов его книги.
Блистательное царствование императрицы Екатерины II, столько замечательное во всех отношениях, известно и своим благотворным влиянием на развитие отечественной литературы и журналистики. Успехи общественной жизни отразились и на серьезном содержании многих литературных произведений, и на благородном их направлении. Защита просвещения, борьба с невежеством и предрассудками, открытая и меткая насмешка над нравственными общественными недугами и глубокое чувство истинного патриотизма – вот те существенные стремления, которым служило перо лучших сочинителей того времени.
Далее г. Афанасьев говорит, что «сатира, состоя в тесной связи с теми преобразованиями, какие задумывала и совершала великая Екатерина, бросала на восприимчивую почву русской народности живительное семя» (стр. 2). Какова была жатва, об этом г. Афанасьев не считает нужным распространяться; но, по его словам, надо полагать, что при таких благоприятных условиях и жатва должна быть очень хороша. Семя живительное и почва восприимчивая: чего же вам больше? Разве посторонние влияния могли мешать: градом побивало растительность, саранча налетала? Да и того не могло быть: ведь сатира «состояла в тесной связи с преобразованиями великой Екатерины»! Очевидно по всем признакам: екатерининская сатира должна была принести прекраснейшие плоды.
И действительно, сами сатирики того времени были убеждены в громадности своего влияния на исправление общественных недостатков. Сознавая свою связь с правительственными преобразованиями, они не отделяли своего дела от дела Екатерины и твердо уповали на скорое водворение в России златого века, вследствие совокупных усилий правительства и литературы. Без этой приправы не обходилось у них ни одно обличение! Особенно восхищало их то, что при Екатерине уже не водили к пытке и не ссылали в Сибирь за каждое нескромное слово. «Читая твой листок, – писал кто-то к «Живописцу»{14}, – я плакал от радости, что нашелся человек, который против господствующего ложного мнения осмелился говорить в печатных листах. Великий боже! услыши моление восьмидесятилетнего старика, к счастию нашему продли дни премудрыя государыни!.. Куда бы ты попал, бедняжка, если б эту песню запел в то время, когда я был помоложе» («Живописец», ч. I, стр. 52). Это было напечатано в «Живописце» в 1772 году, то есть через десять лет по вступлении Екатерины на престол. Известно, что «Живописец» посвящен «сочинителю комедии» «О, время!», то есть самой Екатерине, и в посвящении этом прямо и положительно объясняется, что сатира принимает смелость обличать пороки именно вследствие поощрения государыни, как правительственного, так и литературного. Новиков, прикидываясь, что не знает, кто сочинил «О, время!», говорит здесь о Екатерине и как об авторе и как о правительнице, и одну восхваляет пред другим. Между прочим, он говорит автору комедии:
Вы первый с таким искусством и остротою заставили слушать едкость сатиры с приятностью и удовольствием; вы первый с такою благородною смелостию напали на пороки, в России господствовавшие… Продолжайте, государь мой, прославлять себя вашими сочинениями… Взгляните беспристрастным оком на пороки наши, закоренелые, худые обычаи, злоупотребления и на все развратные наши поступки; вы найдете толпы людей, достойных вашего осмеяния; и вы увидите, какое еще пространное поле к прославлению вашему осталось.
Слова эти можно заметить как свидетельство писателя, что в 1772 году, несмотря на возгласы одописцев об Астрее{15} и золотом веке, господствовало еще в России полное развращение, и сатира, упражнявшаяся над ним уже три года (считая с 1769, когда начались сатирические журналы), по-прежнему имела для себя еще «пространное поле». Впрочем, весь «Живописец» свидетельствует об этом еще лучше, и потому-то особенно любопытна та легкость, с которою и он, вместе с другими, поет хвалы «златому веку», наставшему тогда в России. Видно, что для «златого века» сатирики считали нужным только дозволение говорить о пороках… На это преимущественно и сводит Новиков свое увещание автору комедии «О, время!» насчет продолжения его писаний. Сказав об обилии наших пороков и злоупотреблений, он продолжает: