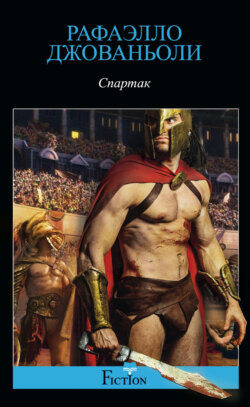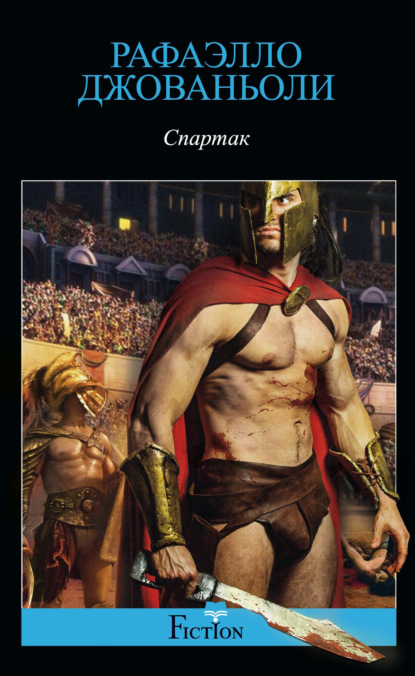– Что с тобой? – заботливо спросил вольноотпущенник, подбегая к бассейну.
– Ничего… просто дремота… Я видел сон.
– Какой же?
– Я видел мою возлюбленную жену Цецилию Метеллу, умершую в прошлом году. Она звала меня к себе…
– Сны лгут, Сулла, не стоит обращать на них внимания.
– Лгут?.. А отчего же ты сам, Кризогон, часто говоришь о твоих снах? Нет, я всегда верил снам, всегда исполнял то, что боги внушали мне во сне, и благодаря этому всегда имел успех во всех моих предприятиях.
– Ты обязан этим своему уму и доблестям, а не снам.
– Помимо ума и доблестей, Кризогон, мне всегда служила Фортуна, и часто я полагался только на нее. Поверь, самыми славными из моих дел были те, которые я предпринимал очертя голову, не размышляя.
Воспоминание о своих деяниях, среди которых было много позорных, но было немало и славных и великих, казалось, влило успокоение в душу Суллы, и лицо его немного прояснилось. Кризогон воспользовался этой минутой и доложил, что, согласно распоряжению, отданному Суллой во время пира, из Кум приведен Эдил Граний, который ждет его приказаний.
При этом имени лицо экс-диктатора мгновенно исказилось злобой. Глаза его засверкали зловещим огнем, и он закричал хриплым, яростным голосом:
– Ввести его сюда! Сейчас… пред мое лицо… этого дерзновенного! Он один в целом мире осмелился издеваться над моими приказаниями, желать моей смерти!
Сулла судорожно схватился своими исхудалыми руками за края бассейна, опираясь на них.
– Не лучше ли подождать, когда ты выйдешь из бани?
– Нет, нет… сейчас же… сюда! Я так хочу!
Кризогон вышел и сейчас же вернулся, вводя Грания.
Это был сильный мужчина лет сорока, с вульгарным лицом, на котором были написаны хитрость и жестокость. Но при входе в баню он сильно побледнел, с трудом скрывая охвативший его ужас.
– Да сохранят боги на долгие лета великодушного Суллу Счастливого! – проговорил Граний дрожащим голосом, кланяясь и поднося руку к губам.
– Не то ты говорил третьего дня, подлый плут, когда насмехался над моим справедливым приговором, обязывавшим тебя уплатить пеню в общественную казну! Ты кричал, что не уплатишь пени, что не сегодня-завтра я умру и ты освободишься от нее.
– Никогда, никогда не говорил я этого! Не верь вздорным клеветам! – пробормотал Граний, все более поддаваясь страху.
– Подлый трус, теперь ты трепещешь! Надо было трепетать тогда, когда ты оскорблял самого могущественного и счастливого из людей… Презренный!
С этими словами Сулла, пылая гневом, с выкатившимися и налитыми кровью глазами, ударил по лицу несчастного, который упал на колени, плача и моля о пощаде.
– Пощади меня! Пощади… Прости! Сжалься! – восклицал бедняк.
– Сжалиться? – кричал Сулла, выходя из себя от бешенства. – Сжалиться над тобой, оскорбляющим меня в то время, когда я страдаю мучительной болезнью?.. Нет, презренный! Ты должен умереть… здесь же… сейчас… перед моими глазами! Я жажду упиться зрелищем твоих предсмертных конвульсий, твоей страшной агонии!
И он, мечась в исступлении и колотя обеими руками по своему больному телу, закричал рабам хриплым, неистовым голосом:
– Эй, вы, лентяи! Что вы там стоите? Хватайте этого негодяя! Колотите его насмерть… душите! Убейте его… здесь… передо мной!
Заметив, что рабы колеблются, он собрал последние силы и закричал страшным голосом:
– Задушите его, или, клянусь змеями фурий, я велю всех вас распять на кресте!
Рабы бросились на злополучного эдила и принялись бить и топтать его, между тем как Сулла, мечась, как бесноватый, продолжал кричать:
– Так, так! Хорошенько его! Терзайте, душите мерзавца! Именем ада, душите на смерть!
Граний, движимый инстинктом самосохранения, свойственным всякому живому существу, отбивался всеми силами от четверых навалившихся на него рабов и осыпал их ударами своих мощных кулаков, силясь вырваться из душивших его рук. Рабы, сначала пассивно набросившиеся на свою жертву и боровшиеся с ней слабо, постепенно рассвирепели и, подстрекаемые неистовыми криками Суллы, вскоре так скрутили Грания, что лишили его возможности двигаться. Тогда один из них схватил его за горло обеими руками и, надавив изо всей силы коленом на грудь, через несколько мгновений задушил его.
Сулла с глазами, почти выскочившими из орбит, с пеной у рта, упивался со зверским наслаждением зрелищем этой бойни и продолжал хрипеть:
– Так! Так!.. Дави его!.. Души!..
Но в тот момент, когда Граний испустил дух, сам его убийца, обессиленный криком и беснованием, закинул голову на спинку бассейна и еле слышно прохрипел:
– Помогите!.. Умираю… Помогите!..
Кризогон и другие рабы бросились к нему, приподняли его и прислонили к стенке бассейна.
Лицо бывшего диктатора приняло трупный цвет; веки полуопустились над потускневшими зрачками; губы судорожно искривились, обнажив скрежещущие зубы, и все тело вздрагивало.
Пока Кризогон и рабы суетились вокруг него, стараясь привести его в чувство, он вдруг привскочил и сильно закашлялся; изо рта его потоком хлынула кровь, и через минуту, глухо застонав и не открывая глаз, он испустил дух.
Таким образом кончилась на шестидесятом году жизнь этого великого, хотя и преступного человека, гениальность и великие качества которого были заглушены жестокостью и необузданными страстями. Он совершил блестящие подвиги, но навлек на свое отечество большие бедствия и составил себе в истории репутацию великого полководца, но дурного гражданина. Рассматривая его деяния, трудно решить, что в них перевешивало: храбрость ли и энергия или хитрость и лживость. Сторонник Мария, Кней Папирий Карбон, долго и успешно воевавший против Суллы, справедливо говорил: «Воюя с Суллой, не знаешь, с кем имеешь дело – со львом или с лисицей, так как оба зверя живут в его душе, и лисица доставляет даже больше хлопот его врагам, чем лев».
Сулла умер, насладившись всем, что может желать человек, и за это его прозвали Счастливым, если счастье состоит в достижении человеком всего, чего он желал.
Едва умер Сулла, как в комнату вошел Диодор в сопровождении врача Сирмиона и объявил в дверях:
– Прибыл гонец из Рима и привез важное письмо к…
Голос его оборвался, когда он взглянул, войдя, на присутствующих, которые стояли в оцепенении, пораженные смертью своего господина.
Сирмион бросился к трупу и велел вынуть его из бассейна и положить на устроенную из подушек постель на полу. Он осмотрел его, пощупал пульс, послушал сердце и проговорил, опустив голову:
– Кончено… умер!
Раб Эвтибидэ, привезший ее письмо и вошедший в баню вслед за Диодором, стоял в углу, глядя в изумлении и страхе на происходившее вокруг. Потом, поняв, что наиболее авторитетное лицо среди присутствующих – Кризогон, он подошел к нему и сказал, подавая письмо:
– Моя госпожа, куртизанка Эвтибидэ, строго наказала мне отдать это письмо в собственные руки Суллы, но так как боги судили мне, в наказание за мои грехи, найти уже мертвым величайшего из людей и так как я заключаю по твоим слезам, что ты – один из ближайших к нему домочадцев, то вверяю письмо тебе.
Кризогон, вне себя от горя, взял пергамент и не глядя сунул его за пазуху, продолжая рыдать над телом своего благодетеля и господина, которое тем временем обсушили и натерли благовонными маслами.
Известие о смерти Суллы быстро облетело весь дом, и все его рабы сбежались в баню, которая огласилась воплями и причитаниями. В это время туда вбежал Метробий, только что прискакавший из Рима. Бледный, запыхавшийся, в грязной, истрепанной одежде, он залился слезами, крича:
– Нет! нет! Это невозможно!.. Это неправда!..
Когда он увидел труп Суллы, уже холодный и окоченевший, он зарыдал еще неутешнее и, бросившись на пол возле бездыханного тела, покрыл его лицо поцелуями.
– Умер!.. без меня!.. – восклицал он. – И я не услышал в последний раз твоего голоса, несравненный, обожаемый друг!.. не получил от тебя последнего поцелуя, мой дорогой Сулла!..
VIII. Последствия смерти Суллы
Известие о смерти экс-диктатора облетело Италию с быстротой молнии, и легче вообразить, чем описать, какое потрясение оно произвело повсюду, а в особенности в Риме. В первую минуту все онемели от изумления; потом начались толки, расспросы, комментарии. Все хотели знать, как, когда именно, при каких обстоятельствах постигла Суллу внезапная смерть. Олигархическая партия, патриции, люди богатые оплакивали смерть великого человека как общественное несчастье, как невосполнимую потерю и громко требовали, чтобы герой был погребен с императорскими почестями и чтобы в память его были воздвигнуты статуи и храмы, как в память спасителя республики и полубога.
Им вторили вопли десяти тысяч рабов, освобожденных в Риме Суллой. Эти десять тысяч образовали после торжества партии Суллы особую трибу, названную в честь Суллы корнелиями, которым он роздал часть имущества жертв проскрипции. Эти люди, всем обязанные Сулле, оплакивали его смерть не только из признательности к нему, но также из боязни, что после его смерти у них отнимут то, что они получили от его щедрот.
Кроме того, в Италии, в марианских городах (то есть тех, которые держали сторону Мария) было расположено, после того как жители этих городов были вырезаны, сто двадцать тысяч легионеров, сделавших с Суллой его походы против Митридата и против Мария во время междоусобной войны и получивших в награду имущество побежденных. Ветераны эти боготворили Суллу как великого полководца и своего благодетеля и готовы были стеной стоять за все порядки, введенные покойным диктатором.
Но сожалениям этой сильной партии противостояло ликование ста тысяч жертв жестокости Суллы, имена которых были занесены в списки проскрипции, и всех многочисленных и могущественных остатков партии Мария, которые вслух проклинали убийцу своих родных и друзей, разорителя стольких семейств, и жаждали мести и волновались в ожидании наступления нового порядка. К ним присоединились плебеи, у которых Сулла отнял многие права и привилегии и которые стремились возвратить себе утраченное. Ввиду всего этого немудрено, что известие о смерти Суллы вызвало в Риме такое смятение и брожение умов, каких давно уже не бывало в этом городе.
На форуме, в базиликах, под портиками храмов, на улицах, в лавках, на рыночных площадях – всюду собирались толпы народа всякого сословия, чтобы обменяться новостями, и все громко кричали, оплакивая общественное несчастье, или еще громче – благодаря богов, избавивших наконец республику от поработившего ее тирана. И всюду слышались споры, взаимные попреки, в которых неудержимо прорывались страсти: ненависть, жажда мести, страх, ожидание и надежда.
Возбуждение умов становилось тем опаснее, что консулы принадлежали к различным партиям и вели между собой тайную борьбу. При таких условиях, когда страсти разгорелись, когда борцы уже стояли наготове и каждая сторона имела своего намеченного вождя, не уступавшего в храбрости и влиянии вождю противной стороны, междоусобная война представлялась неизбежной и близкой.
Добрые и авторитетные граждане, сенаторы и консулары пытались успокоить умы обещаниями реформ, новых законов, возвращения плебеям их старинных привилегий, но усилия их приносили мало плодов ввиду необычайного возбуждения народных страстей.
Многие из сенаторов и граждан, а также и вольноотпущенники трибы корнелиев отпустили бороды в знак траура и облеклись в темные тоги; многие женщины, также в трауре, с распущенными волосами, бегали из храма в храм, моля богов о защите, словно смерть Суллы подвергла Рим величайшей опасности. Все это вызывало насмешки его врагов, которые разгуливали по форуму и по городским улицам, свободно болтая и смеясь.
На людных местах, где вывешивались на мраморных досках или на альбумах новоизданные законы и указы, была вывешена в продолжение трех суток после смерти Суллы дощечка с такой эпиграммой: «Счастливый диктатор Сулла считал себя властелином мира; но боги покарали гордеца, и тот, кто мечтал видеть Рим у своих ног, был отдан на съедение вшам». В иных местах было начертано: «Долой исключительные законы!», то есть те законы, именем которых Сулла прикрывал свой беззаветный деспотизм; или «Мы требуем неприкосновенности трибунов», которую Сулла самовольно отменил; или «Слава Каю Марию!». Все это ясно показывало, в каком возбужденном состоянии находились умы.
Консул Марк Эмилий Лепид, который даже при жизни Суллы не скрывал своей ненависти к нему, выражал теперь свои чувства еще более явно в уверенности, что партизаны Мария и народ – на его стороне. Другой же консул Лутаций Катулл хотя и принадлежал к олигархической партии, но, как человек выдающегося ума и честного характера, давал понять, никому не бросая вызовов, что он будет подчиняться сенату и законам.
Катилина не преминул воспользоваться волнением умов и старался раздуть его еще сильнее. Хотя он и поддерживал добрые отношения с Суллой, но все его надежды, страсти и долги побуждали желать переворота, так как ему нечего было терять, и он мог только выиграть. Поэтому как сам он, так и его молодые друзья сильно агитировали среди недовольных, стараясь раздуть еще более и без того достаточно сильную ненависть к олигархии.
Одни только Кней Помпей и Марк Красс, пользуясь своей огромной популярностью, употребляли все усилия для примирения врагов и призывали граждан к уважению законов ради предохранения отечества и республики от страшных опасностей, которые могла навлечь на них новая междоусобная война.
Среди всей этой сумятицы сенат сошелся в курии Гостилии, чтобы обсудить вопрос, какие почести следует воздать праху победителя Митридата.
Курия Гостилия, построенная царем Туллием Гостилием за пятьсот шестьдесят лет до событий, о которых идет речь, стояла у подошвы Палатинского холма и служила обычным местом собраний сената. Здание это считалось священным наравне с храмом, хотя и не было им в собственном смысле. Оно состояло из большой квадратной залы, окруженной колоннадой, поддерживавшей галерею, куда впускалась публика. Внизу, на трех мраморных ступенях, расположенных полукругом и покрытых подушками и мехами, находились места сенаторов. Перед ними, у мраморного стола, стояли два пышных курульных стула для консулов, а в центре верхней ступени находилось особое место для председателей сената. Напротив консульского стола, в глубине амфитеатра, стояли скамьи для плебейских трибунов, которые только в последние сто лет получили право заседать в самой курии; в прежние же времена они сидели снаружи под портиком, у двери в курию, где и знакомились с декретами сената.
В тот день, когда предстояло обсуждение сенатом вопроса о почестях, которые надлежало воздать праху Суллы, галерея курии была полна народа, равно как и портик, и прилегающие комиции, где собралось до пяти тысяч корнелиев с отпущенными бородами и в траурных одеждах. Они оглашали воздух восхвалениями Суллы, тогда как семь или восемь тысяч других граждан, большей частью капоцензов, ругали и проклинали его. Галерея курии была переполнена, равно как и сенаторские места, на которых замечалось необычайное движение.
Председательствовал в этом заседании Публий Сервилий Вотий Изаврийский, муж совета, который славился своими доброделями и умом. Открыв заседание, он предоставил слово консулу Квинту Лутацию Катуллу. Тот в коротких словах очертил славные подвиги Суллы: взятие в плен Югурты в Африке, победу над Архелаем в Херонее, поражение Митридата, прогнанного в Азию, покорение Афин и прекращение опасной междоусобной войны, и заключил предложением оказать его праху почести, достойные его и римского народа, которого он был вождем и полководцем. Он предложил, чтобы бренные останки экс-диктатора были торжественно перевезены из Кум в Рим и погребены на Марсовом поле.
Короткая речь Катулла вызвала шумное одобрение на всех сенаторских местах и бурный ропот в галерее.
Когда шум унялся, поднялся с места Лепид и сказал:
– Глубоко сожалею, отцы сенаторы, что я не могу согласиться на этот раз с мнением моего славного коллеги Катулла, добродетели и благородство души которого я первый признаю и ценю; но я нахожу, что под внушением своего великодушного сердца, а также и своей заботы об интересах и чести нашего отечества он внес предложение не только неуместное, но вредное и не справедливое. По доброте души он привел все доводы, говорящие в пользу покойного Луция Корнелия Суллы и могущие склонить это высокое собрание к оказанию его праху императорских почестей. Но, исчисляя его доблести, мой коллега умолчал о несчастьях, которые навлек покойный на свое отечество, о смутах и междоусобицах, раздиравших в его правление Рим, и, говорю без обиняков, о преступлениях, которыми он запятнал свое имя, – преступлениях, из которых довольно было бы одного, чтобы затмить память об этих доблестях.
На этот раз громкий ропот поднялся с сенаторских мест, галереи же огласились шумными рукоплесканиями. Но Вотий Изаврийский подал знак трубачам, и они трубными звуками заглушили голос народа.
– Говорю прямо, – продолжал Лепид, – недобрую память оставил по себе Риму Сулла. Имя его напоминает нам не только о его преступлениях и пороках, но и о том, как попирались законы, влачилось в грязи звание консулов, возводилась в единый закон воля деспота; напоминает о гнусных проскрипциях, погубивших тысячи невинных жертв, о разорении, грабежах, насилиях всякого рода, совершавшихся по его приказанию, ко вреду и позору нашего отечества. И такому человеку, имя которого напоминает каждому из граждан о каком-нибудь личном его несчастье, вы хотите устроить царские похороны?! Как? Луция Суллу, задушившего республику, похоронить на Марсовом поле, где высится могильный холм Публия Валерия Публиколы, одного из ее основателей?! Как? На этом поле, где, в силу особых декретов сената, хоронились останки только славнейших и добродетельнейших из граждан, мы предадим земле прах того, кто умертвил или услал в изгнание благороднейших из людей нашего времени?! Мы воздадим пороку ту честь, которой отцы наши награждали только добродетель?! И ради чего мы совершим такой низкий поступок, противный нашему достоинству и нашей совести? Не из страха ли перед теми двадцатью семью легионами, которые сражались за Суллу и всегда готовы были по первому его приказу опустошать самые цветущие области Италии, где он все более свирепствовал? Или из страха перед десятью тысячами презренных рабов, которым он, по собственной прихоти и вопреки всем нашим законам и обычаям, даровал свободу и почетное звание римского гражданина? Положим, что при жизни его ни народ, ни сенат не осмеливались требовать соблюдения законов, – так унизились души под роковым влиянием страха, который он внушал. Но, ради всех богов, что же теперь-то вынуждает вас, отцы сенаторы, признавать нечестивца за праведника, прославлять величие души самого коварного из людей и отдавать почести, подобающие только самым великим и добродетельным из граждан, худшему из сынов Рима? О, не доводите меня до отчаяния в судьбах нашего отечества; дайте мне верить, что в вашем высоком собрании еще сохраняются совесть, достоинство и мужество и что в нем преобладает не низкая трусость, а глубокое сознание своего высокого достоинства! Отвергните, как бесчестное и недостойное, внесенное предложение предать земле на Марсовом поле останки Луция Суллы!
Речь Лепида вызвала громкие рукоплескания не только среди плебеев, но и со стороны многих сенаторов, убежденных его смелыми словами. На все собрание речь эта произвела сильное впечатление, какого не ожидали и не желали сторонники Суллы.
Когда вызванный ею шум утих, тогда поднялся с места Кней Помпей, один из самых молодых и наиболее популярных государственных людей Рима. Речь его, не блиставшая изяществом слога, – он не был одарен красноречием, – но прочувствованная, исходившая от сердца, заключала в себе надгробную похвалу Сулле. Он прославлял его блестящие подвиги и великие предприятия и старался оправдать его дурные поступки и пороки, объясняя их не столько его натурой, сколько окружающими условиями, суровой необходимостью, исключительными обстоятельствами, с которыми ему приходилось иногда бороться, вошедшим в обычай нарушением законов и испорченными нравами римского народа и патрициев.
Искренняя, неприкрашенная речь Помпея произвела громадное впечатление на всех, а в особенности на сенаторов. После него говорили еще некоторые другие ораторы, и, наконец, было приступлено к закрытой баллотировке. В результате получилось: триста двадцать семь голосов за предложение Катулла и девяносто три против него.
Таким образом, победа осталась за сторонниками Суллы, и собрание разошлось среди величайшего волнения, которое от курии Гостилии распространилось на комиции и вызвало бурные манифестации различного характера. Сторонники Суллы рукоплескали Катуллу, Вотию, Помпею, Крассу, тогда как противники его чествовали Лепида, Катилину, Лентула Сура, которые, как всем известно, энергично противились принятию предложения Катулла.
В ту минуту, когда Помпей с Лепидом вышли из курии, продолжая горячо спорить, в возбужденной и шумной толпе чуть не началась свалка, которая могла бы привести к роковым последствиям для республики и вызвать междоусобную войну, исхода которой невозможно было предвидеть. В то время как тысячи голосов шумно прославляли Лепида, другие тысячи, большей частью из трибы корнелиев, рукоплескали Помпею. Взаимные угрозы и брань неизбежно привели бы к кровопролитию, если бы Лепид и Помпей не взялись за руки, проходя сквозь толпу, и не стали громко убеждать своих сторонников успокоиться и мирно разойтись по домам.
Хотя это и предупредило общую свалку, однако не помешало кровопролитным дракам во многих местах: в тавернах и кабаках, в школах, на форуме, в базиликах, под портиками, где обыкновенно теснится народ. Множество людей было убито или изранено в эту ночь, и немало было также попыток поджечь дома сторонников Суллы.
Пока в Риме происходили описанные события, в Кумах совершались другие дела, не менее важные для хода нашего рассказа.
В самый день смерти Суллы, вскоре после того, как весть об этом неожиданном событии взбудоражила всех обитателей виллы, туда прибыл из Капуи какой-то человек, по наружности и одежде похожий на гладиатора. Он спросил Спартака, по-видимому имея к нему какое-то важное дело.
Человек этот, с виду лет сорока, был колоссального роста и богатырского сложения; необычайная сила и ловкость его угадывались с первого взгляда. Лицо его, с грубыми, некрасивыми чертами и очень смуглой кожей с землистым оттенком, было все усыпано прыщами, словно изрытое оспой. Черные маленькие глаза, полные огня и смелости, шапка густых каштановых волос и всклокоченная борода придавали ему еще более грубый и дикий вид.
Однако, несмотря на свою непривлекательную наружность, этот гладиатор с первого же взгляда внушал невольное сочувствие, так как его лицо, фигура, взгляд, каждый жест дышали прямотой, честностью, благородной, хотя и варварской гордостью.
Здание, где помещались гладиаторы, отстояло довольно далеко от виллы, и, пока один из рабов бегал звать Спартака, приезжий прохаживался по аллее между дворцом Суллы и домом гладиаторов, осматривая окружающие богатства и роскошь.
Но не прошло и четверти часа, как раб вернулся, а вслед за ним показался и Спартак, спешивший с распростертыми объятиями навстречу к своему гостю. Со своей стороны, и тот бежал к нему, протягивая руки, и, встретившись, они заключили друг друга в объятия и несколько раз поцеловались. Потом Спартак спросил:
– Что нового, Эномай?
– Новости мои стары, – ответил гладиатор приятным глубоким голосом. – Все мы лежим на боку, ничего не делая, ничего не предпринимая. Пора бы, дорогой мой Спартак, браться за мечи и поднимать знамя восстания!
– Молчи, Эномай! Клянусь богами Германии, ты хочешь погубить наше дело.
– Напротив того, я хочу, чтобы оно увенчалось полнейшим успехом.
– Так не кричи же, необузданный человек! Ведь мы должны быть осторожны, чтобы достигнуть нашей цели.
– Достигнем ли?.. И когда же?.. Вот что мне нужно знать. Я желал бы, чтобы это произошло при моей жизни.
– Надо, чтобы дело созрело.
– Кизил зреет со временем, лежа в соломе; но такой фрукт, как наше восстание, – знаешь ли, как оно созревает?.. С помощью мужества, смелости, риска… Идем без сомнений! Если только дело начнется, ты увидишь, как все пойдет само собой.
– Но послушай… имей же терпение!.. Сколько человек удалось тебе привлечь в эти три месяца к нашему союзу в школе Лентула Батиата?
– Сто тридцать.
– Сто тридцать из десяти тысяч!.. И ты находишь такой плод наших более чем годовых усилий достаточно зрелым или, по крайней мере, окрепшим, чтобы от него можно было ждать какой-нибудь пользы?
– Когда начнется восстание, ты увидишь, сколько к нему пристанет гладиаторов.
– Но как же они пристанут, не зная ни кто мы, ни какие наши цели, ни какими средствами мы располагаем?.. Ведь чем более доверия успеем мы внушить нашим товарищам в этом предприятии, тем более шансов на успех будет у нас.
Пока пылкий Эномай молчал, размышляя, по-видимому, о словах Спартака, тот продолжал:
– Вот хотя бы ты, Эномай, – ты, сильнейший и наиболее уважаемый из десяти тысяч гладиаторов школы Батиата, – что ты успел сделать до сих пор? Много ли людей привлек ты к нашему делу? Многие ли из них знают наши цели? И не устрашает ли их, не внушает ли им недоверие твоя чрезмерная пылкость и необдуманность? Много ли найдется в школе Лентула таких людей, которые знают меня или Крикса и питают к нам доверие и уважение?
– Но это, быть может, потому, что я не получил греческого образования, как ты, и не обладаю даром красноречия. Поэтому я старался уговорить нашего ланиста Батиата пригласить тебя учителем в нашу школу и преуспел в этом, как ты убедишься из этого письма, в котором он приглашает тебя приехать в Капую.
Говоря это, Эномай достал из-за пазухи небольшой лист папируса, свернутый в виде письма, и подал его Спартаку.
У того радостно заблестели глаза, когда он развернул дрожащими руками папирус и стал читать его. Батиат писал, что, наслышавшись об его искусстве и храбрости, он просит его быть руководителем и учителем в его школе гладиаторов в Капуе и обещает ему за это роскошное содержание, а также хорошее жалованье.
– Отчего ты, необузданный Эномай, – спросил его Спартак, кладя письмо за пазуху, – не вручил мне, прежде всего, этого письма, вместо того чтобы терять время в нелепых криках и угрозах? Вот чего я давно и страстно желал, не смея надеяться, что желание мое исполнится! Вот где мое место – среди этих десяти тысяч товарищей! – вскричал он с сияющим лицом. – Так я буду привлекать одного за другим к нашему делу и в душу всех волью ту веру, которая горит в моей груди. Оттуда, из этой школы, выступит по условному знаку в один прекрасный день армия в десять тысяч рабов, которые выкуют себе непобедимые мечи из своих позорных рабских цепей… Ах, наконец-то настает тот день, когда я проникну в гнездо змей и натравлю их на гордого латинского орла!
Рудиарий, вне себя от радости, снова достал письмо, чтобы перечитать его, потом обнял Эномая и стал в возбуждении ходить взад и вперед, произнося отрывочные, бессвязные слова.
Эномай стоял и глядел на него, довольный, но несколько озадаченный этой бурной радостью. Немного погодя, когда Спартак успокоился, гладиатор сказал:
– Радуюсь твоей радости, но еще более рады будут сто тридцать товарищей, привлеченных мной к нашему союзу. Они нетерпеливо желают сбросить с себя иго и возлагают на тебя все свои надежды.
– Нехорошо они делают, если возлагают слишком большие надежды…
– Ты принесешь там еще и ту пользу, что будешь держать в узде этот буйный народ.
– Понятно, что твои лучшие друзья должны быть такими же необузданными, как и ты сам… Да, действительно, мое присутствие в Капуе будет полезно нашему предприятию, если оно может предупредить преждевременные вспышки, которые могут погубить все дело.
– Ты убедишься, Спартак, что при всей моей необузданности я буду исполнять все твои приказания, и ты всегда найдешь во мне верного помощника.
Оба помолчали, и Эномай глядел на Спартака с выражением любви и нежности, насколько это было возможно при грубых чертах его лица. Немного погодя он вскричал:
– А знаешь, Спартак, я нахожу, что ты переменился с тех пор, как я видел тебя в первый раз на тайной сходке в Поцуоли. Ты похорошел и стал как-то мягче; я сказал бы – женственнее, если бы это слово было применимо к тебе…
Эномай остановился, потому что Спартак вдруг ударил себя по лбу и заметно побледнел.
– Боги!.. А она! – пробормотал он слабым голосом, так что гладиатор расслышал только невнятный звук.
Несчастный рудиарий, которого любовь к свободе, жалость к угнетенным братьям и надежда на победу заставили на минуту забыть все, вдруг, словно пораженный каким-то воспоминанием, свесил голову на грудь и погрузился в раздумье.
Молчание длилось долго; Спартак весь ушел в свои печальные думы, и, судя по глубоким вздохам, поднимавшим его грудь, можно было заключить, что в душе его происходит страшная борьба. Эномай также задумался и грустно глядел на друга.
Наконец, германец прервал молчание и проговорил, стараясь придать своему голосу мягкий и ласковый тон:
– Так ты покидаешь нас, Спартак?
– О нет! никогда! – вскричал фракиец, очнувшись, и поднял на друга свои ясные голубые глаза, на которых навернулись слезы. – Скорее я покину свою сестру, скорее покину… – Он запнулся и потом закончил: – Скорее я покину все… все… но только не дело рабов, угнетенных, обездоленных… Нет, никогда! никогда!.. Нет! – прибавил он, снова помолчав. – Не колеблюсь я, не колеблюсь!.. Пойдем, Эномай. Несмотря на траур в этом доме, мы найдем, чем подкрепиться на кухне Суллы; только прошу тебя, никому ни слова о нашем союзе: воздерживайся от всяких вспышек, от всякой брани!
Он направился с гладиатором к вилле, и оба скрылись в ней.
* * *
Спустя двенадцать дней после опубликования сенатом декрета, предписавшего воздать останкам Луция Суллы на общественный счет царственные почести, длинный похоронный кортеж с его прахом выступил из его виллы и потянулся по Аппиевой дороге к Риму. Со всех концов Италии собрался народ, чтобы отдать последнюю честь усопшему. Впереди траурной колесницы с его телом и позади нее следовали: консул Катулл с двумястами римскими сенаторами и множеством всадников, представители всех итальянских городов, ликторы, римские легионы со своими орлами, несколько тысяч корнелиев, прибывших из Рима, музыканты, толпа матрон в глубоком трауре и бесчисленное множество народа.