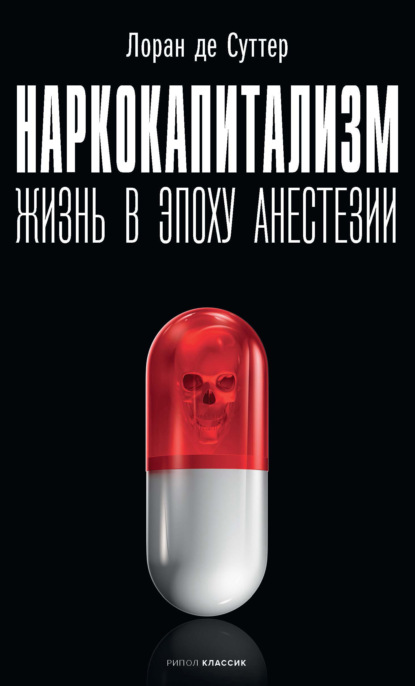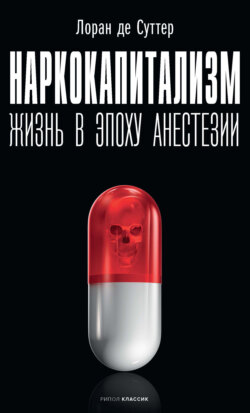
000
ОтложитьЧитал
§ 4. Хлорал
Физикализм Крепелина мог бы оставаться курьезом где-то на задворках истории психиатрии, однако через несколько лет он превратился в стандартную установку при рассмотрении психических заболеваний в Европе, а позже и в США[17]. Эта задержка объясняется тем успехом, которым в Америке в начале XX века пользовался психоанализ, основанный на гипотезе, противоположной гипотезе Крепелина, о том, что областью психических заболеваний является психика, а ее средством познания – язык[18]. Если теория Крепелина в конечном счете и восторжествовала по ту сторону Атлантики, то лишь потому, что, вне зависимости от исходных гипотез, все соглашались с пунктом о методах лечения маниакально-депрессивного расстройства или, скорее, его главного симптома – возбуждения. Хотя Крепелин не давал никаких терапевтических советов в своих наблюдениях за «маниакально-депрессивным психозом», его клиническая практика, которую он передал своим преемникам, не оставляла места для сомнений по этому вопросу. Надо сказать, что доступный врачам арсенал средств незадолго до этого пополнился важными новшествами из мира химии, в число которых следует включить изобретение весьма практичного вещества – хлоралгидрата. Впервые синтезированный в 1831 году соотечественником Крепелина химиком Юстусом фон Либихом, хлоралгидрат (иногда ошибочно называемый просто «хлорал») был веществом, которое мог легко получить любой фармацевт, но эффекты которого впечатляли. Самый интересный из них для психиатров впервые официально зафиксировали в 1869 году: хлорал обладал свойствами весьма многообещающими в области анестезии и седативных средств, применявшихся, например, при лечении бессонницы[19]. Для директора психиатрической клиники, в ведении которого находилось восемьдесят коек, занятых пациентами, склонными к «возбуждению», подобное вещество наверняка представляло интерес в плане управления подопечными. Долгое время хлоралгидрат оставался одним из самых распространенных средств, доступных медсестрам и врачам, которые боролись с упрямыми пациентами, демонстрировавшими то, что эвфемистически называлось «психомоторной ажитацией»[20]. А для маниакально-депрессивных пациентов это было, в соответствии с пессимистической доктриной Крепелина, и вовсе единственным лечением, которое они могли надеяться получить.
§ 5. Силы дефляции
Маниакально-депрессивный человек не выздоравливает; все, что вы можете сделать, это попытаться успокоить его – убедиться, что испытываемое им возбуждение сведено к нулю в пользу вынужденной, но безвредной стабильности. Иначе говоря, с человеком, страдающим «маниакально-депрессивным психозом», вы можете в лучшем случае контролировать маниакальный элемент – включая то, что остается от него во время депрессивной фазы. Хороший маниакально-депрессивный пациент – это депрессивный пациент, то есть отделенный от неконтролируемой половины своего синдрома, той части, которая оправдывает его клиническую изоляцию, с пониманием того, что оказываемая ему помощь ограничивается охраной его беспокойного тела. С того момента, как хлоралгидрат стал использоваться преимущественно для подавления возбуждения, успех был обеспечен: если маниакальное возбуждение также означало телесную гиперестезию, то имело смысл исключить все ощущения, способные привести к ней. Динамика возбуждения являлась динамикой аффективного процесса: «психомоторная ажитация» возникала тогда, когда бытие пациента переполняли чувства и эмоции, заставляя его сходить с рельсов и вести себя безумно. Именно это и означает слово excitation (возбуждение): выход за пределы самого себя, выброшенность за рамки своего бытия, захваченность чем-то внешним, находящимся вне контроля пациента. Быть возбужденным – значит испытывать состояние, в котором вы не являетесь самим собой[21]. «Маниакально-депрессивный психоз» представлялся своего рода деонтологизацией, когда то, что влияет на бытие, отделяет его от самого себя в пользу игры непредсказуемых сил, которые в свою очередь угрожают затронуть других индивидов. Поэтому, чтобы бороться с ним, требовалось иметь возможность восстановить бытие в его пределах, заглушить зов внешнего, на который оно стремилось откликнуться, чтобы не допустить переживания эксцесса – переживания, которое, как предполагалось, было для него слишком трудным. Приятная анестезия, обеспечиваемая хлоралгидратом, могла удовлетворить этим требованиям; там, где бытие раздувалось сверх всякой меры, она могла вызвать его резкую дефляцию посредством устранения аффективных энергий, подпитывающих его инфляцию – расширение. Бесполезные ощущения заглушались, и в результате оставалась лишь своего рода непрерывная, туманная и ослабленная басовая партия, ритм которой внушал заблудшему бытию, что единственная дозволенная ему прогулка – это прогулка по территории больницы.
§ 6. Чувство отрешенности
Однако вовсе не хлоралгидрат обеспечил господство идей Крепелина в области «маниакально-депрессивного психоза». Потребовалось еще одно, более совершенное изобретение, прежде чем США согласились с его видением болезни. Этим изобретением стал синтез хлорпромазина Полем Шарпантье, химиком компании Rhône-Poulenc, изучавшим действие гистамина – молекулы, ответственной за многие аллергические реакции у людей[22]. Заметив, что антигистаминные препараты оказывают мощное воздействие на центральную нервную систему, он начал экспериментировать с различными формулами, чтобы использовать это действие, включая анестетический и седативный эффекты. 11 декабря 1950 года он назвал новейшую формулу, полученную из своих пробирок, «хлорпромазином», еще не зная, будет ли она иметь хоть малейшее применение, но надеясь, что она покажет некоторую эффективность в психиатрии[23]. Опыт на группе лабораторных крыс, которые внезапно перестали интересоваться чем-либо после приема вещества, подтвердил это почти сразу: наряду с анестезией и седацией хлорпромазин вызывал еще кое-что. Что именно, сформулировала друг доктора Анри Лабори, которая следила за исследованиями в Rhône-Poulenc, заявившая, что прием хлорпромазина вызывает у нее «чувство отрешенности»[24]. Потребовалось несколько лет дальнейших исследований, чтобы в этом убедиться, но вывод был неизбежен: действуя как депрессант на центральную нервную систему, хлорпромазин творил чудеса с состоянием психотических пациентов. Выведенный на рынок США в 1955 году компанией Smith, Kline & French под маркой торазин, он сразу же стал основным лекарством в психиатрических клиниках по всей стране, открыв новую эру в лечении психических заболеваний – даже если слово «лечение» здесь вряд ли уместно[25]. В процессе лечения хлорпромазин, в сущности, превращал принимающего его человека в пассивного наблюдателя своего психического состояния, не способного почувствовать, что на него как-то повлияли проходящие через него эмоции. Речь шла уже не об анестезии в хирургическом смысле этого слова, а о гораздо более глубокой операции – анестезии в смысле удаления связи между субъектом и его переживаниями, что лишало его удовольствия.
§ 7. Без удовольствия
Как и в случае хлоралгидрата, цель хлорпромазина не состояла в том, чтобы вылечить его потребителей; единственным ожидаемым эффектом было выравнивание ажитации, испытываемой пациентом, за исключением того, что ажитация, о которой здесь идет речь, была столь же аффективной, сколь и моторной[26]. Успех этой молекулы в одночасье привел к радикальному сдвигу в позиции американских психиатров, сводившемуся к идее о том, что проблему психических заболеваний невозможно решить без рассмотрения ее физического измерения. Психическое заболевание стало считаться, в первую очередь, не душевной болезнью, а расстройством нервной системы, и, даже если на его причины пока не удавалось воздействовать, теперь, по крайней мере, можно было устранить его самые нежелательные последствия как для пациентов, так и для окружающих[27]. То, что это устранение предполагало перевод заинтересованной стороны в новое состояние, где страдание заменялось безразличием, казалось приемлемой ценой за видимое возвращение души в некое спокойное состояние. Для людей, страдающих «маниакально-депрессивным психозом», или «биполярным расстройством», как мы его теперь называем, это подразумевало сценарий, весьма близкий к намеченному Крепелином и следовавшими за ним врачами[28]. Благодаря хлорпромазину и всем молекулам, созданным после него, манию удалось взять под контроль, а основные неудобства, связанные с депрессией, сделать безвредными – так, что пациенты смогли хоть немного наслаждаться жизнью. По правде говоря, в этом заключался парадокс: когда вы принимали хлорпромазин, единственное, чем можно было наслаждаться, это то, что наслаждаться нечем; единственным удовольствием было отсутствие удовольствия, своего рода нулевой градус аффективной жизни. Конечно, можно утверждать, что анестезия оставалась неполной, ведь потребители лекарства по крайней мере воспринимали тот факт, что они ничего не чувствуют; но этот вид метавосприятия ощущений тем не менее указывал на то, в какой мере они лишены чего-то. С точки зрения Крепелина, это что-то было лишь тем внешним, в котором пациент рисковал потерять свое бытие; по мнению внимательных наблюдателей, вырезалось все-таки важное измерение самого бытия – если предположить, что эта концепция имеет смысл. Тогда как хлоралгидрат позволял контролировать взрыв бытия, хлорпромазин делал возможным контроль над его имплозией – взрывом, направленным вовнутрь его самого.
§ 8. Несколько слов в защиту стабильности
Проблема депрессии всегда являлась вопросом онтологии, связанным с диспозицией бытия и тем, насколько эта диспозиция считалась или не считалась желательной в свете правил, норм или идей, происхождение которых оставалось туманным[29]. Таковые имелись и у Крепелина, терзаемого соображениями расовой чистоты; и у сторонников антидепрессантов, следовавших за компаниями Rhône-Poulenc и Smith, Kline & French (или, по крайней мере, они разделяли правила, нормы и идеи тех, с кем себя идентифицировали). Мы всегда имеем дело с концепциями, входящими в резонанс с концепциями эпохи; мы не имеем дела с концепциями, существенно отличающимися от тех, которые можно условно назвать «идеологией» времени. Для Крепелина, как и для сторонников применения хлорпромазина, было ясно, что главное – стабильность: основная забота всякого психиатра – положить конец заблуждениям, неконтролируемым колебаниям возбуждения. Требовалось утвердить необходимость бытия, и эта аффирмация сопровождалась защитой всего, что удерживало бытие в его границах, в двойном смысле замкнутости и постоянства, – то есть защитой всего, что мешало бытию разлететься во все стороны. Вопреки тому, что мы могли успеть подумать, утверждение необходимости бытия вовсе не было нейтральным тезисом – оно даже напоминало одно из древнейших призваний мета физики, а именно поддержание порядка в сущностях. Рассматривать бытие как категорию, стабильность которой может дать гарантии против внутренних и внешних сил, способных разрушить индивида, означало приписывать пациентам значительный горизонт нормальности. Вам надлежало быть – то есть отказать себе в потворстве смутным, зыбким, рассеянным состояниям (характерным для многих психических заболеваний), которые, возможно, что-то давали пациентам, несмотря на всю их странность и мимолетность. Вам надлежало обустроиться в бытии, чтобы также обустроиться во всем, что на нем держалось, – в первую очередь в том огромном фрагментарном теле, потенциальная нестабильность которого является источником стольких страхов даже среди сильных духом и которое зарождающаяся наука называла «обществом». Бытие было не только ключом к индивидуальному здоровью; оно также давало возможность защитить само социальное тело от дефектов, поражающих его членов.
- Истинная жизнь
- Исчезающая теория. Книга о ключевых фигурах континентальной философии
- Наркокапитализм. Жизнь в эпоху анестезии
- Система вещей
- Монструозность Христа
- К критике политической экономии знака
- Объясняя постмодернизм
- Постанархизм
- Современный нигилизм. Хроника
- Девять работ
- Постнеклассическое единство мира