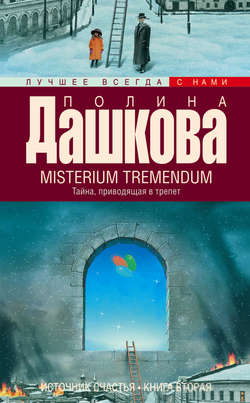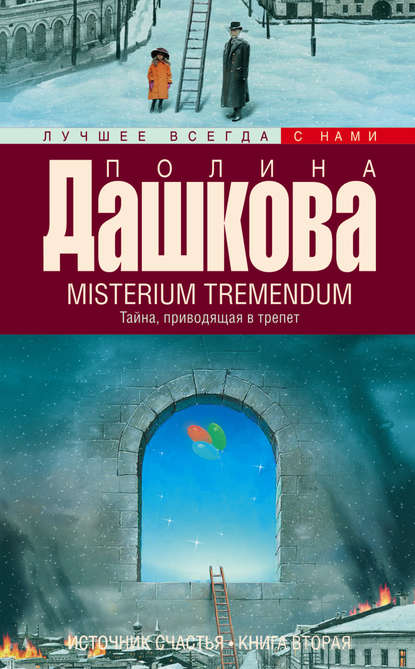© П. В. Дашкова
© ООО «Издательство АСТ», 2015
* * *
«Люди спасаются только слабостью своих способностей – слабостью воображения, внимания, мысли, иначе нельзя было бы жить».
И. А. Бунин «Окаянные дни»
Глава первая
Москва, 1918
Дождь лил несколько суток, оплакивал разграбленный, одичавший город. Под утро небо расчистилось, показались звезды. Холодная луна осветила пустынные улицы, площади, переулки, проходные дворы, разбитые особняки, громады многоэтажных зданий, купола храмов, зубчатые кремлевские стены. Проснулись куранты на Спасской башне, пробили двенадцать раз, то ли полночь, то ли полдень, хотя на самом деле было три часа утра.
Большевистское правительство поселилось в Кремле еще в марте. Кремль, древняя неприступная крепость, остров, отделенный от города глубокими рвами, мутной речной водой, был надежней дворцов Петрограда. Кремлевский слесарь, мастер на все руки, упорно пытался починить старинный часовой механизм, разбитый снарядом во время боев в ноябре 1917. Куранты плохо слушались, вроде бы начинали идти, но опять вставали и никак не желали играть «Интернационал» вместо «Коль славен наш Господь в Сионе». Откашлявшись, как будто извинившись, они прохрипели какую-то невнятную мелодию и затихли.
Новая власть хотела командовать не только людьми, но и временем. Полночь наступала ранним вечером, утро – глубокой ночью.
Почти перестали ходить трамваи. Фонари не горели, темны были улицы, темны окна, лишь иногда дрожал за мутным немытым стеклом желтый огонек керосинки. И если в каком-нибудь доме вспыхивало среди ночи электричество, это означало, что в квартирах идут обыски.
Парадный подъезд дома на Второй Тверской был заколочен. Жильцы пользовались черным ходом. По заплеванным щербатым ступеням волокли вверх санки с гнилой картошкой. На площадках между этажами ночевали какие-то личности в тряпье. Из квартир неслись звуки гармошки, визг, матерный рев, пьяный смех, похожий на собачий лай.
После суточного дежурства в госпитале Михаил Владимирович Свешников спал у себя в кабинете, на диване, одетый, в залатанных брюках и вязаной фуфайке. Ночь была теплая, но профессор мерз во сне, он сильно похудел и ослаб, у него сводило живот от голода. В последнее время ему перестали сниться сны. Он просто проваливался в глухую черноту. Это было не так уж плохо, ибо раньше каждую ночь снилась ушедшая, нормальная жизнь. Происходила коварная подмена, возникало искушение принять сон за реальность, а от реальности отмахнуться как от случайного ночного кошмара. Многие так и делали. То есть добровольно, целенаправленно, день за днем, ночь за ночью сводили себя с ума. Но не дай Бог. Следовало жить, работать, спасать, когда вокруг убивают, беречь двух своих детей, Таню и Андрюшу, маленького внука Мишу, старушку няню и ждать, что страшное время когда-нибудь кончится.
Михаил Владимирович работал рядовым хирургом все в том же лазарете, только теперь он носил имя не Святого Пантелиимона, а товарища Троцкого и был уже не военным госпиталем, а обычной городской больницей, подчиненной Комиссариату здравоохранения.
Сутки на ногах. Обходы, осмотры, консультации, сложнейшая операция на сердце, которая длилась четыре с половиной часа и вроде бы прошла успешно. При острой нехватке лекарств, хирургических инструментов, опытных фельдшеров и сестер, в грязи и мерзости спасенная жизнь казалась невозможным чудом, счастьем, хотя стоила совсем немного, всего лишь фунт ржаной муки. Красноармеец на базаре ткнул штыком в спину мальчишку-беспризорника. Десятилетний ребенок попытался стащить у него кулек с мукой. Давно уж никого не удивляла такая страшная дешевизна человеческой, детской жизни. Люди умирали сотнями тысяч по всей России.
Михаил Владимирович спал так крепко, что шум и крики за стеной не сразу его разбудили. Он проснулся, когда прозвучали выстрелы.
Светало. На пороге кабинета стояла Таня, держала на руках сонного хмурого Мишу.
– Папа, доброе утро. Лежи, не вставай. Возьми Мишу. У тебя, кажется, было берлинское издание «Психиатрии» Блюера. – Она закрыла дверь, повернула ключ в замке.
– Да. Посмотри в шкафу, где-то на нижних полках.
– Контра! Генеральская рожа! Убью! – донесся вопль из коридора.
– Папа, чернил у тебя случайно не осталось? – спокойно спросила Таня. – Мои все кончились. Надо писать курсовую по клинической психиатрии, а нечем.
– Пиши чернильным карандашом. Возьми там, на столе, в стакане.
За дверью опять грохнули выстрелы. Мишенька вздрогнул, уткнулся лицом деду в грудь и тихо, жалобно заплакал.
– Буржуи! Ненавижу! Довольно попили народной крови! Вычеркиваю! Всех вас, белую кость, к стенке! Кончилось ваше время! Всех вычеркиваю!
– Что там происходит? – спросил Михаил Владимирович, прижимая к себе внука.
– Как будто ты не понимаешь. Комиссар беснуется, – объяснила Таня.
Комиссара по фамилии Шевцов поселили в квартире Михаила Владимировича месяц назад, в порядке уплотнения. Он вместе с гражданской женой, которую звали товарищ Евгения, занял гостиную. Комиссар ходил в длинном кожаном пальто, в казачьих галифе василькового цвета, в лаковых остроносых сапогах. Его обритый череп имел странную, зауженную кверху форму. Щеки и нижняя часть лица были пухлыми, круглыми. Он щурил маленькие тусклые глазки, как будто целился в собеседника из револьвера. По будням вел себя тихо. Рано утром отправлялся на службу. Возвращался поздно вечером, молча, мрачно слонялся по коридору в кальсонах и просаленной матросской тельняшке.
Товарищ Евгения, юная, елейно нежная блондинка, нигде не служила, вставала поздно, заводила граммофон, щеголяла в шелковых пеньюарах, отделанных перьями и пухом. Утром варила на примусе настоящий кофе. Пила из тонкой фарфоровой чашки, жеманно оттопырив мизинец. Долго сидела в кухне, качала голой ногой, курила ароматную папироску в длинном мундштуке, читала одну и ту же книжку, «Капризы страсти», Г. Немиловой. Круглые голубые глаза, блестящие, словно покрытые свежей глазурью, ласково смотрели на Андрюшу, на Михаила Владимировича. Товарищ Евгения задумчиво улыбалась, трепетала подведенными веками, случайно оголяла небольшую грушевидную грудь и тут же с лукавой улыбкой прикрывала: «Ах, пардон».
Андрюше было четырнадцать, Михаилу Владимировичу пятьдесят пять. Из представителей мужского пола, проживающих в квартире, только десятимесячный Миша не удостаивался внимания товарища Евгении.
С Таней в первые дни она пробовала подружиться. Рассказывала, какие видела изумительные вещички на Кузнецком, платьица креп-жоржет, кофточки вязаные. Короткий рукавчик, воротник апаш, шелковый ирис, цвет сырого желтка, давленой клюквы, и с той же воркующей интонацией вдруг спрашивала, не собирается ли профессор Свешников удрать в Париж, хорош ли был Танин муж, белый полковник, в половом отношении.
В первую неделю все казалось не так страшно. Семья профессора отнеслась к подселенцам как к неизбежному, но терпимому злу. Уплотняли всех, подселяли и по пять, и по десять человек, уголовников, наркоманов, сумасшедших, кого угодно. А тут всего лишь двое. Комиссар Шевцов – ответственный работник, товарищ Евгения – эфемерное, безобидное создание.
Однажды в воскресенье ответственный работник напился и стал буянить. Вызвали милиционера, но комиссар чудесным образом протрезвел, показал какие-то мандаты, пошептался с милиционером, и тот удалился, вежливо заметив профессору, что нехорошо беспокоить служителей порядка по таким пустякам.
– У моего Шевцова голос громкий, командный, соответственно должности, – объяснила товарищ Евгения, – он человек прогрессивный, пролетарского самосознания и никаких мещанских скандалов органически терпеть не может.
Впрочем, пил комиссар не чаще раза в неделю, только в выходной, и успокаивался довольно скоро.
– Где Андрюша? Где няня? – спросил Михаил Владимирович.
– Не волнуйся. Они на кухне, дверь успели запереть. – Присев на корточки, Таня спокойно просматривала корешки книг на нижних полках.
– Раньше он не стрелял в квартире, – заметил Михаил Владимирович.
– А теперь стреляет. Но это еще полбеды, папа. Я не хотела тебе говорить, но пару дней назад товарищ Евгения предлагала Андрюше кокаин. Вот, нашла. – Таня вытащила книгу, села за стол.
– Он тебе рассказал? – спросил Михаил Владимирович.
– Нет. Я случайно услышала их разговор. И знаешь, мне показалось, если бы я не зашла в кухню, не увела бы Андрюшу, он бы согласился попробовать, просто из любопытства и детского куража.
Топот, грохот, мат звучали совсем близко, в коридоре. К ним прибавился женский смех.
– Шевцов, ты ведешь себя гадко, перестань скандалить, я этого мещанства органически не выношу. – Голос у товарища Евгении был низкий, томный. Она заливалась хохотом, спектакль явно ей нравился.
– Ну, что касается кокаина, так не они его придумали, – сказал Михаил Владимирович и почесал переносицу. – Андрюша разумный человек. Вряд ли он бы стал пробовать. Тебе показалось. Я поговорю с ним.
– Поговори, – кивнула Таня, глядя в раскрытую книгу, – но дело не только в кокаине. Папа, ты должен наконец решиться.
– На что, Танечка? Ты же знаешь, они меня не выпустят.
– Не выпустят, – прошептала Таня, – не выпустят. Стало быть, надо искать другие варианты. Допустим, ты согласишься сотрудничать с ними, войдешь в доверие, они отправят тебя в командировку за границу. Многие так делают.
– Да, Танечка, возможно, отправят. Тем более тут останутся заложники. Ты, Миша, Андрюша, няня. Куда же я денусь? Вернусь как миленький. Впрочем, если я стану сотрудничать, наша жизнь, безусловно, изменится. Они отселят этих, позволят нам занять всю квартиру, как прежде. Дадут хороший паек. Прекратят ночные спектакли с обысками. Тебе не придется работать в госпитале, ты сможешь спокойно закончить университет. Андрюша перейдет в нормальную школу, где будут учить, а не опролетаривать.
– Папа, таких школ больше нет. Ты же знаешь, школа теперь не учебное заведение, а инструмент коммунистического воспитания. И обыски не прекратятся. У меня муж белый полковник, служит у Деникина.
– Убью! Контра! Гадина белогвардейская! Пролетариям жрать нечего, он крыс зерном кормит! Убью! – не унимался комиссар за стеной.
– Возьми Мишеньку. Посмотри, кажется, он мокрый. Не волнуйся. Запри за мной. – Михаил Владимирович встал и быстро вышел, плотно затворив дверь.
Выстрелы звучали из лаборатории. Комиссар палил по стеклянным ящикам с крысами, обстреливал шкафы. От звона, грохота, крысиного писка закладывало уши. Товарищ Евгения стояла рядом, в распахнутом японском кимоно с драконами, и весело, звонко смеялась.
Шевцов был замечательным стрелком. Он сразу попадал по движущимся мишеням, по мечущимся подопытным зверькам. За шумом ни он, ни его подруга не расслышали, как подошел сзади в мягких старых валенках профессор.
Михаил Владимирович схватил комиссара за запястье правой руки, в которой зажат был револьвер, и успел удивиться, что от Шевцова совсем не пахнет спиртным. Комиссар легко освободил руку, не выронив револьвера. Дуло тут же наметило новую, удобную и близкую цель, профессорский лоб. Товарищ Евгения взвизгнула и отскочила, вжалась в стену.
«Он вовсе не пьян, – подумал профессор. – У него отличные реакции, нечеловеческая сила, его движения точны и безошибочны. Он машина для убийства. Параноидная психопатия. Что-то вроде повальной эпидемии. Сейчас пальнет. Господи, прими мою грешную душу, спаси и помилуй моих детей».
Из кучи осколков на полу вдруг взметнулся белый комок. Большая крыса подпрыгнула, вцепилась острыми коготками в комиссарские кальсоны, стала быстро, ловко карабкаться вверх. Шевцов дернулся, отшвырнул зверька и тут же, на лету, подстрелил.
Все это продолжалось не более минуты. Следующий выстрел предназначался профессору. Раздался щелчок. Комиссар сник, сгорбился, со спокойной досадой прокрутил пустой барабан, вяло выругался.
Повисла тишина. Стало слышно, что опять накрапывает за окном мелкий дождь. В коридоре у двери стояли Таня с Мишенькой на руках, старая няня. Товарищ Евгения сидела в углу на корточках, закрыв лицо руками. Плечи ее вздрагивали. Нельзя было понять, рыдает она или все так же истерически смеется.
Первым опомнился Михаил Владимирович. Оглядевшись, он спросил:
– Где Андрюша?
– Побежал за милицией, – ответила Таня.
Шевцов, ни на кого не глядя, прошел по коридору. Следом, всхлипывая, теряя шлепанцы, поплелась товарищ Евгения. Хлопнула дверь гостиной. Няня взяла Мишеньку и унесла его к себе. Михаил Владимирович поднял с пола белый окровавленный комок, убитую крысу.
– Неужели Григорий Третий? – спросила Таня.
– Он. Рука не поднимается просто выбросить. Может, похороним его, как героя? Ты знаешь, он спас меня, последняя пуля из комиссарского револьвера предназначалась мне.
Таня обняла отца, вжалась лицом в его плечо.
– Папочка, мы уедем, мы сбежим, я не могу больше.
– Тихо, тихо, Танечка, перестань. Я жив, радоваться надо, а ты плачешь.
– Григория жалко, я к нему привыкла. – Таня улыбнулась сквозь слезы. – Старый мудрый крыс, прожил почти три крысиных века.
– И погиб, защитив меня от комиссарской пули.
– Мы положим его в шляпную коробку, зароем во дворе.
Минут через двадцать явились два милиционера. Долго составляли протокол, потом о чем-то беседовали с Шевцовым в гостиной, за закрытой дверью.
– Вы что, не арестуете его? – спросил Андрюша, когда они вышли.
– Истребление крыс уголовным преступлением не является. Наоборот, это дело полезное в санитарном и общественном отношении. Оружие товарищу комиссару разрешено, согласно должности. И мандат имеется. А что касаемо учиненного беспорядка, так товарищ комиссар готов штраф уплатить, как положено.
– Это лабораторные крысы, – сказала Таня.
– Тут, гражданка, полезная жилплощадь, а не лаборатория, – ответил милиционер.
– Он не только по крысам стрелял, но и в меня тоже хотел, – сказал Михаил Владимирович.
– Коли хотел, так и пристрелил бы, – резонно заметил милиционер.
– Конечно, пристрелил бы. Но у него патроны в барабане кончились.
– Кончились, не кончились, а вы, гражданин, вполне живы, никаких ранений у вас не наблюдается.
– Но позвольте! Он психически болен, он опасен, – возмутилась Таня.
– А вот кто тут опасен, это надо разобраться, гражданка Данилова, – произнес мелодичный низкий голос.
Товарищ Евгения стояла в коридоре и смотрела на Таню блестящими глазами.
Милиционеры ушли. Товарищ Евгения скрылась в гостиной. Таня, Михаил Владимирович и Андрюша молча выметали осколки и крысиные тушки, приводили в порядок лабораторию. Няня в кухне стряпала скудный завтрак. Несколько ведер с мусором вынесли во двор, на свалку. Григория Третьего похоронили внутри оградки, там, где прежде была клумба и росли анютины глазки. Дождь кончился. Клочья облаков мчались по небу. Таня стояла над холмиком, влажный холодный ветер трепал ей волосы.
– Ничего не осталось? – тихо спросила она отца, когда вернулись в квартиру, сели за стол.
Михаил Владимирович молча помотал головой.
– Папа, так невозможно! – вдруг крикнул Андрюша. – Должна быть какая-то управа на этих скотов! Так не бывает, папа!
– Не кричи, – Михаил Владимирович погладил его по голове. – Бывает по-всякому, Андрюша, и ты уже достаточно взрослый, чтобы это понимать.
– Но мы не можем, как кролики, терпеть!
– Успокойся, ешь, остынет. – Таня подвинула ему тарелку с ячменной кашей.
Няня заваривала желудевый кофе, просыпала из кулька на пол.
– Ой, я бестолковая, да что ж это, руки мои старые, дырявые!
Она заплакала. Все утро мужественно держалась, а из-за паршивого кофейного заменителя – слезы. Михаил Владимирович принялся ее утешать и вдруг застыл, замолчал на полуслове. В руках у него был мятый лист толстой цветной бумаги. Кулек из-под кофе оказался репродукцией, выдранной из какого-то дорогого альбома. Профессор шагнул к окну, ближе к свету, несколько минут разглядывал репродукцию странной незнакомой картины. Казалось, он забыл обо всем на свете. Губы его едва заметно шевелились, глаза сияли.
– Папа, ты что? – спросила Таня слегка испуганно.
– Альфред Плут, – пробормотал Михаил Владимирович, – Германия, шестнадцатый век. Микроскоп был изобретен только через сто лет. Как он мог увидеть?
* * *
Германия, поезд Гамбург – Мюнхен, 2007
Поезд нырнул в туннель. Свет в вагоне вспыхнул не сразу. Именно этого мгновенного мрака Соне хватило, чтобы понять наконец, кого так мучительно напоминает ей мужчина напротив.
Незнакомец резко выделялся на фоне пассажиров первого класса. Ему было на вид лет пятьдесят. Он жевал жвачку. В его наушниках пульсировал тяжелый рок. Он выглядел как бездомный бродяга, нелепо молодящийся старый хиппи. Ископаемое, живущее в консервной банке среди отбросов. Впрочем, пахло от него вполне сносно, дорогим одеколоном. Длинные, жидкие, с заметной проседью волосы были чистыми, ногти ухоженными, на запястье вовсе не дешевые часы.
«Рок-музыкант или художник-авангардист. Это у него стиль такой», – подумала Соня и отвернулась.
Рядом с ней два аккуратных клерка оживленно болтали о какой-то новой диете, о страховках и автомобильных двигателях. Они сели в Гамбурге, достали свои ноутбуки, включили, но так и не взглянули на экраны. Соню слегка раздражала их болтовня, громкий смех. У нее на коленях лежал раскрытый каталог старой мюнхенской Пинакотеки. Она пыталась сосредоточиться на биографии немецкого художника Альфреда Плута. Он жил в шестнадцатом веке, оставил не более дюжины полотен. Самая известная его работа – «Misterium tremendum». Именно ради этой картины, ради «тайны, повергающей в трепет», Соня ехала в Мюнхен.
Дед не хотел ее отпускать. Вот уж третью неделю она жила в его доме в маленьком тишайшем Зюльте. Каждое утро ее будила музыка из его кабинета, звон посуды, ворчание экономки Герды, шум моря, гул самолетов. После завтрака дед провожал ее на работу, целовал в лоб и быстро крестил, почему-то лицо его при этом всегда делалось сердитым. Вечером он ждал ее, сидя в шезлонге, на границе пляжа, неподалеку от белого трехэтажного здания с плоской крышей, филиала немецкой фармацевтической фирмы «Генцлер». Пройдя полсотни метров по холодному чистому песку, Соня различала в сумерках яркую спортивную шапку с помпонами. Издали, особенно в профиль, дед был так похож на папу, что у Сони всякий раз вздрагивало сердце, першило в горле.
Туннель кончился. В глаза брызнуло ледяное солнце. Соня отвернулась от окна и встретила хмурый взгляд незнакомца. У него были тяжелые выпуклые скулы, квадратная челюсть, широкий тонкогубый рот. Плоский, скошенный назад лоб плавно переходил в залысины. Лохматые брови цвета мешковины расположены так низко, что казалось, отдельные толстые и длинные волоски царапают глазные яблоки. Нога, обутая в изношенный ботинок сорок пятого размера, дергалась в такт музыке.
Соня опять уткнулась в каталог. Автопортрет Альфреда Плута занимал целую страницу. Художник изобразил себя с беспощадной фотографической точностью, тщательно прорисовал каждую черточку и даже волоски бровей, падающие на глаза.
«Альфред Плут родился в 1547 году в Гамбурге, в семье аптекаря».
Соня в десятый раз начинала читать краткую биографию художника и не могла осилить нескольких простых абзацев. Ее немецкий был в полном порядке. Она понимала каждое слово. Но слишком оживленно болтали клерки, слишком громко пульсировал тяжелый рок из наушников визави, который был похож на Альфреда Плута как брат-близнец.
«Портрет не фотография, – думала Соня, – тем более автопортрет. Люди видят себя и других совершенно по-разному. Даже фотографии врут. Свет, тень, ракурс, все так случайно, так недостоверно».
Она взглянула на человека в наушниках, надеясь, что иллюзия фантастического сходства наконец развеется. Человеческих типов не так уж много. Плут был немец. Почему этот стареющий потребитель жвачки и тяжелого рока не может быть его далеким потомком?
«Ведь ты же точно знаешь, что это не Альфред Плут? – спросила себя Соня и почувствовала, как губы ее сами собой вздрогнули в дикой усмешке. – Ты разумный, образованный человек, кандидат биологических наук. Вряд ли ты успела свихнуться. Хотя, конечно, было от чего».
Три дня назад, поздним вечером, с одной из подопытных крыс случилось нечто невероятное. Зверек заметался по клетке, стал прыгать, высоко, как дикая белка, и вдруг вылетел наружу, шлепнулся на кафельный пол, вскочил, побежал, пустое тихое здание наполнилось пронзительным, мучительным писком.
Все ушли, Соня осталась одна в лаборатории. Минут десять она гонялась за зверьком, наконец поймала, запеленала в полотенце, положила в лоток. Пока она надевала халат, натягивала перчатки, несчастная крыса продолжала беситься, биться всем телом о стеклянные стенки. Чтобы не слышать страшного стука и писка, Соня включила музыку. Крыса на минуту успокоилась и вдруг задергалась в конвульсиях.
Если бы кто-то заглянул тем вечером в лабораторию, то поразился бы спокойствию Сони, четкости и продуманности каждого ее действия. Одна, без ассистента, она дала бьющемуся в смертельном танце зверьку наркоз, ловко вскрыла черепную коробку, извлекла из центра мозга крошечную шишковидную железу, включила и настроила электронный микроскоп.
На самом деле она жутко нервничала. «Болеро» Равеля, звучавшее из стереосистемы, заводило ее еще больше. Ей сотни раз приходилось проделывать разные манипуляции с подопытными животными, для постороннего человека неприятные, жутковатые, но ведь она занималась наукой, и для нее все это давно стало привычкой, рутиной. Однако тем вечером в лаборатории, на берегу ледяного моря, которое гудело и билось во мраке за окном, у Сони вдруг возникло новое, острое чувство. Ей показалось, что это вовсе не научный эксперимент, а древний ритуал и она, Лукьянова Софья Дмитриевна, выступает в роли жрицы, колдуньи, алхимика, занимается непонятной и опасной чертовщиной. Ничего хорошего из этого не выйдет. Но остановиться уже невозможно.
Она выпила залпом стакан воды, закурила, села за стол у монитора. И вот тут увидела самое главное: как оживают таинственные твари, проспавшие в своих капсулах-цистах почти девяносто лет.
Сначала ей показалось, что кто-то из коллег немцев пошутил, загнал в ее компьютер некую хитрую программу, игру или мультик-ужастик. Но нет, изображение проецировалось на монитор прямо от микроскопа. Все происходило на самом деле. Рядом, на столе, лежали распечатки записей Михаила Владимировича Свешникова и каталог старой мюнхенской Пинакотеки, раскрытый на репродукции «Misterium tremendum».
Имя художника и название картины несколько раз упоминались на страницах старой толстой тетради в лиловом замшевом переплете. Через Интернет Соня узнала, что картина хранится в мюнхенской Пинакотеке, купила каталог в книжном магазине фрау Барбары и нашла отличную репродукцию.
Военный хирург, профессор Свешников, вел свои записи с января 1916-го по март 1919-го. Это был дневник научных наблюдений. Описание экспериментальных операций по пересадке крысиных эпифизов, неожиданный эффект омоложения, возникший у некоторых подопытных животных, и осторожное предположение, что эффект этот связан с воздействием на весь организм неизвестного мозгового паразита, который случайно оказался в шишковидной железе крысы-донора.
Скоро профессор понял, что сложная операция на мозге не нужна. При внутривенном вливании паразит сам находит путь по кровотоку к нужному органу, к эпифизу.
Это могло бы стать величайшим открытием века, если бы удалось понять механизм воздействия мозгового червя и проследить закономерность положительного эффекта. Почему одних зверьков паразит омолаживал, а других убивал? Что за вещества выделял он и как умудрялся полностью перестроить работу всех систем организма?
Но Михаил Владимирович Свешников как будто даже и не пытался найти ответ, воспринимал удивительные результаты опытов отстраненно, почти равнодушно. Все, что касалось практической, медицинской стороны дела, было описано сухо, четко. Профессор только констатировал факты.
Иногда встречались цитаты, то с именем источника, то анонимные. Возможно, именно через них профессор пытался выразить нечто важное, они были частью его зашифрованного личного дневника.
«Субстанция зла имеет свою собственную безобразную и бесформенную массу, либо плотную, которую называют землей, либо слабую и разреженную, подобно воздуху».
«Посему научись, о Душа, обращать сопереживающую любовь к своему собственному телу, сдерживая его суетные желания, дабы оно могло во всех отношениях отвечать своему назначению вместе с тобой».
«Ибо тогда последний враг – смерть будет побеждена, и вся слабость плоти, заставлявшая нас сопротивляться, исчезнет полностью».
Бл. Августин.
«Язычество и безбожие страшно именно этой вечной иллюзией торга, соблазном кинуть в пасть смерти жертву, вместо своей – чужую жизнь, и откупиться. По крайней мере, двадцать восемь веков, до Христа, было именно так. После Него могло стать по-другому, Он дал шанс, однако вот уж двадцать веков не получается. Торг очень уж удобен».
«Наука может шагнуть невероятно далеко, но почему-то не вверх, к Богу, а всегда наоборот, вниз. Она берет на себя воспитательные и утешительные функции, придумывает ясные и доступные формулировки, прикрывает пугающую непознаваемую бесконечность матовым стеклом. Получается нечто вроде интеллектуальной теплицы. Мы все нежные тепличные растения, под открытым небом погибнем».
Попадались непонятные аббревиатуры, отдельные буквы, без всякой видимой связи с текстом – В. Ш., К., Ж. С.
Судя по записям, за пределы опытов с крысами работа не продвинулась. Несколько листов были вырваны. В марте 1919 профессор крупно, неверной рукой, записал:
«Идеальное есть материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней». К. Маркс. Нечто вроде трансплантации, что ли? Оригинально мыслит этот господин».
Тетрадь закончилась. Дальше начинались мифы. Их бродило множество, и вряд ли стоило принимать их всерьез.
Существовала легенда, будто одно вливание было сделано мальчику-сироте, страдавшему прогерией, редчайшим заболеванием, при котором ребенок стремительно стареет и погибает в одиннадцать – тринадцать лет от старческих болезней. Откуда берется прогерия и как ее лечить, неизвестно до сих пор. Свешников якобы решился на вливание, когда надежды не осталось. Мальчика звали Ося. Он выжил и вернулся к своему нормальному биологическому возрасту. Что с ним стало потом, куда он делся, не знал никто. В лиловой тетради об Осе не было написано ни слова, и это только подтверждало, что история чудесного излечения прогерии – всего лишь газетная утка.
Впрочем, не исключено, что Свешников нарочно утаил правду о мальчике, чтобы дальнейшая жизнь ребенка не превратилась в кошмар, чтобы не пришлось Осе оказаться в роли живого наглядного пособия.
Михаил Владимирович не упоминал никого, кто был с ним рядом. Даже имя его ассистента, доктора Агапкина, ни разу не мелькнуло в записях. Казалось, профессор писал с оглядкой, как будто чувствовал, что люди, так или иначе причастные к его опытам, к тайне, которую он нащупал, попадают в зону риска.
Мог ли предположить профессор, что через девяносто лет лиловая тетрадь вместе с цистами паразита окажется в руках его родной праправнучки, кандидата биологических наук Лукьяновой Софьи Дмитриевны?
Соня сидела и смотрела на монитор. Лопались цисты. Медленно выползали белесые твари. У них были округлые крупные головы. Приплюснутая передняя часть отчетливо напоминала лицо, вернее безобразную безносую маску. Две глубокие темные ямки – глаза. Горизонтальный подвижный нарост – губы.
Девяносто лет назад Михаил Владимирович наблюдал такой же ритуальный танец оживших тварей, балет «спящих красавиц». Они плавно извивались, вставали вертикально на хвосты, сплетались, расплетались. Он подробно описал это в своей тетради.
У него не было компьютера и такого мощного электронного микроскопа, как у его праправнучки. Он не мог видеть, что ямы-глаза смотрят, губы жуют, растягиваются в чудовищной медленной улыбке, твари не только танцуют, но еще и гримасничают.
На картине немецкого художника Альфреда Плута «Misterium tremendum» на переднем плане, на фоне какого-то условного грота, была изображена человеческая голова. Верхняя половина черепа представляла собой прозрачный, как бы стеклянный купол, и там, внутри, происходил тот же процесс. Твари были изображены так же подробно, как видела их Соня на своем мониторе. Картина была написана в 1573 году, за сто лет до изобретения микроскопа.
Альфред Плут не стал великим художником, хотя знатоки до сих пор утверждают, что мог бы. По уровню мастерства его сравнивают с Дюрером, а по загадочности сюжетов – с Босхом. Живопись была для него лишь забавой. Он много странствовал по Европе и по Азии, бывал в Египте, каким-то ветром его однажды занесло в Россию. В одном из персонажей его полотен угадывался царь Иван Грозный. Известно, что около года Плут прожил в Москве, служил придворным лекарем, а заодно давал сумасшедшему царю уроки черной и белой магии.
Плут имел неплохую медицинскую практику, написал несколько трудов по анатомии мозга, работал над созданием анатомического атласа. Но главной его страстью была алхимия. Он не имел ни жены, ни детей, жил скромно, однако тратил большие деньги на путешествия и на взятки чиновникам Святой инквизиции. По всей Германии ходили слухи о золоте Плута. Умер он в ноябре 1600 года у себя дома, в Гамбурге, в возрасте пятидесяти трех лет, не оставив наследников. Золотых монет, обнаруженных в его кошельке, как раз хватило на приличные похороны. Грабители вскрыли могилу, искали золото, но не нашли ничего. Вместо тела художника в гробу лежало бревно, одетое в его платье.
«Скажите, господин Плут, каким образом вам удалось разглядеть и нарисовать микроскопических мозговых паразитов за сто лет до появления микроскопа?»
Вопрос щекотал Соне губы, она, кажется, даже пробормотала его вслух, по-русски. В плеере у старого хиппи в этот момент как раз затихла музыка. Он хмуро взглянул на Соню, встал и вышел из купе.
- Источник счастья
- Misterium Tremendum. Тайна, приводящая в трепет
- Небо над бездной
- Кровь нерожденных
- Легкие шаги безумия
- Вечная ночь
- Misterium Tremendum. Тайна, приводящая в трепет
- Чувство реальности