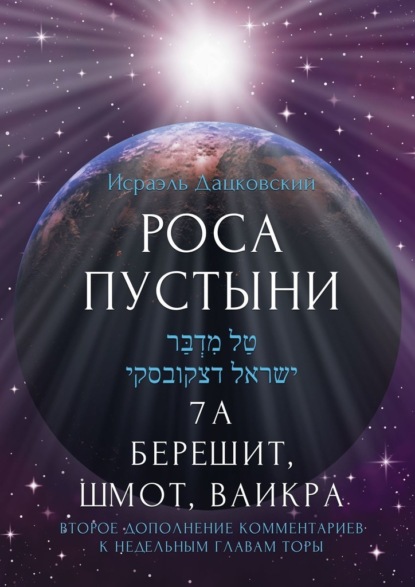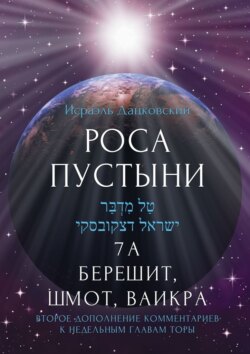
000
ОтложитьЧитал
В том же трактате (Санhедрин, 46) детально обсуждается вопрос, почему не проводится вскрытия каждой жертвы убийства (не для выяснения соотношения времени смерти и времени предполагаемого убийства). Ведь если бы удалось выяснить, что погибший страдал смертельным недугом, убийце, быть может, не вынесли бы смертного приговора (еврейский суд крайне редко приговаривал преступников к высшей мере наказания).
«Любое вскрытие, – говорит по этому поводу рав Кагана, – не может полностью, со всей достоверностью исключить возможность наличия подобного заболевания, ибо существует вероятность того, что пораженный орган находится как раз в том месте, где скальпель входит в плоть [на самом деле это мало мешает посмертной экспертизе]. Поэтому его результаты нельзя учитывать, решая судьбу убийцы, и вскрытие делается лишь в том случае, если оно способно помочь спасти жизнь другому человеку» (URL: http://www.evrey.com/sitep/ethics/print.php?menu=304, дата обращения 17.01.2020).
В Талмуде имеются еще несколько мест, где обсуждается рассматриваемая нами тема. Гемара говорит в трактате Шаббат 13б: «Плоть мертвеца не чувствует скальпеля. – Разве? А ведь рав Ицхак говорит (Брахот 18б): „Черви досаждают умершему, как игла, вонзающаяся в плоть живого, ибо сказано: „Лишь плоть его на нем, больно ему, и душа его о нем печалится“ (Иов 14:22)!“ – Посему надо понимать так: мертвая плоть живого [человека] не чувствует скальпеля».
Таким образом, мы видим, что Талмуд НЕ настаивает однозначно на запрете посмертного вскрытия и на самом деле требует только уважительного отношения к мертвому, лишь устанавливает запрет позорить его тело в обществе (а не в закрытых операционных, где работают специалисты с целью в дальнейшем спасти живых) и считает, что для мертвого тела скальпель куда менее проблематичен, чем могильные черви, которые оказываются неизбежными при захоронении небальзамированного трупа хоть после посмертного вскрытия, хоть без него.
2.3. Постталмудический период
«Наши Учителя выдвигают требование, – пишет великий Учитель XII века РАМБАМ в составленном им кодексе еврейских законов Мишне Тора́ (раздел „Законы траура“ Книги Судей, 14:21). – Запрещено использовать что-либо, относящееся к мертвому телу». Таким образом, в случае, когда производится вскрытие, все органы и телесные жидкости должны быть преданы земле. Немедленно, сразу же после окончания процедуры, и все части тела и жидкости должны быть похоронены вместе с телом. То есть РАМБАМ не запрещает, но вполне принимает возможность и законность вскрытий (он был врачом, как и многие великие законоучителя Средних веков – РАМБАН, Сфорно, РАЛЬБАГ, Авраам Ибн-Эзра, не считая огромного количества безвестных еврейских врачей, – а потому ему было хорошо понятны и значение изучения анатомии на трупах, и значение посмертной диагностики для успешного лечения следующих больных), указывая лишь на необходимое захоронение всех компонентов тела после вскрытия. Единственная проблема здесь – изготовление демонстрационных препаратов и хранение органов для дальнейшей демонстрации студентам. При некотором желании в этой фразе РАМБАМа можно усмотреть запрет на трансплантацию органов от донора (именно трупа. Сегодня существуют пересадки, например почки, от живого донора) реципиенту (живому человеку), но идея возможности пересадок органов как от трупа, так и тем более от живого донора во времена РАМБАМа не возникала даже в сколь угодно широких фантазиях.
Непохороненные, а то и разбросанные (например, взрывом в теракте) и не собранные самым тщательным образом части тела – явное неуважение к умершему, а именно об уважительном отношении к телу многократно говорили еврейские мудрецы. В современной действительности данное требование реализуется на практике, к примеру, добровольцами, работающими в «Хевра́ Кади́ша» (организация при еврейской общине, осуществляющая церемонию погребения) и в организации «ЗА́КА» (добровольная организация, члены которой немедленно приезжают на место теракта и тщательно исследуют территорию, где произошел взрыв, собирая мельчайшие фрагменты тел и кровь жертв – для их погребения).
РАШБА (Рабби Шломо бен Адерет; 1235, Барселона, – 1310) в своих «Ответах» (многие еврейские законоучителя писали серьезные алахические (законодательные) книги под одним и тем же названием «Вопросы и ответы [о том, как еврейский Закон требует поступать в тех или иных жизненных ситуациях]», различаемые только указанием авторства; на иврите: шеэлёт утшуво́т, сокращенно – шут), часть 1, глава 816, отвечает на вопрос, можно ли положить в тело умершего [в тело – не на тело! Значит, целостность кожных покровов тела так или иначе нарушалась] негашеную известь, чтобы оно быстрее разложилось. Он пишет: «Дозволено всё, что делается с целью ускорить процесс разложения трупа, чтобы перенести и похоронить усопшего там, где он завещал [отметим, что процесс разложения трупа, даже ускоренный негашеной известью, занимает немало времени. Значит, похороны человека на месте его вечного упокоения допускались значительно позже, чем до наступления ночи, ближайшей к моменту смерти. Еще отметим, что в норме в те времена тело временно (на год) клали в погребальную пещеру многоразового использования, после исчезновения мягких тканей кости собирали в маленький ящичек (длина определялась длиной самой длинной кости – бедренной, высота определялась шириной тазовой кости, а ширина – размерами черепа. Общий объем позволял сложить в такой ящичек-гробик все кости и оставшиеся сухожилия. Долгое время археологи, находя такие гробики, думали о детских захоронениях) и хоронили уже в постоянном месте – см. Мишна Моэд Катан 1:5, комментарий рава П. Кеати]. В этом нет проявления неуважения, и это не причиняет покойнику страданий. Мертвая плоть не чувствует скальпеля – тем более негашеной извести. Когда тело бальзамируют, его вообще разрывают и извлекают из него внутренности, и в этом нет ни малейшего неуважения».
Слова РАШБА требуют объяснения. Объяснение приводит РИДБАЗ (раби Яаков-Давид бар Зеев Виловский, 1845—1913). Он пишет в своих «Ответах» (ч. 1, гл. 484): «Разумеется, мертвец не чувствует на самом деле скальпеля. Тогда можно спросить: если так, то и червей он не чувствует, а ведь рабби Ицхак (трактат Брахот 18б Вавилонского Талмуда) сказал: „Черви досаждают умершему, как игла, вонзающаяся в плоть живого“? На это нужно ответить, что так как черви сделаны из той плоти в наказание за его поступки, то их он может ощущать; но более он ничего ощущать не может» (мы и здесь используем данные сайта http://www.daatemet.org.il/articles/article.cfm?article_id=96&LANG=ru, дата обращения 17.01.2020, исключительно для цитирования источников). На это высказывание РИДБАЗа напрашивается объяснение, что речь о чувствительности от червей идет не о теле, а о душе: ведь черви, даже питаясь мертвой плотью (сапрофиты), отнюдь не сделаны из нее (как мы не сделаны из коров, овец и кур, которых мы едим). То, что сделано нами при жизни, – это наши поступки и мысли, именно их мы забираем с собой после смерти и именно по ним судимся там, и нам жгуче стыдно от открытых там на всеобщее обозрение наших дурных дел. Поэтому «червей, из нас сделанных» чувствует душа, а не тело, а тело и скальпеля не чувствует.
Как указано выше, возможность вскрытия трупа в еврейской Традиции ограничивается также заповедью, предписывающей не использовать тело умершего для получения выгоды. Учителя отмечают, что данный запрет выводится из текстов Торы и касается любой выгоды, включая выгоду нематериального характера (развитие заповеди РАМБАМа (Мишнэ Тора, раздел «Законы траура» Книги Судей, 14:21). Поэтому тело умершего можно использовать лишь для спасения жизни другого человека. Однако один из крупнейших исследователей Аалахи (свода еврейских практических законов), главный раввин Иерусалима Цви-Песах Франк (1873, Литва – 1960, Эрец Исраэль) писал, что изучение тела умершего в медицинских целях, даже посредством его вскрытия для получения общего медицинского образования, прямой выгодой не является и под данный запрет не попадает. В частности, он указывал на то, что пассивное наблюдение за процедурой вскрытия (например, со стороны обучающегося студента-медика или врача для повышения его знаний) не может считаться запрещенной «выгодой».
С середины XVIII века, когда вскрытие тела после смерти получило большое распространение в связи с развитием медицины, этот вопрос начинают изучать крупнейшие раввины. Среди них Маарам Шик, рав Яаков Эттленгер, рав Иехезкель Ландау и др. (рав Яаков Шуб. URL: http://toldot.ru/urava/ask/urava_6984.html, дата обращения 17.01.2020).
Однажды к раву Иехезкелю бен Иехуда Ландау (Landau; 1713, Опатув, Польша, – 1793; известный комментатор Талмуда и Шульхан Аруха; родился в Польше, был главным раввином Праги, духовным руководителем еврейских общин Богемии. Как принято в иудаизме, его часто называют Нода́ биЙеhуда́ по названию его главного труда) обратились за помощью несколько британских врачей. Они оперировали ребенка с «камнями в мочевом пузыре», который впоследствии умер. Рав Ландау получил от лондонского раввина письмо с подробным описанием произошедшего; тот спрашивал, правильно ли он поступил, разрешив вскрытие трупа ребенка для выяснения адекватности диагноза и лечения – с тем, чтобы будущие пациенты этих врачей могли безбоязненно пользоваться их услугами.
Рав Ландау не согласился с решением своего британского коллеги и ответил, что вскрытие разрешается только для того, чтобы спасти жизнь смертельно больному человеку, причем не «абстрактному», а вполне конкретному, о котором известно, что лишь трансплантация (NB! Это сказано во второй половине XVIII века!) способна сохранить ему жизнь. Он также отметил, что вскрытие, обеспечивающее развитие медицинской науки как таковой, еврейским законом запрещается.
Однако и тут есть исключения.
Главный вопрос заключается в том, что́ в современном мире будет считаться «развитием медицины вообще» и какие ситуации мы можем рассматривать как «частные, конкретные случаи».
Самый недвусмысленный ответ на него: эпидемии, подобные массовому заболеванию таинственной болезнью легионеров в Филадельфии в 1976 году, в ходе которых один человек умирает, а другие оказываются на пороге смерти из-за того же самого заболевания.
Если вскрытие способно помочь выявить причину недуга и спасти других больных, оно разрешается.
Если пациент, страдающий тяжким недугом, умирает в процессе лечения новым препаратом или применения экспериментальной методики, проведение вскрытия, цель которого – определить, насколько опасны использованные средства для других пациентов, вполне оправданно.
«Если ребенок умирает от наследственного заболевания, – писал рав Моше Файнштейн (один из крупнейших еврейских законодателей XX века в области соблюдения заповедей Торы; умер в Нью-Йорке в 1986), – вскрытие для выяснения природы болезни возможно, если это поможет спасти жизнь других детей – даже если они еще не появились на свет» (URL: http://www.evrey.com/sitep/ethics/print.php?menu=304, дата обращения 17.01.2020).
Приведем цитату рава Элиэзера Берковича из 4-й главы его упомянутой в начале текста книги (с. 160—161): «В качестве… примера приведем проблему аутопсии [посмертного вскрытия] в Израиле. В довольно яростном споре по этому вопросу те, кто из соображений hалахи выступают против аутопсии, ссылаются на книгу Нода́ биЙеhуда́ великого рава Иехезкеля Ландау из Праги. [Рав Э. Беркович привел углубленное hалахическое обсуждение этого вопроса не здесь, а в своей статье «Галаха об аутопсии», Синай 69: 1—6, 1971, с. 45—66 (на иврите)]. Но совершенно ясно, что Нода́ биЙегуда́ дал свой ответ для еврейских общин диаспоры XVIII века. Ответственность за медицинские исследования и медицинские услуги лежала не на еврейской общине; это была типичная ситуация жизни в изгнании. Решение Нода биЙегуда выносилось не в еврейском государстве XX века, где забота о здравоохранении евреев – дело исключительно евреев. Никто не может сказать, какое решение он принял бы сегодня в Израиле. Поэтому если какой-нибудь знаток Торы найдет достаточные основания разрешить аутопсию в Израиле, это решение НЕ будет противоречить решению почтенного пражского раввина.
Вспомним высказывание Талмуда [трактат Эруви́м]: «И те, и эти – слова Б-га живого», и объяснение РАШИ этого места трактата: «Оба мнения верны, поскольку hалахические доводы меняются с изменением ситуации, даже самым мелким». Конец цитаты рава Элиэзера Берковича.
Таким образом, становится понятным, что запрет на посмертные вскрытия не только не следует из прямого текста Торы (которой нельзя понять без Устной Традиции), но и из самой записанной Устной Традиции и из последующих мнений большого количества законоучителей от РАМБАМа (XII век) до рава Моше Файнштейна (конец XX века).
Тогда на основании чего сегодняшние знатоки Торы продолжают утверждать о запрете вскрытий? По сути, они опираются на отдельные мнения периода до XIV века (при этом игнорируя мнение РАМБАНа и РАШБА). Тут нужно вспомнить, что большая часть еврейского hалахического законотворчества пришлась на мудрецов Европы IX—XIII веков (вершиной законотворчества стал кодекс А́рба Ту́рим – «Четыре столбца», который написал рав Яаков бен Ашер в начале XIV века, на основании которого рав Йосеф Каро в XVI веке составил кодекс «Шульха́н Ару́х» – «Накрытый стол»). Европа в этот период была застойно-христианской (с отдельными всплесками локальных и коротких ренессансов), евреям приходилось стараться не выделяться и не раздражать христианское окружение, в первую очередь христианский клерикальный слой. Поэтому многие ашкеназские законы (hалахо́т), установленные в тот период, несут явный отпечаток приспособления к жизни в христианском окружении (в этом причина того, что ашкеназские hалахо́т периодически сильно отличаются от сефардских, которые создавались примерно в этот же период в ином, мусульманском окружении и потому несли отпечаток приспособления жизни евреев к соответствующему окружению. Кроме этого, слабые связи между еврейскими общинами (в широком понимании – между общиной, жившей в христианском окружении, и общиной, жившей в мусульманском окружении, при том что слабость связей во многом определялась взаимной враждебностью и отсутствием широких контактов между окружениями евреев) создали условия для относительно независимого развития двух ветвей алахического законотворчества). Раввины того периода широко использовали общий принцип, высказанный в Талмуде (трактат Санхедрин 59а): «Нет ничего, что было бы разрешено Израилю и запрещено [окружающим евреев в данной местности] идолопоклонникам» (в качестве примера: христианство исповедует строгую моногамность (одна жена у мужчины), поэтому в Европе бытовало hалахическое установление для евреев о только одной жене у мужчины. При этом в то же время в мусульманской Испании при разрешенном многоженстве у мусульман и евреям не возбранялось иметь больше одной жены). В этот период в христианской Европе (и не только) посмертные вскрытия были полностью запрещены церковью, поэтому для раввинов того периода было совершенно естественно и обоснованно установить закон (алаху) о запрете посмертных вскрытий, объяснив это решение относительно слабыми ссылками на еврейские источники (многие подходы к данной теме взяты нами из академического курса Открытого университета Израиля «Евреи и христиане в Западной Европе в Средние века»). Но если исчезает причина принятия какого-то решения, то должно быть заново взвешено и, возможно, пересмотрено следствие, вытекающее из этой причины, – само принятое решение. А весьма крупные законоучители, как мы видим, отнюдь не запрещали посмертных вскрытий.
2.4. Еврейская современность
Собственно говоря, вопрос об отношении еврейского закона (hалахи) к посмертному вскрытию был не очень актуален для евреев аж до 1947 года. В древности и в Средние века можно было почерпнуть не столь уж много конкретного из данных, полученных при вскрытиях, а евреям приходилось «не высовываться» ни в христианском, ни в мусульманском окружении, которое запрещало посмертные вскрытия. После начала XVIII века, когда вскрытия стали научно-информативными, евреи не имели своих учебных и научных медицинских центров, еврейские врачи учились в нееврейских университетах, там же была сосредоточена медицинская наука, требующая вскрытий, а потому сами вскрытия регулировались нееврейским к ним отношением, и вскрываемые трупы в массе тоже были нееврейскими.
Оставался некоторый аспект посмертной диагностики и тренировки врачей, но хирургия, похожая на современную, начала бурно развиваться ближе к концу XIX века после двух великих открытий – открытия асептики-антисептики, позволившей на порядок снизить количество внутрибольничных инфекционных заражений и тем самым существенно снизить смертность от врачебных вмешательств, и внедрения наркоза (поначалу – хлороформа), позволившего проводить достаточно долгие и тщательные операции. Да и чисто еврейских больниц было весьма немного, так что и эти проблемы не стояли столь остро.
По-настоящему остро этот вопрос вышел на повестку дня при открытии первой чисто еврейской медицинской школы – медицинского факультета Еврейского университета в Иерусалиме при больнице hАда́сса (1947. История женской сионистской организации hАда́сса для оказания медицинской помощи населению Иерусалими началась в 1912). Открытие этого факультета задержалось на 22 года после открытия университета, во многом именно из-за вопроса вскрытия тел евреев, так как основное количество умерших в этой больнице и в Иерусалиме были евреями. В этой связи главный раввин Иерусалима рав Ицхак Герцог обратился с вопросом по поводу допустимости патологоанатомического исследования еврейского трупа в израильских больницах к одному из крупнейших специалистов по алахе того поколения раву Иехиэлю Яакову Вайнбергу. В ответе (URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Вайнберг,_Иехиэль_Яаков, дата обращения 17.01.2020) рав И. Я. Вайнберг (1884—1966) сначала пишет, что из-за множества споров лучше всего передать решение израильскому раввинату, а затем излагает и свою точку зрения. В свое время раввин Йехезкель Ландау разрешил вскрывать трупы, чтобы спасти жизнь другого человека, больного той же болезнью (мы об этом писали выше); в наше время вскрытие может спасти жизнь других людей в гораздо большей степени, чем тогда, так как информация распространяется по всему миру. Ответ содержит и интересные метаалахические соображения:
«Потому что невозможно существование государства без медицинских школ, занимающихся обучением молодых кадров, воспитанием и выращиванием из них врачей для спасения больных. В нашем новом государстве потребность в этом особенно сильна по многим причинам. Невозможно представить себе, как можно обойтись врачами-неевреями или теми, кто учился за границей. Такого не скажет даже безумный или невежда… Бывает, что в процессе вскрытия открываются новые горизонты в понимании корней болезни или способов лечения… Как можно поставить обучение искусству врачевания в нашей стране, если полностью запретить вскрытие? И что скажет массовый израильский обыватель, если распространится мнение, что медицина слаба из-за раввинских запретов? Мне очевидно, что такой запрет повлечет, не дай Б-г, разрыв между государством и религией» (URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Вайнберг,_Иехиэль_Яаков, дата обращения 17.01.2020).
В Израиле аутопсия и диссекция регулируются законом об анатомии и патологии, принятым Кнесетом в 1953 году. В основе этого закона лежит соглашение, достигнутое в 1944 году между доктором Х. Ясским, выступавшим от имени больницы hАда́сса (Иерусалим) как основного медицинского учреждения, проводившего тогда аутопсию и диссекцию, с одной стороны и главным раввином страны И. Герцогом и главным раввином Иерусалима Ц. П. Франком, представителями религиозных институций, опирающимися среди прочего на мнение других авторитетных раввинов (рав Хаим Гершензон, главный сефардский раввин Палестины рав Бен-Цион Узиэль и др. с опорой на законодательные источники (Меламед ле-Хоиль, ч. 2, 108; Мишпатей Узиэль, ч. 1, Йоре Деа, 28), с другой стороны, разрешившее проводить вскрытие в любом случае, если это может дать новые знания, полезные для лечения больных (единственным условием стало требование, чтобы после вскрытия останки были должным образом захоронены). Аналогичным образом было разрешено использование трупов при обучении студентов-медиков. В соответствии с этим соглашением аутопсия и диссекция допускаются при следующих обстоятельствах: 1) когда этого требует закон в случае убийства или катастрофы; 2) для установления причины смерти, если она сомнительна; 3) с целью спасения жизни; 4) в случае наследственных болезней. Аутопсия и диссекция производятся, если необходимость их подтверждается подписями трех врачей. Все извлеченные органы должны быть захоронены после необходимых исследований. Напомним, что пересадка органов, разрешенная большинством современных раввинов, нами в этом тексте не рассматривается, так как вопрос считается решенным и пересадки органов от мертвых доноров – разрешенными без ограничений (URL: http://www.eleven.co.il/?mode=article&id=10325&query и статья Евгения Левина. URL: http://berkovich-zametki/com/AStarina/Nomer21/Levin1.htm, дата обращения 17.01.2020).
Особо интересно в рассматриваемом аспекте посмертных вскрытий мнение крупнейшего современного авторитета алахи. Один из величайших еврейских мудрецов последнего столетия Хазо́н Иш (р. Авраам-Йешайагу Карелиц, умер в 5713 году по еврейскому летоисчислению, от Сотворения мира (1953 по ИХ счету), называемый, как это часто встречается в иудаизме, Хазон Иш по названию одной из своих книг) в конце 1-й главы книги «Эмуна́ увитахо́н» («Вера и упование») пишет (перевод на русск. яз. р. Пинхаса Перлова): «И сколько мудрости заложено в строении глаза – не насытится глаз наш созерцать ее, а ухо – слышать! И поколение за поколением прибавлять будут мудрые к знанию, а разумеющие к пониманию сокровищниц мудрости, сокрытых в устройстве глаза, но до конца никогда не дойдут…». Совершенно очевидно, что, говоря о научном исследовании глаза, Хазон Иш имеет в виду посмертное вскрытие. Рассматривая глаз живого человека или проводя доступные опыты и наблюдения над зрением живого человека, устройства глаза не выяснить. Занимаясь глазами, удаленными у живых по медицинским показаниям (болезни или разрушения глаза), тоже много информации не получить из-за сильных отличий такого глаза от здорового состояния и устройства этого органа. Значит, говоря о расширении и углублении знаний о глазе, выполняемом многими поколениями исследователей, Хазон Иш говорил о посмертных исследованиях органов (о вскрытиях трупов), не связанных напрямую с идеей их пересадки.
Современная наука, исследуя доступными ей методами близкие посмертные состояния, пришла к неожиданным выводам. По мнению исследователей, контакт души с телом и с обстановкой вокруг тела продолжается весьма недолгое время, после чего отлетевшая истинная сущность умершего отправляется в свой посмертный путь (туннель и другие описания, яркий свет и т.д.), расставаясь с телом и не страдая об его посмертной судьбе.
В известной мере полезной может оказаться следующая аналогия отношения души к оставленному ей телу (особенно в свете идей, что наш приход, приход нашей бессмертной души, нашей истинной сущности в этот мир не единственный и душа имеет историю жизни в разных телах в разные эпохи и, соответственно, опыт неоднократного покидания нескольких разных тел. Добавим особо крамольную мысль: так как время является принадлежностью и параметром только нашего материального мира, а души спускаются в наш мир из безвременно́го мира, то эти души с равным успехом могут отправляться в разные точки временной оси в любом порядке (который тоже имеет смысл только в пределах нашего мира), то есть понятие «более ранние воплощения» весьма условно. Мы это подробно разбираем в нашей книге «Где живет свобода воли»). Наше тело для души похоже на автомобиль для человека. Автомобиль обеспечивает человеку возможность быстро и далеко перемещаться и решать многие задачи, которых без автомобиля человек бы не выполнил, по крайней мере с такой скоростью и в таком количестве. За автомобилем нужно следить, ремонтировать его (лечить), заправлять топливом (кормить) и делать многие другие действия для поддержания его способности функционировать на благо человека. Но когда автомобиль заканчивает свой земной путь и отправляется на свалку, человек не страдает о нем, мало им интересуется и просто продолжает свой жизненный путь либо без автомобиля, либо с другим автомобилем. Аналогия между человеком и автомобилем с одной стороны и телом и душой с другой стороны очевидна.
Но наши мудрецы указывают на страдания души по поводу тела, на периодический возврат души к телу и на прочие параметры куда более тесного отношения души к телу по сравнению с отношением нормального человека к автомобилю, хотя, как мы видели, однозначных указаний на контакт души с телом в серьезных еврейских источниках не найдено, в отличие от указаний на контакт души с этим миром, что совсем не одно и то же. И именно из таких особых отношений души к телу следуют заповеди отношения живых людей к умершим и всевозможные еврейские законодательные (hалахи́ческие) требования и ограничения на манипуляции с мертвым телом.
Если уж мы затронули состояние материального тела человека после ухода из него души, выскажем наши весьма спорные мысли о посмертном вскрытии. Алаха требует похоронить тело как можно быстрее. Считается, что еврейский Закон (hАлаха́) требует похоронить тело целиком, без дополнительных посмертных повреждений (хотя, как мы уже указали, анализ серьезных еврейских источников этого не подтверждает).
Мы далеки от мысли, что мудрецы, устанавливающие hАлаху, ориентируются только на современные им реальности и современный им уровень знаний, но не удается отделаться от мысли, что серьезная анатомия начала развиваться только с XVII века, намного позже установления hАлахи. А серьезная современная медицина – вообще детище прошлого, XX, века; ну, может быть, конца XIX века. Это значит, что долгие века с мертвым телом не много чего можно было делать, а все возможные действия над трупами в эти многие сотни лет не были достаточно обоснованными.
Сегодня положение кардинально изменилось. Массовое посмертное вскрытие поможет решать по крайней мере 7 важных задач:
1. изучение тонкой анатомии и отклонений от нормальной анатомии. Развитие патологической анатомии и патологической физиологии;
2. изучение связи имеющихся при жизни симптомов, которые не привели к диагностированию болезни, и изучение наличия болезни, которую не могли диагностировать на базе имеющихся симптомов. Это поможет в своевременной диагностике и лечении живых;
3. выяснение причин смерти, изучение ошибок лечения, в особенности ошибок хирургии, для исключения их повторения;
4. сбор данных (в том числе статистических) о болезнях, не диагностированных при жизни, но выявляемых после смерти или даже выявленных при жизни, но не ставших прямой причиной смерти;
5. при подозрении на преступление – сбор материала против подозреваемых или в их защиту;
6. тренировка хирургов, без которой немыслимы сложные операции;
7. изучение медицины студентами, привычка работать с человеческим телом.