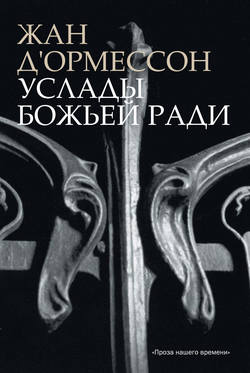
000
ОтложитьЧитал
II. Брешь
Однако в самом конце девятнадцатого века, в один прекрасный весенний день современный мир в конце концов все-таки обрушился на наше семейство. Дабы лучше нас соблазнить, современный мир принял облик молоденькой блондиночки, которую приметили герцог Вестминстерский и племянник Василия Захарова не то на балу при английском дворе, не то на благотворительных распродажах, организуемых обычно одними и теми же дамами из высшего общества. Женщины у нас, как импортные, так и идущие на экспорт, красивыми бывают часто. Мой дядюшка Поль – который, если не считать посещений мессы в часовне при замке и верховой охоты на оленя, палец о палец в жизни не ударил – встретил Габриэль совсем как герой романа Октава Фёйе: после четырехчасовой скачки по болотам и зарослям в одном из лесов Солони он остановил на скаку понесшую лошадь, а на ней оказалась в полуобморочном состоянии дочь торговца пушками и апельсинами. Он на ней женился. Она обладала умственными способностями выше среднего, была очаровательна, талантлива и невообразимо богата. Но все это, как оказалось, не имело значения. Наше семейство тут же выразило свое недовольство. Торговец пушками – тоже.
Брак был одним из ключей нашего старого мира. На протяжении многих веков мы женились только на равных себе. Однако со временем становилось все труднее и труднее находить столь же старинные семейства, как наше. Почти все они угасли. Революция славно закусила несколькими выжившими их представителями, которые еще могли бы надеяться на породнение с нами. Нам пришлось соглашаться на браки внутри клана. Ведь теперь только мы жили так, как мы. И отныне нам нравились только мы. Из-за этого менее чем за два поколения генеалогическое древо семейства стало невероятно запутанным: почти все супруги оказались друг другу кузенами, нередко муж приходился жене дядей или же, наоборот, племянником, часто возникало двойное, тройное, четверное родство, к великой радости выпускников Национальной школы хартий и провинциальных кузенов. Неписаные законы о браке сузили планету и ее обитателей до размеров клана.
Деньги в этих браках не играли большой роли. Главным было происхождение. В наших жилах текла древность. Старинные грамоты семьи ставились выше банковских счетов. Слушая разговоры об акциях и облигациях, мы думали о крестовых походах и феодальном праве. Мы сохраняли старинные традиции, и когда какая-нибудь ветвь племени беднела чересчур, на помощь приходили монастыри, и равновесие восстанавливалось. Церковь, наряду с войнами и микробами, в каком-то смысле тоже участвовала в регулировании деторождений и в уравновешенности семейного бюджета. Об этом финансовом равновесии вслух никто и никогда не говорил. Только революция нанесла ему удар, от которого нам уже не суждено было оправиться. Достаточно беглого взгляда, чтобы узреть одну из тяжелейших катастроф нашей долгой истории. Таковой стала ликвидация права первородства.
Женщины, младшие сыновья, малые дети долгое время служили лишь тому, чтобы увеличивать народонаселение, а затем умирать. Они являлись как бы инструментами, орудиями, частями механизма, в крайнем случае – запасными частями. Смерть дочери или младшего сына никогда не была ужасной бедой. И роженица тоже всегда могла спокойно тут же отправляться в мир иной, если она рожала сына, благодаря которому сохранялось имя. Дочери не играли важной роли, поскольку теряли свою фамилию. И теряли они ее потому, что не играли важной роли. Змий, искусивший Еву, кусал собственный хвост. Женщины и младшие дети существовали лишь для того, чтобы добавлять славы семейству, главой которого являлся старший сын. Только он имел истинное значение, поскольку он продолжал род, который он же и воплощал. Все было организовано так, чтобы именно он владел всеми средствами, находящимися в распоряжении семьи. Когда братья и сестры вдруг перестали умирать или уходить в монастыри, перестали помалкивать и стали требовать свою долю родительского наследства, семья хирела, умирала, во всяком случае, гибло былое представление о семье. В этом случае нам оставалось только заниматься самодеятельностью, чтобы как-то выкрутиться.
Для многих лучшим выходом из положения был выгодный брак. У нас ситуация была немного получше. Продолжая витать в облаках, мы с презрением наблюдали, как американки, мещанки и еврейки, с их банками, портными и обувщиками, спасали севших на мель потомков коннетаблей и принцев крови. Доходный дом на бульваре Осман и фермы в Верхней Сарте помогали нам как-то держаться на плаву. Появление тети Сары и ее денег внесло некоторое смятение в этот казавшийся ранее незыблемым порядок. Но дядя Жозеф, ее муж и брат моего деда, не был старшим. Все, что он делал, в том числе и его глупости, было отмечено печатью несерьезности. И потом, в этой семье, жившей воспоминаниями, забвение также играло свою роль. Очень старые семьи подобны очень старым людям: они тоже впадают в детство, им тоже угрожает маразм. Впрочем, может быть, он их охраняет. В конце концов мы забыли о происхождении тети Сары. Ее брат женился на девушке из семейства Шатийон-Сен-Поль, а ее сестра вышла замуж за Бурбона-Вандома. В головах у нас смешивались разные поколения, и мы уже более или менее искренне стали считать, что ее отцом был Шатийон-Сен-Поль, а матерью – женщина из рода Бурбонов-Вандомов. В тот момент, когда дядюшка Поль, старший сын моего деда и будущий глава семейства, влюбился в Солони, в очаровательную дочь пушечного короля, наше семейство, изящно смешивавшее постоянство с непостоянством, являло собой, несмотря на потрясения современного мира, небывало единый фронт.
В течение ста предшествующих лет семья Реми-Мишо сделала головокружительную карьеру. К сожалению, только ста лет. И, к сожалению, карьеру. В нашем роду карьеру не делали. Нам все было даровано, причем даровано давно. Еще в колыбели мы получали все, что нужно было для нашей славы. И мы никогда ничего к дарованному не добавляли. Карьера, проделанная на протяжении века или чуть более того, в наших глазах ничего собой не представляла, и само начало ее, кроме подозрений, ничего у нас не вызывало. Она начиналась при императоре, а то и – что еще хуже – во время революции. Альбер Реми-Мишо был равным среди таких, как Шнейдеры, Вандели или Сомье. В свое время он был одним из самых элегантных мужчин. Вместе с Шарлем Хаасом он способствовал появлению у Пруста персонажа по имени Сван. Он возглавлял могучую индустриальную группу, где работали двадцать тысяч человек, и распоряжался нешуточным состоянием. Был он командором ордена Почетного легиона и входил в самые закрытые круги Парижа. Но мой дед запомнил лишь одно: это был республиканец. Более восьми веков наше семейство обходилось без республиканцев и не жалело об этом. А раз обходилось в прошлом, то должно было обойтись и в будущем. Столь долгую и достойную привычку дедушка не собирался бросать из-за случайной встречи с какой-то там посредственной наездницей.
Но было нечто более серьезное. Все знали, что первый из Реми-Мишо, чья фамилия писалась еще без черточки, прежде чем стать министром торговли и общественных работ при Луи Филиппе, ходил в префектах империи. Однако многие забыли, что в возрасте двадцати пяти лет ему довелось оказаться членом национального Конвента. Многие, но не мой дед, отличавшийся превосходной памятью, как на добрые, так и на злые деяния. Где-то между таблицами герцогов, пэров и маршалов Франции он хранил черный список цареубийц. Ему не составило труда установить, что 20 января 1793 года Мишо де ла Сомм (Реми) проголосовал за казнь короля. Это стало подобно удару грома в небе Плесси-ле-Водрёя. Маршальские жезлы, парики, качели с дамами и те закачались на старинных портретах и картинах. Даже сорок лет спустя мать все еще рассказывала мне об этом. При мысли, что его внук может оказаться потомком цареубийцы, кровь вскипела в жилах деда. Одно из старейших семейств Франции, состоящее из самых верных приверженцев короля, не заслуживало такого позора.
Впрочем, семейство Мишо, чья фамилия стала писаться Мишо де ла Сомм, потом – опять Мишо, потом уже – Реми-Мишо («Они даже не знают, какая у них фамилия», – говорил мой дед), оставило свой след в истории Франции. Правда, это была уже новая, почти даже современная история. И след этот был липким от крови и денег. Сын трактирщика и фермерской служанки, Мишо де ла Сомм не ограничился тем, что проголосовал за казнь короля. Вскоре он отправил на гильотину еще и своих коллег. Какое-то время он пребывал в тени деятелей вроде Сиейеса, Барраса, Тальена. Первый консул приметил Мишо в интендантской службе, где тот был заместителем Дарю, и он стал префектом сначала Марны, потом Соммы, родного своего департамента, где он добился руки дочери прежнего властителя тех мест. Тогда барон Мишо достиг первой вершины в своей карьере. Находясь в тени Фуше и Талейрана, он тайно готовил вместе с царем Александром и Меттернихом падение Наполеона, которому был обязан буквально всем, и тем самым – возвращение Бурбонов, которых когда-то хотел уничтожить.
Второй апофеоз бывшего цареубийцы случился при Луи Филиппе, сыне его старого сообщника, герцога Орлеанского, члена Конвента и цареубийцы, известного под именем Филипп Эгалите. Король французов учуял хорошего слугу в этом республиканце-монархисте, долго служившем империи. И назначил его министром. В теплое местечко. Министр торговли, потом – общественных работ, барон Мишо разбогател, спекулируя на железных дорогах. Он не решился вернуть себе фамилию Мишо дела Сомм, хотя частица «де» ему льстила и могла бы даже ему пригодиться. Но эта фамилия еще вызывала немало воспоминаний. Он выбрал Реми-Мишо. Ведь черточка почти равняется частице «де». Барон Реми-Мишо своими расчетливо продуманными празднествами украсил лучшие дни орлеанизма. Его сын, Лазарь Реми-Мишо, обосновался в Северной Африке. Так к доходам от промышленности добавились еще и богатства от колоний. Потом еще несколько пируэтов, несколько смут, несколько кровавых дел, и вот уже семья Реми-Мишо оказалась в числе победителей на пиршестве Третьей республики. Они устроились в ней так же уютно, как и при прежних формах правления. Для них были хороши все режимы за исключением тех, что падают. Любили они и революции, когда сами их совершали. Революционер, префект империи, доморощенный Талейран, министр при Луи Филиппе и биржевой спекулянт – в бароне Реми-Мишо нетрудно узнать одного из тех, с кого Клодель списал Туссена Тюрлюра, мрачноватого героя пьес «Заложник» и «Черствый хлеб». Нам же больше нравились персонажи вроде Синь де Куфонтен из тех же пьес. Мы долго были на стороне сильных. Теперь, когда мы сами стали побежденными, наши симпатии переключились на жертв.
Клодель точно заметил: людей типа Реми-Мишо отличают ловкость, нюх на ситуацию, умение поймать ветер истории. Были у Реми-Мишо и семейные традиции, которые состояли как раз в том, чтобы не иметь таковых и благодаря этому не упускать ничего. Они использовали в своих интересах буквально все. Можно сказать, что им на пользу шел сам воздух современности. Они остановили ход революции, затем приручили робкую монархию, оседлали восстановленную было империю, овладели неокрепшей еще республикой. Мы уже давно умерли. А они, ах какими живыми они оказались! Подвижные, активные, сильные, смелые и даже мужественные в своем слабоволии, удивительно умные, непостоянные и изменчивые, они были и послами, и государственными советниками, после того как побывали префектами и министрами. В каком-то смысле Реми-Мишо стали образом Франции. Иным образом. Не нашим. Но все же образом. Причем даже блистательным. Мы же скорее согласились бы погибнуть, чем признать себя в этом образе.
Дедушка называл всех Мишо одним словом: канальи. Они предали короля. Предали Церковь. А потом – предали и врагов короля и врагов Церкви. Но при этом незначительное преступление, каковым явилась измена по отношению к врагам короля, не искупало чудовищное преступление, каковым явилась измена королю. Один друг Реми-Мишо как-то пришел к нам и стал его защищать. Он сказал, что первый Мишо был одним из двух-трех людей, свергнувших Робеспьера. И услышал такой ответ: «Я расскажу вам в двух словах историю Термидорианского переворота: убийство нескольких сволочей другими сволочами. Вот и всё». Всё то, что создало богатство Мишо: гибкость, приспособленчество, понимание того, что происходит, способность быстро меняться, талант и, возможно, ум, – было нам совершенно несвойственно. Мы не отличались большим умом. И не обладали никакими талантами. Мишо, несмотря на их низость, а может, благодаря ей, были обречены на успех. После стольких веков славы мы стали ценить только поражение. И мы назвали его верностью.
Успех превратился для Реми-Мишо в манию. Они постоянно добивались каких-то выгодных назначений, богатства и блестящего существования. Послу Франции в Баварии, внуку члена Конвента, сыну Лазаря, деду Альбера Реми-Мешо в 1870 году, было поручено принимать Бисмарка в замке Ферьер. Его исключительные способности привели как всегда в восторг всех собеседников, включая «железного канцлера», расхваливавшего его потом в письме Тьеру. Но больше всех дружил он в ту пору с Ротшильдами. Сразу по окончании войны он покинул государственную службу и стал работать в банке, двери которого ему открыли барон Альфонс и барон Гюстав. Через его руки прошли все крупнейшие сделки той эпохи: передача пруссаками пяти миллиардов в качестве военных репараций, финансирование строительства Суэцкого канала, подготовка к строительству Панамского канала. Между 1882 и 1886 годами он стал президентом акционерных обществ, владевших шахтами в Анзене и Мобёже, металлургическими заводами в Риквире и Лонгви. Он участвовал в создании международной компании спальных вагонов и крупных европейских экспрессов. Одним из первых он занялся индустрией туризма. Попутно он продолжал руководить заморскими предприятиями Лазаря Реми-Мишо. Ему же принадлежали простиравшиеся от Феса до Кайруана пальмовые и оливковые рощи, роскошные сады и плантации апельсинов, лимонов и мандаринов. Большая часть торговли африканскими цитрусовыми в метрополии осуществлялась компаниями под его контролем, прямым или косвенным. Как говорил с обычным для него юмором Форен, «пара миллионов фруктов ежедневно» позволяла Реми-Мишо не умереть с голоду. Он мог также добавить, что небольшая война то тут, то там тоже весьма шла ему на пользу.
Может, я по отношению к Реми-Мишо не слишком справедлив? Нет ничего более трудного, чем заставлять слова передавать события, идеи, страсти и чувства. Как ни выскажешься, все равно солжешь. Слишком часто нам рисовали Людовика Святого разбойником, Жанну д'Арк – истеричкой, а Сталина – отцом народов, слишком часто терпимость выдавалась за насилие, а насилие – за свободу. Это научило нас с опаской относиться к лукавой силе устной и письменной речи. Я вполне допускаю, что и сам тоже могу ошибиться и изобразить жертву преступником, а преступника – жертвой. Наш век не избавил нас от подобных надоевших людям в прошлом фокусов. Рисовать без искажений портреты людей, правильно описывать их поступки – искусство почти божественное. Во всяком случае, это значительно труднее, чем блеснуть в жанре сатиры или выступить в чью-то защиту. У семьи Реми-Мишо был лишь один бог: успех. Успех, и больше ничего. Но при этом им было ведомо всё, что приводит к успеху. Усилия, неуемная трудоспособность, спортивный запал, умение держать удар. Правнуки революционера с равным удовольствием встречали все жизненные превратности – так их воспитали швейцарские няньки и непроницаемые иезуиты. Вынужденные демонстрировать таким образом поколение за поколением чудеса гибкости и ловкости, они в конце концов обрели чувство строгой дисциплины, самую что ни на есть буржуазную честность, непреклонность и даже нечто вроде чести. «Честь! – бушевал мой дед, – честь! Откуда она могла бы у них взяться? Уж не из могил ли в Венсене?»[2] Однако по мере того, как шли годы (мы измеряли время веками, а Мишо – годами), воспоминания об их участии в казни короля и об их корыстолюбии постепенно стирались, а в глаза все больше бросались их трудолюбие, их привязанность к традиции. Теряя что-то в гениальности, они выигрывали нечто в основательности и убедительности. Слово представителя семейства Реми-Мишо стало цениться на вес золота. Дух предпринимательства уступал место моральным ценностям. Они стали, подобно нам, подчиняться смутно понимаемому закону сохранения вида и теперь старались как можно лучше обустроить территорию, захваченную поколениями победителей. Но мы уже находились в конце этой долгой эволюции. А они – в самом начале. Полагаю, что дед мой ставил в вину семейству Реми-Мишо два почти несовместимых друг с другом преступления: то, что они были выскочками, составившими себе состояние на смерти Людовика XVI, и то, что они перестали быть таковыми и сумели сделать так, что все, в том числе и они сами, забыли об их первородном грехе и незаметно слились по образу жизни, по интересам, по взглядам с общественным – впрочем, не только общественным, а этическим, метафизическим и даже мифическим, священным в наших глазах и, как нам казалось, и в их глазах тоже, – классом: нашим классом.
Согласно семейной легенде, примерно в одно и то же время были произнесены две речи в стиле традиционных палинодий, одну из которых держал мой дедушка перед дядюшкой Полем, а другую – Альбер Реми-Мишо перед своей дочерью Габриэль. «Сын мой, – говорил дедушка, любивший время от времени выражаться высокопарным стилем, – вы вынашиваете проект весьма выгодного союза. Но в истории нашей семьи деньги никогда не ценились и никогда не играли никакой роли. Было хорошо, когда их было достаточно и мы могли достойно содержать наш дом. Но когда их не хватало, мы тоже не переживали. Сын Елеазара так и не смог собрать нужную сумму, чтобы выплатить басурманам выкуп за освобождение своего отца. Елеазар обошелся и без них. Он бежал. Пересек пустыни и моря и вернулся, чтобы сражаться под знаменами своего короля. Никогда не были мы так бедны, как в конце XIV века, когда слава наша сияла особенно ярко. С самого начала нашего рода мы раз и навсегда отреклись от денег – ибо они могут принадлежать всем – в пользу чести, которая принадлежит только нам. И честь эта называется верностью. Как только в еще недостроенном здании нашей истории появится хотя бы малейшая трещина, это будет означать, что близок день, когда оно полностью рухнет. Мы уже и так приняли в нашу семью еврейку – так неужели же вы хотите, чтобы мы сюда впустили еще и измену с цареубийством? Если мы отнесемся к смерти Господа и смерти короля как к незначительным грешкам, достойным забвения, то где найдет себе пристанище чистота крови и памяти и что тогда станется с этими ценностями, на которых мы покоимся? Нет ничего более хрупкого, чем честь. Малейший промах, и вот ее уже нет. Верить в равновесие между добром и злом – ужасная иллюзия. Добро разрушается злом, но зло не разрушается добром: оно остается навсегда во времени, подобно несмываемому пятну. Вот почему так важно оберегать честь от любых грозящих ей посягательств. И то, что нашу фамилию понесут через века потомки цареубийц, причиняет мне нестерпимую боль. Тысяча лет чести и верности превратится мгновенно в прах. Неужели вы не понимаете (вы, наверное, уже заметили, что дедушка обращался к своим сыновьям на «вы»), что наше представление об истории и о мире теперь находится в ваших руках? Каждый из нас – лишь одно звено в длинной цепи. И горе тому, чья подмоченная репутация ослабит всю цепь! Каждый из нас – ничто. Ценность представляет только семейство в целом. Настанет день, когда мы передадим в целости тем, кто придет после нас, унаследованную нами честь, пронесенную через века незапятнанной нашими предшественниками. Не давайте ни страстям, ни корысти в один миг опорочить накопленную за столько веков порядочность».
В то же самое время Альбер Реми-Мишо с несколько пошловатой интонацией говорил своей дочери нечто в таком вот роде: «Ну не пойдешь же ты замуж, милая Габи, за этого парня? Понимаешь ли ты, что все они фанфароны и бездельники? У меня нет сына. И мне нужен такой зять, который мог бы достойно сменить меня. А твой недоросль Поль совершенно для этого не годится. Он может охотиться, это у него не отнимешь. Но вот работать, это увольте! Что вы! Мне не нужен специалист по генеалогии и псарь, который только и умеет, что трубить в охотничий рог. Мне нужен парень, умеющий командовать людьми и машинами. Наверное, они умели командовать людьми, когда-то в былые времена… Но всё с тех пор потеряли и позабыли, поскольку ничего не делали и только воображали себя превыше всех. А что касается машин… Если уж не инженера или финансового инспектора, то я предпочел бы скорее заполучить мастера или рабочего, человека растущего, а не спускающегося вниз. А они вот уже восемьсот лет только и делают, что движутся по нисходящей, строго сохраняя преемственность, согласен, но все же по нисходящей… И еще при этом позволяют себе презирать нас! Ну, ну! Не плачь… Так уж тебе хотелось стать герцогиней? Конечно, с твоей внешностью ты была бы самой красивой среди этих старух, которые собираются в их салонах… Привнесла бы немножко свежей крови этим выродившимся маньякам… Ну, ну! Не плачь… И не думай о нем… Знаешь что? Давай-ка съездим вместе в Венецию, в Зальцбург, в Нью-Йорк?..»
Через полгода дядя Поль женился на тете Габриэль, только что вернувшейся из Нью-Йорка. Дело в том, что на этом этапе истории тех слоев общества, о которых я пытаюсь рассказать, появилась новая сила. Это была любовь. Любовь всегда играла определенную роль в истории человека. Обнаруживалась она и в христианских браках. Правда, скорее как следствие, а не как причина. Она не играла большой роли в формировании семей, режимов, того или иного общества. Она больше их разрушала. Луи Расин, расхваливая в «Воспоминаниях о жизни и творчестве Жана Расина» брак своего отца, замечательно написал: «Ни любовь, ни корысть не имели никакого отношения к его выбору». В наши же времена, вот уже полвека, тесно переплетаясь с замаскированной материальной заинтересованностью, любовь активно вторгается в экономические и общественные комбинации промышленной буржуазии. В мир машин и механизмов проникли грезы. Огромные равнины покрылись заводами и фабриками, леса оказались вырубленными, горы и моря – покоренными и засоренными, но любовь, впрыснутая в общество романтизмом начала девятнадцатого века, продолжала свое триумфальное шествие, играя роль противовеса миру техники. Человека окружили всякого рода машины, автомобили, средства коммуникации, реклама, но он остался способным испытывать страсть. Какое облегчение! Любовь стала реваншем и оправданием природы в мире, понявшем это и устыдившемся при мысли о механическом своем будущем. Миф любви обогатил кино, песни и литературу, стал еще одним, настоящим, опиумом для народа, а затем в конце концов превратился в орудие религиозной и политической борьбы, которое принималось в расчет матерями семейств и промышленными магнатами. Кстати, чаще всего чувства обнаруживали здравый смысл и покладистость. Браки по расчету помогали создавать государства, раздвигать границы провинции, приобретать состояния. Одна из побед буржуазии заключалась в том, что она научилась регулировать, сдерживать и контролировать любовь. Как это ни странно, но у буржуазии в ее сказаниях и легендах даже Тристан и Изольда никогда полностью не теряли чувства меры и общественной среды. В романах особо подчеркивалось губительное влияние страстей, говорилось об их роковых последствиях – достаточно вспомнить судьбы Матильды де ла Моль или Анны Карениной. Однако я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из семьи Реми-Мишо влюбился в негра, в батрака, в профессионального безработного, в профессиональную проститутку или в уголовника. Можно было опуститься до сельского врача, до манекенщицы, до актрисы, до разведенных, но никак не ниже. Все пастушки, на которых женились принцы, становились своими в новой среде. У сердца были свои аргументы, и разум с ними соглашался. Он ограничивался тем, что соединял тех, кто подходил друг другу, и разрушал только самые уязвимые барьеры и предрассудки, которые и без того готовы были рассыпаться в прах и исчезнуть. Нотариус мог жениться на дочери помещика, сын профессора-радикала – на дочери полковника-католика, еврейка могла выйти за протестанта, дочь франкмасона – за племянника архиепископа, а моя семья – породниться с Реми-Мешо. И каждый раз можно было биться об заклад, что разум знал, что творил. И он действительно знал. Время великих потрясений еще не пришло. Я подозреваю, что мой дед и Альбер Реми-Мешо скоро и сами поняли, возможно, поняли с легким сожалением, но смирились, что, несмотря на свои противоположные взгляды на мир и на людей, они были просто обречены заключить союз. Они еще вели арьергардные бои, но в глубине подсознания у обоих уже созревал проект мирного договора, уже мысленно составлялся контракт к нему. Семья коннетаблей и маршалов Франции нуждалась в деньгах, а дети цареубийцы – в славе, слегка покрытой пылью веков, вроде той, что лежит на старой и ненужной мебели где-нибудь на чердаках фамильных замков. На историческую сцену выходили новые классы. Пора было объединяться. Вхождение в мое семейство республиканской буржуазии возвещало начало новой, не любящей жеманства эпохи. Надо было создавать нечто вроде священного союза или национального фронта, во имя сохранения привилегий. Нашим вкладом были замок, старинное имя, пара-другая привидений, воспоминания о славных былых победах, поэтическое воображение да еще герб, который когда-то рисовали на карете. А Реми-Мишо вносили в общую копилку ум, труд, отличное положение, деньги. С одной стороны, престиж прошлого, с другой – многообещающее будущее. Ограниченные люди скажут, что тут встретились всего лишь снобизм, с одной стороны, и материальная заинтересованность – с другой. Я, правда, надеюсь, что мне удалось показать, как эта семейная хроника развивалась все-таки более сложным путем. Хотя, глядя со стороны, можно, конечно, сказать, что в данном случае сочетались браком страсть и общественное положение. Моя бабушка, о которой говорили, что она когда-то вышла замуж не столько за дедушку, сколько за его убеждения, умерла от горя, не прожив после этой свадьбы и трех месяцев. Ее преждевременная смерть не удивила семью, ибо бабушка сама предсказала ее. Добрый доктор Соважен, семейный врач, увидев иссохшее, измученное лицо и заплаканные глаза бабушки, замкнувшейся в молчании, шепнул на ухо деду не то с вопросом, не то с упреком: «Если бы ей было двадцать лет, я подумал бы, что она умирает от любви». И он был недалек от истины. Дед и бабушка были тут ни в чем не повинны и сохранили свои патриархальные нравы во всей их чистоте, но при этом именно любовь, с нашей точки зрения недостойная, свела старушку в могилу. А полгода спустя в Плесси-ле-Водрёе, как и следовало ожидать, родился будущий глава семьи, потомок двух канонизированных святых и трех банкиров, потомок Елеазара и цареубийцы, потомок многочисленных герцогов и пэров по линии отца и многочисленных безвестных людей по линии матери. Назвали его Пьером. Так звали двух маршалов Франции при Карле IX и при Генрихе III. И одного капеллана при Людовике XVI.



