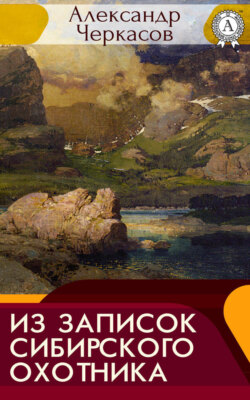Посвящается А. М. Галину
Сломанная сошка
Давно собирался я рассказать о том, что пришлось мне испытать в тайге, но все как-то не мог исполнить своего желания – то служба мешала, то просто руки не доходили. Желание же познакомить читателя с тем, что иногда приходится переносить золотоискателям в Сибири, все-таки взяло верх над всеми препятствиями недосуга, и вот я наконец уселся побеседовать, хотя на душе, что называется, кошки скребут, не потому, что приключилась беда, – нет, беду не воротишь и не исправишь, а скребут потому, что скитания по тайге иногда мало ценятся и еще менее оплачиваются, а нередко эти скитания по сибирским дебрям во всю жизнь впоследствии отзываются каким-нибудь недугом или делают человека уродом, часто в годах цветущей молодости. Многим, конечно, и в голову не придет, что золото, этот всемогущий двигатель и ярко горящий металл, в затейливых брошках и браслетах наших красавиц или причудливых застежках и запонках фатов и шалопаев так тяжело достается и еще тяжелее добывается. Вероятно, многие даже и не знают, что такое тайга, угрюмая сибирская тайга, со всеми онерами отдаленных трущоб необъятной Сибири. Ну и господь с ними! Пусть эти счастливые люди и не знают об этом, а я им тихонько скажу, на ушко, что в Сибири есть такая пословица: «Кто в тайге не бывал, тот богу не маливался».
В 1862 году, в октябре, я был назначен партионным офицером в Амурскую золотоискательную партию, а в 1860 году я только что женился и жил в Алгачииском руднике, в Нерчинском горном округе. Как ни тяжело было расставаться с тихой рудничной жизнью, а делать нечего, надо было частью распродаться и переселиться на Карийские золотые промысла, которые в то время были самым ближайшим пунктом к тому району, где мне приходилось скитаться.
Перебравшись на эти промысла, я оставил семью в очень маленьком домике и, приняв партию, отправился в тайгу на розыски золота, в вершины реки Урюма, выпадающего из отрогов гор, отделяющих систему вод Олекмы, впадающей в Лену, и верховьев Амазара, составляющего приток Амура.
Время я распределил так, что каждый месяц, лишь только появлялась новая лупа, я отправлялся в тайгу и, проездив дней 15–20, возвращался домой. Таким образом я работал до самого последнего зимнего пути и ездил в партию в небольших пошевенках, потому что путь позволял избегать тяжелой, верховой, зимней езды. Последний раз я выехал из тайги уж в начале апреля, так что едва-едва пробрался по горным речкам, покрывшимся полыньями и готовившимися сбросить свое зимнее покрывало, – мою проторенную дорожку, и бурно, бурно покатить свои волны.
Переждав дома весеннюю ростепель, мне пришлось подыскивать вожака, то есть такого человека, который бы знал летний, верховый путь в ту часть тайги, где находилась партия. Дело это оказалось крайне трудным, потому что на Карийских промыслах и в окрестных селениях такого ментора не оказалось, а обещавшиеся орочоны (туземцы тайги) или надули, или не могли выйти за весенним разгальем. Приходилось задуматься не на шутку, потому что мой зимний спутник и сотоварищ скитания по тайге Алексей Костин (ссыльнокаторжный) не знал летнего пути и к тому же, как нарочно, захворал.
Я уже начинал отчаиваться и ругал себя, что согласился быть партионным офицером, в чем была единственной виновницей ничем непоборимая страсть к охоте; как вдруг совершенно неожиданно приехал ко мне мой старый ментор по охоте и закадычный приятель – Дмитрий Кудрявцев, старик лет 60, отставной горный мастеровой и известный по всему округу зверопромышленник.
Увидав его в окне, я выскочил на двор, почти сдернул его с коня, облобызал как родного отца и радостно сказал: «Дмитрий, здравствуй! Куда бог понес? Зачем приехал? Уж не ко мне ли?»
– К тебе, к тебе, барин! Здравствуй, как живешь? – радостно говорил старик.
Напившись вместе чаю, выпив водочки и порядочно закусив, я узнал в беседе, что добрый старик, услышав, что я ищу вожака, приехал ко мне предложить свои услуги, говоря, что урюмскую тайгу он знает как свои пять пальцев, но не бывал только на вершинах Урюма и Амазара; но это ничего – опытность и бывалость доведет хоть и дальше. Переговорив все что нужно, мы порешили на том, что старик Кудрявцев будет моим ментором и в начале мая приедет ко мне, но пока отправится домой, в выселок около деревни Бори, верст сорок за Карой (Карийские промысла), поправится домашностью и приготовится к походу.
Устроив одно, меня грызла другая забота – необходимо было подыскать хорошего нарядчика, который бы знал дело и был надежный человек. И тут судьба помогла мне нанять за хорошую плату унтер-штейгера Федора Маслова, бывшего моего сослуживца по Верхнекарийскому промыслу. Лучшего желать было нельзя, потому что Маслов был человек вполне знающий свое дело и, кроме того, человек грамотный, умный, честный и совершенно трезвый, что большая редкость в промысловом люде. Одна беда заключалась в том, что Маслов никогда не бывал в тайге, не ходил в партиях и, следовательно, был по этой части неопытен и к тому же ужаснейший трус, даже олганьша, как называют в Нерчинском крае. Там это словцо означает такую личность, которая боится всякой и пустяшной внезапности; например, стоит только подоткнуть хоть пальцем сзади и крикнуть, то олганьша уже вне себя от испуга и в такой момент бросает даже все, что держит в руках; так что подверженные этому женщины нередко роняют на пол своих ребят, почему с такими личностями неуместные шутки кончаются иногда весьма плачевно.[1]
Кроме того, каждая олганьша, особенно женщины, в момент испуга выкрикивают по несколько раз какое-либо излюбленное слово, например, «вот-те, вот-те грех», «что ты, что ты, бес» и прочее, а чаще слова эти непечатны. У Маслова была поговорка на этот раз: «фу ты, фу ты, сыч! сыч!» По этому случаю самого Маслова многие школяры звали «сычом», на которого он, бедняга, в этот момент действительно и походил; ибо, испугавшись, как-то особенно вытаращивал глаза и напоминал сыча. Хотя вообще боязливость Маслова и считалась помехой для таежного человека, но делать было нечего, с этим приходилось мириться, да и думалось, что время все перемелет, а обстановка тайги сделает из Маслова храброго человека, но – увы! – вышло не так.
Но вот наступил и май, пришлось и самому приготовляться к таежному путешествию, а у молодой моей жены часто стали появляться «глазы на слезах», как говаривал наш промысловый лекарь Крыживицкий, большой мой приятель и веселый собеседник. День за день проходил, скоро приготовления кончились – все было начеку, как говорится; платье починено, пули налиты, винтовка пристреляна, «харчи» подготовлены, кони выдержаны, – словом, все готово; а вот вечерком, кажется 7 мая, приехал на своем вечном каурке старик Кудрявцев, а за ним и Маслов. Я тогда «жил домом», или, лучше сказать, моя семья, на Нижнекарийском золотом промысле. Весь домик состоял из трех крошечных комнаток и небольшой кухни на дворе. Долго, за полночь просидел я со своими дорогими гостями, перетолковал, кажется, все и порешил так, что через день, совсем управившись, как можно раньше утром выехать в тайгу.
Хотя в начале мая полая вода и высоко еще бушевала в горных речках, но мы эту опасность как бы забывали, – нас тянула в тайгу весенняя охота, ибо в это время еще яро токовали косачи и глухари, свистели рябчики, пролетной дичи было много, а изюбры и козы только что разохотились выходить на увалы и мочажины поесть свежей майской зелени, которая и для лошадей начинала уже служить подножным кормом. Словом, все скорее, скорее манило в тайгу страстного охотника, а короткие ночи, со свистом и гамом пролетной дичи, не давали покоя его душе, наболевшей от зимнего затишья. Одно журчание горных речек уже заставляло забыть душные комнаты и лететь на простор подышать свежим, майским воздухом. Нетерпение наше было так велико, что старик Кудрявцев «истосковался» в тот день, который он без дела должен был провести у меня. «Ну, барин, я думал, что и конца дню-то не будет, а ночь мне уж не уснуть, – точно мурашки по-за коже бродят; так бы скорей и ехал, так бы и летел летом. Вишь, дни-то какие! Солнышко-то словно шубой – так и накрывает; а траву-то, так только не видишь, как она лезет», – говорил старик, собираясь ужинать.
С восходом солнца 9 мая «в вешную Николу», как говорят здесь простолюдины, мы втроем, верхом, ехали уже за промыслом и вступали в пределы тайги. Старик Кудрявцев, с винтовкой за плечами, ехал впереди и был вожаком. Слева, к торокам седла, у него был привязан на цепочке знаменитый его Серко, пес сибирской породы, очень сильная, рослая и свирепая собака. Вторым ехал я, тоже с винтовкой сибирского изделия, но замечательно резкого и далекого боя. Как у меня, так и у старика к винтовкам были привернуты сошки, с которых гораздо вернее стреляется пулей, хотя эти сошки составляют немалое бремя при верховой езде и порядочно увеличивают тяжесть оружия, так что моя зверовая винтовка весила с ними почти 17 фунтов. Последним, сзади, ехал Маслов, но и на нем болтался мой дробовик Ричардсона – на случай и для стреляния уток, рябчиков и других мелких жильцов нашей тайги.
Майское утро дышало особенной прелестью. Свежий, смолистый запах только что распустившейся лиственницы наполнял воздух. Побуревшие в зиму сосны отходили и уже зеленели по-летнему, тоже распуская свое характерное благоухание. Бормотание косачей слышалось со всех сторон и тревожило охотничью душу. Где-то щелкали глухари, но мы к току не заехали, потому что торопились застать вечернюю охоту на увалах, куда в это время, по словам старика, выходило много коз и изюбров, – а это и было идеалом, всем помыслом нашей поездки. Утреннее майское солнце как-то особенно приветливо выходило из-за гор и уже грело по-летнему; правда, оно не освещало причудливых замков, роскошных павильонов, старинных развалин – нет, ничего этого в Сибири не существует; но оно, точно в панораме, освещало превосходные дикие пейзажи, отроги гор с их очаровательными видами и переливами теней. Особенно хорошо выходили скалистые уступы, отдельные сопки (горы) с их причудливо-разбросанной зеленью и тихо стоящие озера, которые, как зеркала, то блестели своей гладкой поверхностью, то еще причудливее и живее отражали отдельные группы гор, зелени, утесов. Ах как хорошо было это майское утро! Как свободно и радостно дышалось ароматным, свежим воздухом; и кто из нас мог не только знать, но и подумать, что такой приятный весенний вечер даст нам другие ощущения, тревожные мысли и тяжелые заботы.
Кудрявцев вел нас без дороги, прямо тайгой, по долинам речек и хребтам, ибо превосходно знал окружающую местность. Нередко мы пробирались такой чащей, что едва пролезали, или забирались на такие хребты гор, что вся окрестность открывалась перед глазами и превосходные картины дали были так хороши, что я, в поэтическом настроении души, набросал на одном перевале, в своей записной книжке, следующие вирши:
Пред нами даль тайги далекой
Из глаз терялась далеко:
В ней нет красавиц с поволокой.
Иной тут расы молоко.
Тут орочон в коптелой юрте
Ведет скитальческий приют!
Тут иногда изюбры в гурте
Иную песнь любви поют.
Как ни аляповаты эти строчки, однако ж они доказывают читателю то чарующее настроение, в котором я тогда находился, и не могу не поделиться своим произведением с моими товарищами. «Слушай-ка, Дмитрий, – сказал я Кудрявцеву, – это место, брат, так хорошо, что я сейчас вот сложил песенку», – и тут же прочитал свое стихотворение старику.
– Ладно, – сказал Кудрявцев, – все это верно ты спел, только вот я не возьму в толк, какие такие красавицы – как ты бишь ловко назвал, с наволокой, что ли? А что изюбры вот с Семенова дня действительно поют, в гоньбу, – и так, брат, поют, что инда мороз по коже, словно волоса-то подымаются, таково лестно для нашего брата, промышленника.
Насилу я растолковал Кудрявцеву, что такое красавица с поволокой, и, надо полагать, так удачно растолковал, что старика передернуло, он даже сплюнул и, улыбаясь, как кот, тихо проговорил:
– Фу ты, язви их! Вишь, какие крали бывают.
Я невольно расхохотался, но так замаскировал свой взрыв, что старик не обиделся и не подумал, что я хохотал над ним. Спасибо и Маслову, тот тоже поддержал меня и сказал, что он где-то читал о таких «прелести подобных» созданиях.
Вообще же мы ехали тихо, разговаривая почти шепотом, чтоб не испугать где-либо зверя, что и помогло нам утром же убить жирующую в увале козулю. Но изюбра видели только издали и испугали.
В полдень мы остановились у речки, сварили чаю, закусили, немножко отдохнули и поехали дальше тем же порядком, прямо тайгой и, не предвидя никакой беды, не делали на пути заметок, чтоб в случае надобности можно было выехать обратно той же тропой. Мы надеялись на старика, и нам не приходило в голову засекать, хоть изредка, деревья и примечать местность.
Часов в 5 вечером мы благополучно добрались до излюбленного места Кудрявцева, где он зверовал не один уже раз на своем веку и убивал тут множество козуль и немало изюбров, – это в вершинах речки Топаки, верстах в 50 от Карийских золотых промыслов. Но, отправившись с Нижнекарийского промысла, мы сделали больше и проехали в этот день, по крайней мере, верст 60. Действительно, место, облюбленное стариком, было замечательно как по красоте пейзажа, так по удобству стоянки и зверовой охоты.
Мы остановились на «измыске», который был покрыт лесом, выходил к долине речки Топаки и прилегал к лесистому отрогу целой группы гор. За долиной речки красовались два огромных увала, то есть солнопечных покатостей гор, частью чистых, частью с редколесьем, но сплошь покрытых превосходною майской зеленью, так что издали они показались изумрудными; точно бархатные зеленые ковры, заманчиво покрывали эти чудные покатости гор, на верхних окраинах которых виднелась сплошная масса леса. Вот на эти-то увалы, а равно и в долину речки, на свежую зелень, выходили по утрам и вечерам козы и изюбры. Это-то место и было талисманом нашей денной поездки.
Подъезжая к измыску, Кудрявцев остановился и сказал: «Вот, барин, тут и остановимся, тут отаборимся и заночуем. Вишь, како место! Таких местов, брат, мало по всей здешней тайге. Хоть и рано еще, но первый уповод (денной проезд) делать большой не надо, коням легче будет, да и самим вольготнее ночевать в таком месте; словно душа-то радуется, инда дух захватывает».
– Ладно, – сказал я, – здесь так здесь. Действительно, место замечательное.
Пока я отвечал, старик уже слез с коня и привязывал его к дереву. Это же хотел сделать и я, но, соскакивая со своего Савраски, несколько наподгорь, я пошатнулся назад и ударился висевшей за спиной винтовкой о близ стоящее дерево так сильно, что изломал одну ножку у сошек винтовки и железный наконечник упал на землю. Я, конечно, пожалел в душе о такой пустяшной поломке и только хотел излить свою досаду, как Кудрявцев, заметив изломанную на винтовке сошку, побледнел и как-то таинственно сказал:
– Ну, барин, худая эта примета у нас, промышленников; шибко худая! Не к добру она, вот помяни мое слово – не к добру!
Эта же примета существует и у промышленников Западной Сибири, почему они так и берегут сошки у своих винтовок.
– Полно, ты, дедушка, пророчить! Ну, что за беда, что сошка изломалась. На все у вас приметы какие-то глупые. Вот погоди маленько, всю беду поправлю: возьму нож, обрежу наравне другой конец, и вся недолга, вот и вся штука, только и будет, что сошки станут пониже, – сказал я.
– Ну нет, барин; там хошь верь, хошь не верь мне, старику, а только это примета худая, – настаивал старик и, видимо, запечалился.
Чтоб покончить этот разговор, я нарочно начал что-то спрашивать Маслова и помогал ему отабориваться, потому что он был в этом неопытен.
Так как солнышко было еще высоко, то мы все трое принялись таскать сушняк на дрова и нарочно не тюкали топором, чтоб не производить стука и не «опугать» места, так как время все-таки подходило уже к вечеру и имелась в виду охота на противулежащих увалах. Огонь мы развели тихонько, небольшой и скрыли его за группой больших деревьев. Поправившись табором, я уселся обрезать другую сошку, чтобы выровнять и заострить концы. Кудрявцева, видимо, брало нетерпение, он вскинул на плечо винтовку, подоткнул полы армяка и сказал: «Я пойду на увал, а ты поправляйся скорей да и приходи вон к той лесине, что на отдале-то стоит, внизу, под увалом. Там и сойдемся, покараулим и посмотрим, что делать, коли зверь выйдет; а теперь, брат, весна, он иногда рано выходит на солнце; вот и надо торопиться, чтоб пораньше уйти да не опугать».
– Хорошо, дедушка! Иди с богом, а я вот сейчас поправлюсь и приду, – отвечал я, обрезывая и подгоняя сошку, чтоб вернее надеть железные наконечники.
Кудрявцев ушел и живо скрылся из глаз. Маслов возился около таежных сум, резал мясо в котелок, прилаживал таган, но все это у него как-то не клеилось, выходило неумело, непрактично, почему он затруднялся в самых пустых приемах и со всякой малостью обращался ко мне с вопросами, что отвлекало меня от работы, и я замешкался. Покончив с сошками и приладив их к винтовке, я заметил, что опоздал, потому что солнце уже садилось и освещало последними лучами только одни верхушки гор. Делать было нечего: чтоб не испортить охоты, я решился остаться у табора и помогать Маслову.
Котелок с мясом убитой козули давно уже кипел и возбуждал аппетит. Мы лежали у огонька, тихонько разговаривали и прислушивались – не «стрелит» ли дедушка. Но выстрела не было, и мертвая тишина точно давила окрестность; только в огне потрескивали дрова и шипели сучки, отделяя продолговатые язычки пламени и синеватый дымок. Покуривая трубочку и все еще прислушиваясь ко всякому шороху, я заметил, что лошади, привязанные у деревьев, стали прядать ушами и поглядывать в ту сторону, куда ушел старик; а Серко, тоже привязанный к дереву, поднял голову и тихо замахал хвостом. Время еще было не позднее, заря не догорела, с охоты возвращаться рано, и потому меня удивила чуткость лошадей и скрытая радость собаки. Но оказалось, что животные не ошиблись – маленько погодя Маслов заметил, что по долине плетется Кудрявцев, который то останавливался, нагибался, то снова медленно и неровно шагал, точно его побрасывало во все стороны.
Заметя это, меня бросило в жар и какое-то предчувствие точно подсказывало на ухо – не быть добру! Как ни старался я отделаться от этой мысли, но она не выходила из головы, а сердце как-то щемило, и оно усиленно токало.
Но вот подошел и старик. Тихо поставил он винтовку к дереву и тихо, шатаясь, доплелся до огня и, придерживаясь за мое плечо, сел на разостланный подседельник. Лицо его было и бледно и темно, губы посохли и потрескались, но глаза как-то сухо горели.
– Худо мне, барин; шибко худо! Сам – то горю, то знобит, а сердце – как льдина; да и бьется как голубь, точно выпрыгнуть норовит из-за пазухи. Нет ли горяченького чайку, дай, пожалуйста.
Медный чайник давно уже кипел, я живо заварил чай, налил в деревянную походную чашку и подал старику, но он был уже так слаб, что лег на потник и его начало трясти. Маслов подложил ему под голову мою подушку, накрыл старой шубенкой, а я старался напоить его чаем. Но старика стошнило; он несколько успокоился и немного уснул, но сон был тревожный и с бредом.
Со мной была небольшая аптечка, но я растерялся и не мог сообразить болезни, а потому и не знал, что дать больному.
Разбираясь в аптечке, я нашел хину, слабительное, рвотное – как вдруг старик что-то забормотал, бойко вскочил на ноги и грубо закричал: «Давай спирту!»
Как ни старался я уговорить Кудрявцева, но он не понимал моих слов и требовал спирта. Что было делать с таким пациентом, – я положительно недоумевал. Спирт хоть и был в большой дорожной лаговке, но я боялся дать старику такого снадобья и едва уговорил его лечь. Тогда он пришел в себя и стал объясняться толково. Он жаловался, кроме того, на то, что у него сильно болит голова и что его крепит. Я тотчас дал ему английской соли, а к голове привязал компресс. Надо заметить, что в то время, когда мы возились со стариком, его сердитый Серко бросался на цепочке, грыз ее, лаял и готов был нас растерзать, так что поневоле приходилось оглядываться, но прикрепить его не было возможности, и мы боялись, чтоб он не оторвался. Старик уснул и пропотел. Я уже радовался такому исходу и принялся хозяйничать с помощью Маслова, я отвязал лошадей, спутал и отпустил на траву. Видя, что старик уснул, мы принялись ужинать и, чтоб задобрить сердитого пса, бросили ему косточки, но он не съел ни одной и злобно зарычал.
Не успели мы закусить, как проснулся старик, снова вскочил на ноги и снова стал грозно требовать спирту.
Так как никакие увещевания не помогали, то пришлось воевать, и мы силой положили старика и хотели связать, но он опять пришел в себя и попросил напиться. Затем лег поближе к огню и стал говорить, сначала путаясь и извиняясь в своих поступках, что он узнал из наших слов, а потом начал просить меня о том, чтоб я немедленно ехал на Карийский промысел и послал оттуда лекаря или фельдшера, так как он чувствует, что ему вожаком нашим не быть, а обратно не выехать.
Дело принимало критический характер, и Маслов был бледен как полотно.
Кудрявцев, придя в совершенное сознание, настаивал на своей просьбе.
Было уже за полночь, и тихая, свежая погода предвещала хорошее утро. Мы успокоились и толковали со стариком – что делать?
– Слушай-ка, барин, – упрашивал Кудрявцев, – поезжай, пожалуйста, на Кару, я тебе расскажу, как отсюда выехать, ты поймешь и доедешь, а Маслов заблудится. Он в тайге небывалый, да и разум не тот, пожалуй, не поймет дорогу и, храни бог, сам погинет (погибнет). Он останется со мной, а ты как приедешь, посылай скорее фершала; тебя знают и послушают, а я вот расскажу тебе, как доехать до места.
И старик так отчетливо принялся рассказывать новую дорогу, чтоб ближе выехать прямо на Верхнекарийский промысел, что невольно каждое его слово врезывалось в память. Я успокоил его тем, что, как только начнет светать, я оседлаю коня и отправлюсь, а что ночью по неизвестному пути, пожалуй, собьюсь и заблужусь сам. Это успокоило старика, и он опять уснул, хотя и тяжелым, нервным сном.
Во все время этого рассказа Маслов сидел как приговоренный к смерти и трясся как осиновый лист.
Но заметя, что старик уснул, он нервно заплакал и стал меня упрашивать, чтоб я не ездил один, а взял его с собой и что он один со стариком ни за что не останется.
Сколько мне стоило труда убедить Маслова, что этого сделать невозможно и ехать за помощью необходимо. Оставить же Кудрявцева одного, больного и с такими припадками – немыслимо и грешно. Он может убежать в лес, затянуться в чащу, упасть в огнище, застрелиться, наконец утонуть в речке и прочее, словом, собрал все, что приходило в голову и что может случиться с несчастным больным. Но Маслов не хотел слушать и твердо заявил, что он не останется. Тогда я предложил ехать на Кару ему, так как он слышал, как отсюда выехать, а что я останусь здесь. Но не помогало и это, – Маслов был непоколебим в своем решении. Я уже стал стращать его тем, что если мы уедем оба, а со стариком случится какая-либо беда, то все равно нас не оправдает за это закон, а совесть будет мучить до гроба. Тут Маслов начал убеждаться, но говорил, что он лучше бы поехал, но ему не выехать по рассказу, что он заблудится и погибнет в тайге, не принеся никакой пользы и нам.
Лучше всего подействовало на Маслова то обстоятельство, что больной долго спал без особых проявлений болезни, а я стал убеждать его тем, что бы он сказал и подумал о товарищах, если б такой недуг приключился с ним самим? Что бы было тогда с ним, если б я с Кудрявцевым оставили его одного, больного, среди тайги без всякой помощи? Видя податливость Маслова, я, наконец, решительно сказал ему так: «Слушай-ка, Маслов, ты сам теперь видишь, что кому-нибудь из нас ехать необходимо, а потому положимся на волю божию и нашу судьбу; давай бросим жребий. Кому выпадет, тому и ехать. Согласен?»
– Нет, нет! Ваше благородие, – почти закричал Маслов. – Уж, если так угодно господу, то поезжайте вы, а я останусь; да и теперь, как видно, дедушке получше, а мне не выехать.
Судьба ли, воля ли господа решила этот приговор, только дело было покончено, и – увы! – это решение было преддверием несчастья Маслова, а быть может, и старика.
Коротки майские ночи, так что не успели мы соснуть, хоть на один глаз, как черкнула утренняя заря, а с нею защебетали кой-где по лесной чаще и мелкие птички. Проснулся и старик; но пробуждение его было болезненно, тяжело. Он едва мог проговорить: «Дайте испить; во рту все посохло, губы сгорели».
Мы дали напиться, и я спросил: «Ну что, дедушка, как ты себя чувствуешь?»
– Плохо, барин, шибко плохо, – отвечал Кудрявцев, и с этим ответом он почувствовал действие английской соли. Мы помогли старику, и я душевно порадовался. Ему действительно сделалось получше, и он просил меня пустить ему кровь, зная, что у меня есть с собой ланцет.
Долго не думая, я тотчас достал инструмент и посадил старика на потник, спиною к дереву. Маслов придержал больного, помог обнажить левую руку и что-то набожно шептал. Я снял с себя простой крестьянский чулок, растер руку больного, перевязал поясным ремешком выше локтя и принялся за операцию. Но – увы! – как я ни бился, а крови пустить не мог. Из ранки ланцета показывалась не кровь, а какая-то черная как деготь жидкость; тотчас сгущалась, засыхала и не бежала, как это бывает при кровопускании. То же повторилось и с правой рукой. Словом, как мы ни бились, уже вместе с Масловым, но ничего у нас не вышло, – то ли от нашей неопытности в фельдшерском искусстве, то ли болезнь слишком усилилась, и мы опоздали. Судить об этом не могу и предоставляю на суд читателей, быть может, и доктора. Я утешаю себя тем, что я по своему разуму сделал все, что мог, и совесть моя спокойна.
Больной вообще ужасно ослабел, соболезновал, что мы не могли вскрыть крови и, в свою очередь, утешал нас тем, что «это ничего; это (то есть болезнь) со мной случалось уже не один раз, но бог проносил. Однажды этак-то меня взяло, на промыслу же (на охоте), одного, как есть одного, а к тому же непогодь была, – да я наболтал соли с водой, выпил, вот и полегче стало, а то тоже думал, что у смерти близко, ей оборки топчу», – говорил старик, и – диво! – узнаю тебя, русский серый мужичок! – еще ты пошутил с нами последним словом!..
Вот стало светать. Мы вскипятили чайник, выпили по чашке, но старик отказался и снова просил меня, чтоб немедленно ехал на Кару и послал оттуда фельдшера.
Я успокоил Кудрявцева, что сейчас поймаю коня и поеду, но просил его рассказать еще раз, как выехать из тайги, желая этим проверить и старика, и себя. Кудрявцев сел и снова повторил свой рассказ с такою точностью и наглядностью, что я удивился и вместе с тем убедился в том, что он рассказывает в полной памяти в здравом уме; это обрадовало и успокоило нас, почему Маслов стал повеселее, ибо он видел, что старик вторично передал путь выезда почти слово в слово.
Долго не думая, я тотчас поймал коня, оседлал, взял винтовку, помолился богу и сказал Кудрявцеву: «Ну, дедушка, оставайся с богом; будь здоров, а теперь пока простимся, да благословляй меня в путь, чтоб скорее выехать».
Мы поцеловались. У нас обоих навернулись слезы. Старик крепко, сколько мог, обнял меня за шею, еще раз поцеловал и, благословляя, сказал: «Бог тебя благословит, барин, – путь тебе дорогой. Коль помру, то не поминай лихом да помолись по душе…» Дальше я уже не слыхал, что бормотал Кудрявцев, потому что, поцеловавшись с Масловым, я живо сел на коня, перекрестился и поехал. Слезы меня душили, сердце словно замерло, и я худо видел, куда ехать.
Таежный мой конь, Савраско, обладал замечательно поспешной и покойной иноходной поступью, так что, отъехав версты три, – я несколько пришел в себя от грустных впечатлений прощания и тогда только заметил, что весеннее солнце осветило уже верхушки гор и точно брызнуло золотистыми лучами по росистой зелени, которая каймила верхние окраины, тогда как ниже этой линии кусты и деревья казались темными и точно недовольными тем, что они растут ниже своих собратов. В тайге было так тихо, что я только слышал торопливый «потоп»; коня и журчание близ текущей речки Топаки.
Надо удивляться той способности старика, с какой он передал мне весь новый для меня путь по тайге на расстоянии почти 50 верст. Заметьте путь без дороги, – их в тайге не существует, а есть более или менее тропы, которые пересекают долины и горы во всевозможных направлениях, взбираются на крутые хребты, теряются на каменистых россыпях, сползают под крутые утесы, лепятся по карнизам и точно перепрыгивают чрез речки…
Помня рассказ Кудрявцева, я редко задумывался, потому что мне попадался на глаза непременно тот предмет, на который указывал старик, – либо выдавшийся утес, либо с корнем вывороченное дерево, либо громом разбитая лесина, либо озерко, или локоть выдавшегося кривляка речки, – словом, я знал, где мне поворотить направо или налево, где переехать брод и так далее.
Так я ехал уже несколько часов, ни разу не останавливался, курил на езде, а об закуске и не думал. Душевная истома отняла весь аппетит и даже жажду, несмотря на то, что у меня сохло во рту и все тело горело. В одном месте я соблазнился, увидав бегающих на току косачей. Я слез с коня, выстрелил из винтовки, но промахнулся, и этот промах точно подсказал мне, что теперь не до охоты, и я, заскочив на Савраска, бойко похлынял далее. Проехав уже более половины, я вдруг в кустах услышал шелест и треск. Меня передернуло, и я думал, что не медведь ли тут разгуливает; но оказалось, что шли тропинкой двое беглых, которые, заметив меня, быстро своротили в чащу, а когда я поравнялся с ними, то один из них вышел на дорожку и, сняв шапку, сказал: «Здравия желаю, ваше благородие!»
Меня ужасно поразило то, как этот человек мог узнать меня, так как я был одет уж вовсе не по-благородному. На мне были плисовые шаровары, черная крестьянская шинель (армяк), на ногах простые кунгурские сапоги, а на голове козья охотничья шапочка (орогда, как здесь называют). За плечами же висела сибирская с сошками винтовка. Видимо, что эти люди бежали с Карийских золотых промыслов, на которых я уже не служил около четырех лет.
– Здравствуй, брат, – отвечал я. – Как ты меня знаешь?
– Гм… – сказал бродяга, – знаю; да и кто вас здесь не знает?