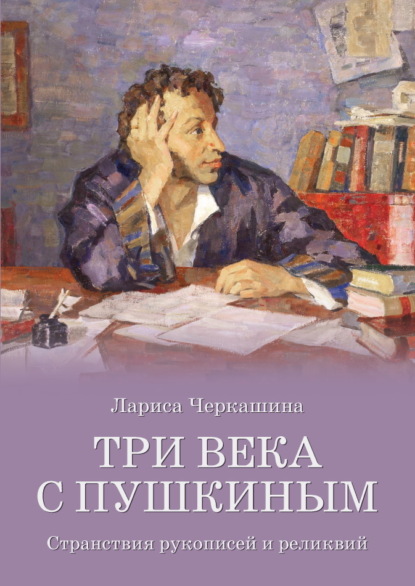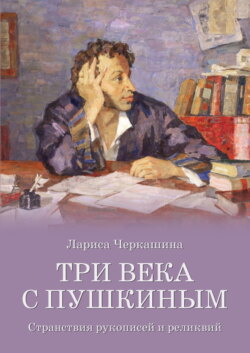
000
ОтложитьЧитал
Моим сыновьям Филиппу и Дмитрию

В оформлении книги использованы портреты, гравюры и фотографии из собраний Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Всероссийского музея А.С. Пушкина, Государственного музея А.С. Пушкина, Литературного музея А.С. Пушкина (Вильнюс), Государственной Третьяковской галереи, частных коллекций.
Все цитаты в книге приводятся с сохранением орфографии и пунктуации оригинала.
Названия фондов даны по задумке автора, но приведённые в книге свидетельства и документы – подлинные, хранящиеся в российских и зарубежных архивах.
На обложке книги представлена картина заслуженного деятеля искусств Н.П. Ульянова «Пушкин за рабочим столом» (1936).
На титуле представлена картина народного художника Российской Федерации Б.А. Диодорова «Пушкин в Погорелом Городище» (2021).

© Черкашина Л.А., 2023
© ООО «Издательство «Вече», 2022
Предисловие
Кажется, жизнь Александра Пушкина известна не только по месяцам, дням, но даже и по часам. И всё же есть место открытиям и новым находкам. Свидетельство тому – эта книга, которую вы, дорогой читатель, держите сейчас в руках. Стоит её раскрыть, чтобы убедиться: многое, что рассказано в ней, прозвучит впервые.
Исторические открытия свершаются ныне, как правило, в архивах – и не только в государственных, но и в частных, фамильных. Архивные тайны – не фантазии, они реально существуют. Словно в доказательство собрания древних раритетов, подобно Балтийскому морю, время от времени «выплескивают» на отмели янтарные «самоцветы»: неведомые рукописи, письма, документы… Архивы обладают невероятной магической силой. Власть подлинного документа завораживает.
Архив не отпускает, он, как живое существо, подбрасывает новые загадки, поддразнивает, увлекает в свои дебри, кружит. И не сойти, не свернуть с архивной тропы… В собрании древностей можно увязнуть или «зарыться», по признанию самого Пушкина, на месяц, а то и на полгода!
Архивы схожи с античными Помпеями: свои раскопки, свои археологи-архивисты и огромный нетронутый исторический пласт! Ведь и древний город, погребённый под пеплом на целые тысячелетия, откопан всего лишь на треть. И как тут не вспомнить Пушкина, его шутливое признание жене: «Жизнь моя пребеспутная! Дома не сижу – в Архиве не роюсь». Замечу, поэт пишет слово «архив» уважительно, с прописной буквы!
Важно, сам Пушкин ценил магию неведомого подлинника: «Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были не что иное, как отрывок из расходной тетради или записка к портному об отсрочке платежа. Нас невольно поражает мысль, что рука, начертавшая эти смиренные цифры, эти незначащие слова, тем же самым почерком и, может быть, тем же самым пером написала и великие творения – предмет наших изучений и восторгов».
Знаковое откровение! Древняя грамота, летописная страница или стародавний царский указ – для поэта «предмет… изучений и восторгов».
Вспомним, как посмеивался Пушкин над иностранцами-дилетантами, писавшими о незнаемой ими русской жизни. Даже над любимым Байроном: его герой едет русской зимой «в Петербург в кибитке, беспокойной повозке без рессор, по дурной, каменистой дороге». И справедливо пенял знаменитому шотландцу, никогда не видевшему России: «Зимняя кибитка не беспокойна, а зимняя дорога не камениста». Потому-то Пушкин и отправился в Погорелое Городище, чтобы воочию увидеть край земли, соединённый с судьбой одного из его предков.
История та восходит к XVII веку, к Смутному времени. В декабре 1826-го по пути в Москву Пушкин посетил небольшое селение Тверской губернии Погорелое Городище. Поэт заехал в старинный посад, который некогда оборонял Гаврила Пушкин, с целью разыскать фамильные документы, уцелевшие с тех далёких времен. В 1617 году, когда войска польского королевича Владислава в большой силе подступили к крепости Держиславль (так тогда именовался посад), воевода Гаврила Пушкин приказал её сжечь, но не оставлять полякам. Грамота, найденная поэтом, была жалована Михаилом Фёдоровичем, первым царём из Дома Романовых, в 1621 году и освобождала жителей сгоревшего посада от податей.
«Нашед в истории одного из предков моих, игравшего важную роль в сию несчастную эпоху, я вывел его на сцену, не думая о щекотливости приличия… но безо всякой дворянской спеси» – так писал поэт о своём именитом предке в черновых набросках задуманного им предисловия к «Борису Годунову». Воеводе Пушкину суждено было стать одним из героев трагедии, имевшей небывалый успех: «Он был всем, чем угодно, даже поджигателем, как это доказывается грамотой, которую я нашёл в Погорелом Городище – городе, который он сжёг…»
Ставшие хрестоматийными пушкинские строки: «Гаврила Пушкин – один из моих предков, я изобразил его таким, каким нашёл в истории и в наших семейных бумагах. Он был очень талантлив – как воин, как придворный и в особенности как заговорщик».
Не случайно Александр Сергеевич как-то признался: «Я чрезвычайно дорожу именем моих предков, этим единственным наследством, доставшимся мне от них». И столь же светлое незапятнанное имя, как нетленное достояние, мыслил передать будущим потомкам. Пушкин пытался прозреть их будущность, надеясь и веруя, что та, «веков завистливая даль», будет ясной и безоблачной.
Не случилось. Судьбы детей, внуков и правнуков поэта сложились подчас трагично. Как трагичен был и сам ХХ век, выпавший на их долю. Но важно, никто из них не посрамил память великого предка, никто не отрёкся, даже в изгнании, от любви к нему, а значит – к России.
Фонд Манускриптов
Как канарейки спасли «Петра Великого»
На волю птичку выпускаю…
Александр Пушкин
Три сестры из Лопасни
Летом достопамятного XVII в Лопасне приключилась история, коей суждено было войти первой строкой в летопись Пушкинианы ХХ столетия! Как ни парадоксально, но свою лепту в «находку века» внесли обыкновенные… канарейки.
Заповедная усадьба Лопасня-Зачатьевское, входящая ныне в подмосковный Чехов, имеет свою давнюю историю. Возведённый в середине XVIII века в стиле барокко усадебный дом, окружённый чудесным ландшафтным парком с живописными каскадными прудами, принадлежал некогда генералу Николаю Васильчикову, герою войны 1812 года.
Жена боевого генерала Мария Петровна приходилась родной сестрой Петру Петровичу Ланскому, ставшему после смерти поэта супругом его вдовы. Дочь Васильчиковых Екатерина венчалась в фамильной церкви Зачатия Праведной Анны с Иваном Гончаровым, родным братом Наталии Николаевны. Да и старший сын поэта Александр был связан родственными узами с Ланскими: женат был на Софье Александровне, племяннице отчима.
Пушкин никогда не бывал в Лопасне, но именно эта старинная усадьба, а не Михайловское или Тригорское, не Берново либо Малинники могла бы быть самой любимой поэтом… При одном, заведомо невыполнимом условии: доведись Александру Сергеевичу знать, что неведомая ему подмосковная вотчина станет родной для его внуков и правнуков. Не зря ведь, «Пушкинским гнездом» именовали в народе усадьбу Лопасня-Зачатьевское.
Двойное название имения мистическим образом отразилось и в двойственной природе усадебного парка. Один – привычный, некогда регулярный, старый заросший парк, второй – невидимый глазу… Но вопреки своей метафизической сущности столь же реальный, и аллеи в нём именные, родословные: Васильчиковых, Ланских, Пушкиных, Гончаровых. Кроны фамильных древ сомкнулись, раскидистые ветви причудливо переплелись.
В начале ХХ столетия тогдашние владелицы имения – три сестры Екатерина, Наталия и Надежда, – дочери Ивана Николаевича Гончарова, слыли большими любительницами канареечного пения: в гостиной, недалеко от камина, висела большая клетка с голосистыми птахами. В их гостеприимном доме в лихолетье Первой мировой и нашло приют всё семейство Григория Александровича Пушкина, внука поэта, состоявшее из его супруги Юлии Николаевны и пятерых сыновей. Стоит пояснить: старшие из сыновей Юлии Пушкиной носили фамилию её первого мужа – Катыбаева.
Летом 1917-го тётушки Гончаровы давали урок французского братьям Катыбаевым: Фёдору и Николаю. Десятилетний Николай первым приметил листы плотной голубоватой бумаги, проложенные между прутьями клетки и стеной так, чтобы птицы не могли щипать обои. Странные большие листы были сплошь исписаны какими-то коричневыми чернилами. После занятий Николай попросил у горничной точно такой же бумажный лист, нужный ему якобы для воздушного змея. Горничная отвела мальчика в подвал, в кладовую, где из деревянного, окованного железом сундука и вытащила заветный листок.
Едва дождавшись субботы, когда из Москвы со службы приехал отчим Григорий Александрович, Николай взахлёб рассказал ему всё – и о канарейках, и о старой бумаге, и о потайном сундуке. Тот, только взглянув на исписанный лист, воскликнул:
– Дети! Да ведь это рукопись моего деда, и по всему, вероятно, «История Петра»!

Усадьба Лопасня-Зачатьевское, где была найдена пушкинская рукопись «История Петра». Фотография автора. 2014 г.
Так были спасены от бесславной кончины исторические заметки поэта о Петре I, составившие позже целый том в академическом собрании сочинений. И названные «находкой века»!
«Кроме повестей, о которых в письме вашем упоминать изволите, – предварял Александр Сергеевич свои известные «Повести Белкина», – Иван Петрович оставил множество рукописей, которые частию у меня находятся, частию употреблены его ключницею на разные домашние потребы. Таким образом прошлою зимою все окна её флигеля заклеены были первою частию романа, которого он не кончил».
Не предвидение ли то печальной судьбы собственной рукописи, чуть было не пущенной «на разные домашние потребы»?!
«Овсянка» и «серебряная россыпь»
История нежданного обретения рукописи схожа с рождественской сказкой. Со счастливым концом, ведь архивные труды Александра Сергеевича не канули в Лету. И тем спасением (в какой-то мере!) отечественная словесность обязана малым певчим птахам!
Нет, недаром Пушкин знал и любил птиц, не единожды отдавая им поэтическую дань. А помимо стихотворных строк даровал порой и сладкую свободу:
В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью;
За что на Бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!
Как ни странно, есть исследователи, кои уверяют: на Благовещение Пушкин выпускал из клеток… канареек!
Нет, канарейки – птицы домашние, южные, и на воле, в холодной России, им не житьё. А для той благой цели продавались иные птахи. «В Страстную неделю и в неделю Светлого Воскресения разносят птичек в клетках, как-то: жаворонков, синиц, подорожников, – писал историк, – и продают их, с условием на выпуск».
С этими пушкинскими стихами связано иное, укоренившееся заблуждение. Правда, птиц на Руси принято было выпускать на Благовещение. Но в Петербурге бытовала иная традиция: свободу пернатым пленницам даровали на Пасху, в день Светлого Христова Воскресения. Да и сам Пушкин из Бессарабии, «чужбины», напоминает о том Николаю Гнедичу: «Знаете ли вы трогательный обычай русского мужика в Светлое Воскресение выпускать на волю птичку? вот вам стихи на это…»
В том 1823 году Пасха, «светлый праздник весны», пришлась на 22 апреля, а пушкинская «Птичка» «вспорхнула» на бумажный лист ровно через три недели, в воскресный майский день. Но вот какой птице Пушкин даровал тогда, в апрельском Кишинёве, свободу? Этого уж не узнать. Однако точно не канарейке.
Да, крохи-певуньи родом с испанских Канарских островов (увы, не «вольные птицы»!) были любимы многими русскими семьями, но особо знали и ценили их мелодичные трели Гончаровы. Да и сама их фамильная усадьба, вернее, село Полотняный Завод Медынского уезда Калужской губернии, славилось на всю Россию своим канареечным промыслом. С младенчества слышала пение жёлтых птах, все их благозвучные переливы и россыпи, Наташа Гончарова, равно как и пятеро её братьев и сестёр. Любопытна краткая запись, уцелевшая в фамильном архиве: «Пять пар кинареек (sic!)». Пометку сделал для памяти Афанасий Николаевич, купивший на ярмарке певчих птиц для любимицы-внучки Ташеньки. Как радовалась дедушкиному подарку девочка!
Наслаждался канареечными трелями и сам Александр Сергеевич, бывая в Полотняном то на правах жениха, то как отец семейства. Дети поэта, сызмальства жившие в калужской усадьбе, могли созерцать маленьких певуний в изящных клетках, развешенных в кабинетах и гостиных господского дома.
Что и говорить, канарейки из Полотняного Завода заслуженно снискали славу как необычным строем самой песни, так и особой её задушевной мелодичностью.
Начиналось пение с переменного, тихого входа нескольких музыкальных фраз, колен. Вначале шло колено, именуемое «овсянкой», затем слышался сладкозвучный тур «валик», плавно перетекавший в чудесную «серебристую россыпь». Песня звенела, набирала силу, рвалась вверх: знатоки различали птичьи колена, имевшие свои особые названия: «колокольчик», «кулики», «дудка». Низкой, густой либо, напротив, высокой звонкой трелью и завершался канареечный концерт. Под одобрительный гул и восторженные возгласы благодарных слушателей.
Бытовала своя «канареечная школа». Обучение пению начиналось так: подросших молодых самцов отделяли от самок; подвешивали клетки с «молодёжью» близко к испытанному, знающему своё дело певцу, дабы «солисты» перенимали от «старика» музыкальные премудрости. Да и сами заводчики обучали пернатых питомцев, наигрывая для будущих «звёздочек» красивые мелодии на особом органчике или насвистывая на дудочке.
Не только купцы да приказчики, но и фабричные рабочие занимались полюбившимся в этом Калужском краю занятным промыслом. Ездили торговать «певучим товаром» в разные российские города, а иные смельчаки добирались и до Китая. Канареечный же промысел (или «канареечную охоту») величали не иначе как «изящным».
Но чаще за молодыми кенарями наезжали в Полотняный Завод скупщики. Вот обычное газетное объявление тех лет: «Пятьсот штук канареек только что привезены из Калуги, отлично поют днём и при огне…» Цифры впечатляют: каждый год из Полотняного Завода «разлетались» по городам и весям до четырёх тысяч канареек! Вот уж, «певчая столица» России!

Гостиная лопасненского дома. Фотография автора. 2015 г.
Самочки ценились дешевле, а кенари – много дороже. На особо выдающихся певцов цена доходила до пятидесяти рублей за особь. По тем временам – цена высочайшая. За искусного кенаря не скупились порой отдать и породистого жеребца!
…Экскурс в недавнюю нашу историю. В ХХ веке, вернее в постреволюционной России, любовь к канарейкам стала стремительно угасать. Да и самих милых певуний объявили вдруг «символом мещанства»! Особо звал на борьбу с «оголтелыми канареицами» Владимир Маяковский:
Скорее
головы канарейкам сверните —
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!
Да, поистине страшная «угроза» нависла над светлым и радужным будущим! Любопытно, стихи пролетарского трибуна явились на свет через столетие после пушкинской «Птички». В одних – призыв «свернуть головы» – надо полагать, не одним канарейкам (!); в других – даровать свободу, и не только птахам.
Коммунизм «был побит» отнюдь не канарейками! Прорастёт через все невзгоды иное столетие, и в возрождённом из послевоенных руин дворце-музее Гончаровых в Полотняном Заводе вновь защебечут былые любимицы.
…Но вернёмся в подмосковную Лопасню. Тётушки Гончаровы, хозяйки имения, доводились родными племянницами Наталии Николаевне. Как у всего фамильного клана Гончаровых, любовь к канарейкам была у них в крови. Нельзя исключить, что канарейки из Лопасни (те самые, что «спасли» пушкинскую рукопись!) имели своих «прародительниц» из Полотняного Завода. Связь-то самая что ни на есть прямая, родственная!
Архивная магия
А начиналось всё с архивов. Сколько часов, дней, недель провёл Пушкин в их недрах! Это увлекательнейшее для историка занятие сродни, быть может, игорному азарту!
Образ царя-реформатора волнует, будоражит воображение: Пушкин уже давно пытается облечь деяния Петра не только в поэтическую ткань, но и в строгую историческую прозу.
Мысль о том зрела у Пушкина давно, чему свидетельством дневниковая запись Алексея Вульфа от сентября 1827 года: на рабочем столе, за коим сидел поэт, «в молдаванской красной шапочке и халате», среди прочих книг заметил мемуарист и «Журнал Петра I». А сам Пушкин делился тогда с приятелем новым и необычным замыслом.
Цель трудна и почти недостижима – возродить из небытия образ русского исполина. Но не привычным путём воспевания и возвеличивания царя-преобразователя России. Славословиями не оживить фигуру Петра – бронзовую ли, восковую ли «персону», – не наполнить её животворными силами, не вдохнуть жизнь… А лишь воскрешая былые дни из крошечных, разлетевшихся во времени фрагментов, каждый из которых должен занять свою нишу бытия. Только так, подобно археологам, можно вновь слепить из осколков античную вазу или амфору, воссоздать целостность первообраза. Всё это сродни некоему чародейству!
Пушкина легко представить чернорабочим архивных недр. Какое же великое множество забытых челобитных, указов, жалоб, реляций пришлось ему буквально перелопатить, чтобы повернуть вспять течение времени и, в нарушение незыблемого закона, дважды войти в одну реку!
Работа без оглядки на сиюминутные реалии, на строгость цензуры, это работа – на вечность.
Не «архивный государь», но могучий, полный праведной ярости русский царь врывается в жизнь со страниц «Полтавы»!
Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Пётр. Его глаза сияют.
Лик его ужасен. Движенья быстры.
Он прекрасен,
Он весь как божия гроза.
Идёт. Ему коня подводят.
Вот уже медный Пётр, августейший всадник, оглашая звоном копыт петербургские мостовые, мчится за дерзким безумцем:
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы?
Но гениальные строфы рождены буйством поэтической фантазии! Иное дело – историческая проза, строгая, документальная. Дабы архивы смогли приоткрыть свои тайны, «доверив» их отважному незнакомцу, нужно разрешение самого государя. Николай I дозволение дал, о чём Пушкин в июле 1831 года радостно сообщает другу Нащокину, из Царского Села в Москву: «Нынче осенью займусь литературой, а зимой зароюсь в архивы, куда вход дозволен мне царём. Царь со мною очень милостив и любезен».
Следом летит письмо в Петербург Петру Плетнёву: «Кстати скажу тебе новость… царь взял меня в службу – но не в канцелярскую, или придворную, или военную – нет, он дал мне жалование, открыл мне архивы, с тем, чтоб я рылся там и ничего не делал. Это очень мило с его стороны, не правда ли? Он сказал: Puisqu’il est marié et qu’il n’est pas riche, il faut faire aller sa marmite[1]. Ей-богу, он очень со мною мил».
Время движется своим чередом: Александр Сергеевич зачислен в Коллегию иностранных дел, допущен к работе в архивах. Знакомцы поэта спешат оповестить о знаменательном событии. Вот и Орест Сомов, критик и журналист, делится своими восторгами с приятелем: «Скажу вам приятную новость: Пушкин сделан историографом Петра Великого, причислен к Иностранной Коллегии, и велено открыть ему все возможные архивы… Спасибо Царю за Пушкина».
Новость, однако, не всеми принималась столь ликующе. Так, Александр Яковлевич Булгаков, московский почтовый директор, с иронией замечал в письме к брату Константину: «Лестно для Пушкина заступить место Карамзина, ежели только правда это. Пусть употребит талант свой, ум и время на дело полезное, а не на вздорные стишки, как бы ни были они плавны и остры».
У Пушкина – не одни злопыхатели, явились и… конкуренты. Уже давно «возделывает» сию ниву – воссоздание деяний Петра на фоне его эпохи – оппонент поэта Павел Свиньин. Литератор, он же историк и собиратель древностей. Павел Петрович крайне раздосадован, что Пушкин вторгся в его область, как он убеждён, безо всяких на то прав. «Читали ли вы повести Белкина? Как Вам кажутся? – риторически восклицает он. – По-моему, проза не поддержит славы творца Руслана, и я не понимаю, как Правительство могло возложить на поэта дерзкого, своенравного, прихотливого – писать Историю Петра Великого (если это правда!). Удивляюсь, как и Пушкин взялся за предмет столь трудный, скучный, многодневный? Впрочем, чему дивиться: нынешним Гениям всё возможно: он, чай, не откажется пойти в Адмиралы?»
Верно, не зря в эпиграмме «Собрание насекомых» Пушкин так метко окрестил Свиньина «российским жуком»! Да и «героем» пародийной детской сказки «Маленький лжец» выведен всё он же, «лжец» Павел Петрович.
Однако все те досужие разговоры, если и долетали до ушей поэта, не могли охладить его исследовательский пыл: он всецело поглощён открывшимся перед ним новым увлекательным поприщем. На исходе 1831-го Николай Языков пишет брату: «Пушкин только и говорит, что о Петре… Он много, дескать, собрал и ещё соберёт новых сведений для своей истории, открыл, сообразил, осветил и прочее…»
Отголоски тех кропотливых архивных розысков в письмах поэта к жене: «Ты спрашиваешь меня о «Петре»? идёт помаленьку; скопляю матерьялы – привожу в порядок – и вдруг вылью медный памятник, которого нельзя будет перетаскивать с одного конца города на другой, с площади на площадь, из переулка в переулок».
«С генваря очень я занят Петром».
«В Архивах я был и принуждён буду опять в них зарыться месяцев на 6; что тогда с тобою будет? А я тебя с собою, как тебе угодно, уж возьму».
По слову Пушкина, и сбылось: ныне ученические тетради Наташи Гончаровой стали достоянием Российского государственного архива! Теперь на соседних стеллажах рядом с древнейшими манускриптами хранятся и тетрадки юной Натали. На их последних страницах, исписанных круглым детским почерком, синеют маленькие прямоугольники штампов: «Государственных архив древних актов». Записи будущей избранницы поэта стали достоянием истории, документами государственной важности.
История – дама с причудами: в особняке на Большой Пироговке хранится не только доставленный из калужской усадьбы Полотняный Завод «Фонд Гончаровых», но и перешедший туда архив Коллегии иностранных дел, документы коего Пушкин тщательно изучал во время работы над «Историей Петра» и где на одном из дел сохранились его пометки.
Вот что любопытно, – «пустышка» Натали, как её «окрестят» в ХХ веке, знала о работе мужа над «Историей Петра», живо интересовалась, как продвигается его труд. И Александр Сергеевич поддерживал её интерес. Тем более что царь Пётр был почитаем в семействе Гончаровых: именно он способствовал зарождению их фамильного дела. Первый российский флотоводец Пётр I с отеческим вниманием следил за деятельностью Афанасия Гончарова, чему свидетельством обращённые к нему письма. В «Истории Петра» Пушкин не преминул упомянуть о том: «В 1717 году из Амстердама подрядил Пётр между прочим плотинного мастера и послал его к калужскому купцу Гончарову, заведшему по его воле полотняную и бумажную фабрику. Пётр писал Гончарову».
Прежде гостиную дворца в Полотняном Заводе украшал парадный портрет патриарха гончаровского рода: старец в напудренном парике с завитыми локонами, в бархатном камзоле. Острый ироничный взгляд, тонкие поджатые губы – портрет скорее царедворца, нежели владельца многих заводов. В руке Афанасия Гончарова, как величайшая драгоценность, письмо Петра Великого!