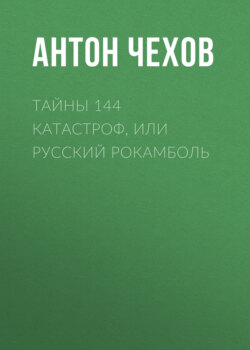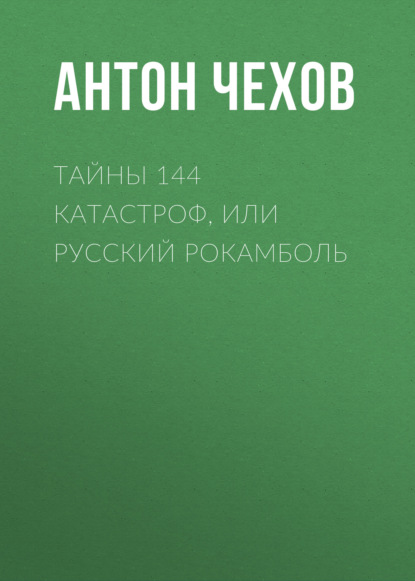Тайны 144 катастроф, или Русский Рокамболь
(Огромнейший роман в сжатом виде)
Перевод с французского
Глава I
Была полночь. Природа капризничала, как старая дева. Месяц зарылся в черные тучи и не глядел на землю. Осенний дождь с остервенением стучал в окна… Гнулись дубы и ломались сосны. Ветер стонал, как озлобленный, и рвал всё и вся…
Стонущие и воющие от ветра телеграфные проволоки несли из Таганрога в Скопин следующую телеграмму: «Скопин. Кавалеру ордена Льва и Солнца Рыкову. Всё погибло. Он донес. Я заключен в темницу. В таможне аресты. Ужасно! Напрасно Узембло не уступил ему этой женщины. Ответ не уплочен. М. Вальяно».
Прочитав эту телеграмму, Рыков побледнел, но пошагав немного, он улыбнулся. Лицо его прояснилось. Он позвонил…
Вошел слуга.
– Свентицкий еще не уехал? – спросил Рыков.
– Никак нет-с!
– Позвать его!
Минут через десять в кабинет Рыкова вошел высокий статный мужчина лет сорока. На его лице рядом со следами когда-то бывшей красоты светились мужество, страдания и нежелание покориться судьбе. Вошедши в кабинет, он почтительно поклонился. Рыков подал ему телеграмму.
– Ну, что вы скажете? – сказал он, когда тот прочитал телеграмму. – По-видимому, дела наши очень плохи. По-видимому, и меня ожидает участь Вальяно. Он может донести и на меня. Как вы думаете?
– Пррроклятие! – пробормотал сквозь зубы Свентицкий. – Этот человек любит женщину, которую я люблю. Я настаиваю на том же, на чем и настаивал: он должен умереть!!!
– Браво! Узнаю в вас моего храброго друга! Итак, действуйте. Его деньги в моем банке. Это заставляет его несколько бояться меня. Не так ли? Ха-ха! Его богатство в моих руках. Во-вторых, мы во всякое время можем донести на его дядю Свиридова, служащего в Киеве. Пригрозите ему этим доносом. У Свиридова на рыльце целая пуховая перина. В-третьих, мы знаем, где хранятся те деньги, которые стащил для него его другой дядя, казначей Московского воспитательного дома, Мельницкий. Эти деньги, триста тысяч, хранятся у одной из его… женщин. Дайте ему понять, что нам всё известно. Крутые меры приберегите к концу. Поняли?
– О, нет! – застонал инженер. – Он должен умереть! Недостоин он Маргариты, которая – увы! – любит его! Умереть!! Крови!!!
– Родители насильно выдают ее за Узембло?
– Да. Но она не послушает родителей. Для меня не страшен Узембло.
– Вальяно погубила любовь. Он тоже домогался Маргариты и погиб, как видите… Но из принципа не нужно уступать нашему общему врагу, хотя бы всем нам грозила участь Вальяно. Итак, действуйте… Пошлите телеграмму Узембло и Казакову. Пусть будут готовы. Вот вам пятьсот тысяч на расходы. Денежки славные, монастырские. Хе-хе… Будьте храбры и не унывайте, мой друг! Маргарита будет ваша! Где теперь наш враг?
– Он едет из Таганрога в Петербург. На пути он заедет к ней. Но… мы не допустим!
– И отлично. Адью, мой друг! Кланяйтесь нашим друзьям!..
По уходе Свентицкого Рыков застонал и схватил себя за волосы. По бледному лицу потекли слезы, подогнулись колени…
– Боже мой! – простонал он. – Прости меня! Эти люди – орудие в моих руках. Их преступлениями я добуду себе Маргариту! Я люблю ее больше жизни!..
Через пять минут дом Рыкова огласился рыданиями хозяина… Через шесть минут инженер Свентицкий катил на экстренном поезде к станции «Аневризма», где должны были ждать его Узембло и другие сообщники.
Глава II
В четыре часа той же ночи я, сидя в купе второго класса, мчался от станции «Аневризма» к станции «И вы не погибли?!». Я ехал со свидания. Уверения в любви и клятвы Маргариты звучали еще в моих ушах… Сладкие думы и мечты навеяли на меня дремоту… Я задремал, но не успел уснуть… Когда я закрыл глаза, в мое купе вошли две темные фигуры… Они постояли около меня и сели… Одна возле меня, другая vis-à-vis. Я начал разглядывать их. То были двое мужчин с длинными черными бородами. Оба были вооружены с головы до ног. Из их карманов выглядывали револьверы, ножи и банки с ядами. На спинах покоились прекрасные винтовки. Из-за фалд пальто выглядывали топоры, привешенные к поясам. В руках обоих было по длинной казацкой пике. Я задрожал. Кто они? Рассматривая их, я скоро заметил, что бороды их фальшивы, и в носе одного из них узнал нос Узембло.
«Аааа… Вы убить меня пришли? – подумал я. – Постой же!»
– Пока суть да дело, – пробормотал Узембло другому на ухо, – давайте развратим его нравы…
И подав мне номер «Гражданина», заложенный в номер «Шута», Узембло проворчал:
– Не желаете ли? Прелестные есть штучки!! Почитайте-ка!
В купе было не особенно светло, но я сумел вкусить предложенные продукты. Нравов себе я не развратил чтением и после него ничего не почувствовал, кроме изжоги.
– Прелестные журналы! – сказал я. – Люблю прессу! Ужасно! И нельзя не любить… Карает! Однако, черт возьми, ужасно разит моими духами!.. Зашел я недавно к Брокару, спрашиваю у него хороших духов, и он черт знает чего мне дал… Понюхайте-ка – какая гадость!
И я поднес к носу Узембло и его спутника, в котором я скоро узнал Свентицкого, флакон. Оба понюхали. Во флаконе был хлороформ. Мои враги задремали. Я дал им еще раз понюхать, и они оба крепко уснули. Скоро мы прибыли на станцию. На станции стоял встречный поезд, шедший к «Аневризме». Я взял в охапку моих врагов и снес их, уснувших, в один из вагонов встречного поезда… Злая насмешка! Узембло и Свентицкий уехали обратно. Утром я уже был в Петербурге. Гуляя по Невскому со своим другом Немировичем-Данченко, я встретился с отставным гвардии поручиком Миллером и инженером Казаковым. Увидев меня, Казаков захохотал от радости: уведомленный Свентицким, он шлялся по Невскому и искал погубить меня. Он нашел меня и потирал руки. Шедший с ним под руку Миллер тоже обрадовался, увидев меня. Я связан с ним теснейшими узами дружбы. Десять раз я спасал ему жизнь, и он был предан мне всей душой.
– Вечером прошу ко мне, – пригласил меня Казаков.
– Вечером я в «Аркадии»…
– Гм… Ну, а если вы по какому-либо случаю не будете сегодня в «Аркадии», то обещаете быть у меня?
– Обещаю.
В глазах Казакова засветилась радость. Он быстро простился с нами. Через двадцать минут горела «Аркадия», подожженная Казаковым. Этому злодею страстно хотелось, чтобы я был вечером у него, и он не остановился перед преступлением! Проходя мимо горевшей «Аркадии», я вытащил из пламени Родона, который за спасение жизни заплатил мне дружбой.
– Берегитесь Казакова! – шепнул мне Немирович-Данченко. – Он замышляет что-то недоброе. Если не верите мне как другу, то поверьте как глубокому психологу и физиономисту… Однако будем говорить тише… Нас подслушивает Баталин.
Я оглянулся… Сзади нас шел Баталин и пронизывал нас насквозь своими взглядами.
– Меня гнетет страшное предчувствие! – прошептал Миллер.
Я поверил моим друзьям и вечером не пошел к Казакову. Вечером я посетил в темнице моего друга и собутыльника, редактора Федорова. Я застал его молящимся… Этот человек нес кару за чужие преступления! Мы обнялись. От него я отправился с Миллером к князю Мещерскому. Почтенный князь за весьма умеренную плату отлично гадает на картах и кофейной гуще. Застали мы его за составлением мелочей для своего «Добряка». Взяв в руки карты, он предсказал нам победу. Казаков же в то время, когда мы гадали, метался у себя на кровати и голосил:
– Ну, постой же, Миллер! Я покажу тебе! Это ты подговорил мою жертву не приходить ко мне! Пропали деньги, которые заплатил я за синильную кислоту!
Глава III
«Москва, Страстной бульвар. Его полублагородию отставному портупей-юнкеру Эженю Львову-Кочетову. Поспешите прибыть на совещание. Он цел и невредим. Ждем. Продолжайте макать в разум. Ваш слог прелестен. Благодарный Свентицкий и Ко».
Кочетов, прочтя эту телеграмму, сел на поезд и покатил к «Аневризме». Ехал он в первом классе (билет был даровой) и утопал в мечтах. Он тоже любил Маргариту… Эта любовь погубила его. Прежде он был на «ты» с Рошфором и Араби-пашой, теперь же… благодаря этой любви, стоит в рядах моих врагов… О женщины, женщины!
На станции «Аневризма» был бал. Этот бал давался начальником станции, отцом моей Маргариты, для избранных друзей. Станция, будки, диски и сад, окружающий станцию, были иллюминованы. В комнатах гремела музыка. Она, моя Маргарита, прекрасная, чудная, дивная, прелестнейшая, как тысяча испанок, была царицей этого бала. Она освещала в тот вечер всю вселенную своей красотой и бриллиантами, которые всплошную покрывали ее упруго-гибкое тело… Я стоял в углу и пожирал ее глазами. Около меня стояли мой будущий посажёный отец Н. П. Ланин и редактор «Русских ведомостей» Соболевский, которого я имел в виду пригласить в шафера.
– Хорошо вам, ей-богу! – говорил я Ланину. – Газета своя, шампанское свое… Хочешь читать – читай хоть целый день, хочешь пить – пей сколько влезет… Хорошо!
– Мм-да… – говорил Ланин, самодовольно улыбаясь и любуясь моей Маргаритой.
Впереди нас Лентовский дергал за рукав Родона и говорил ему:
– Едемте! Вам нужно играть! Ведь это свинство!
– Не могу я ехать, – говорил Родон, вздыхая. – Я не могу оставить моего друга, который спас мне жизнь!
В другом углу Узембло, юноша с испанским лицом, с ужасно черными, густыми бровями, Свентицкий и Казаков шептались. Они пожирали ее глазами и держали совет. В третьем углу сидел Евгений Львов и, глядя на мое лицо, составлял в уме своем передовую статью. Депутаты от Вальяно и Рыкова стояли около него и шептали ему что-то на ухо.
Посреди залы стоял Лютостанский и показывал нам фокусы: он делал из хлеба и колбасы маленьких еврейчиков и глотал их. С ней ходил Миллер. В полночь Миллер подошел ко мне и сказал, что она хочет говорить со мной. Я взял ее под руку, и мы пошли в сад. Мои враги бросились за нами, но друзья мои не дремали. Миллер, Ланин и Соболевский стали у дверей и не пустили моих врагов в сад. Они уперлись в дверь плечами, и никакая сила не была в состоянии сдвинуть их с места.
– Сделайте вы полшага, и вы погибли! – крикнул Родон моим врагам.
Узембло заскрежетал зубами. Казаков поклялся убить своего друга Миллера.
В саду было тихо… Пел соловей. Где-то вдали журчал ручей. В беседке Немирович-Данченко точил кинжал на врагов своих и моих. По аллеям, как тень, слонялся Баталин и подслушивал. Я взял ее за талию…
– Тебя Узембло хочет убить, – простонала она. – Беги! Все вина и закуски отравлены… Рыков прислал им миллион… Вальяно выпущен из тюрьмы и едет сюда… О, ужас! Мы погибли!
Я закутался в плащ, поцеловал ее и бежал.
Через три дня я ехал к дяде Свиридову – сказать ему, что на него доносят мои враги.
Была ночь. Наш поезд мчался к Курску. Я сидел в купе и глядел в темное окно.
Дождевые капли и ветер производили на моем окне музыку. Я глядел в окно и думал о ней… Сладкие мечты о счастье наполняли мою душу. О, я был счастлив! Я был любим, и я был победителем!
Но враги мои не дремали. Близ станции «Чернь» они вытащили из насыпи трубу. Дождь и болото размыли насыпь, и мой поезд полетел в бездну… Так мстили мне мои враги за то, что я был счастлив!
Зеленая коса[1]
(МАЛЕНЬКИЙ РОМАН)
Глава I
На берегу Черного моря, на местечке, которое в моем дневнике и в дневниках моих героев и героинь значится «Зеленой Косой», стоит прелестная дача. С точки зрения архитектора, любителей всего строгого, законченного, имеющего стиль, может быть, эта дача никуда не годится, но с точки зрения поэта, художника она дивная прелесть. Она мне нравится за свою смиренную красоту, за то, что она своей красотой не давит окружающей красоты, за то, что от нее не веет ни холодом мрамора, ни важностью колонн. Она глядит приветливо, тепло, романтично… Из-за стройных сребристых тополей, со своими башенками, шпицами, зазубринами, шестами, выглядывает она чем-то средневековым. Когда смотрю на нее, я припоминаю сентиментальные немецкие романы с их рыцарями, замками, докторами философии, с таинственными графинями… Эта дача стоит на горе; вокруг дачи густой-прегустой сад с аллеями, фонтанчиками, оранжереями, а внизу, под горой – суровое голубое море… Воздух, сквозь который то и дело пробегает влажный кокетливый ветерок, всевозможные птичьи голоса, вечно ясное небо, прозрачная вода – чудное местечко!
Хозяйка дачи – жена не то грузина, не то черкеса-князька, Марья Егоровна Микшадзе, дама лет 50, высокая, полная и во время оно, несомненно, слывшая красавицей. Дама она добрая, милая, гостеприимная, но слишком уж строгая. Впрочем, не строгая, а капризная… Она нас отлично кормила, превосходно поила, занимала нам во все лопатки деньги и в то же время ужасно терзала. Этикет – ее конек. Что она жена князя – это ее другой конек. Катаясь на этих двух коньках, она вечно и ужасно пересаливает. Она никогда, например, не улыбается, вероятно, потому, что считает это для себя и вообще для grandes-dames[2] неприличным. Кто моложе ее хоть на один год, тот молокосос. Знатность, по ее мнению, – добродетель, перед которой всё остальное – самая ерундистая чепуха. Она враг ветрености и легкомыслия, любит молчание и т. д. и т. д. Иногда мы едва умели выносить эту барыню. Если бы не дочь ее, то, пожалуй, едва ли мы услаждали бы себя теперь воспоминаниями о Зеленой Косе. Добрая женщина составляет самое серое пятно в наших воспоминаниях. Украшение Зеленой Косы – дочь Марьи Егоровны, Оля. Оля – маленькая, стройная, хорошенькая блондиночка лет 19. Она бойка и не глупа. Хорошо рисует, занимается ботаникой, отлично говорит по-французски, плохо по-немецки, много читает и пляшет, как сама Терпсихора. Музыке училась в консерватории и играет очень недурно. Мы, мужчины, любили эту голубоглазую девочку, не «влюбились», а любили. Она для нас всех была что-то родное, свое… Зеленая Коса без нее для нас немыслима. Без нее поэзия Зеленой Косы была бы неполной. Она – хорошенькая женская фигурка на прелестном ландшафте, а я не люблю картин без людских фигур. Плеск моря и шепот деревьев сами по себе хороши, но если к ним присоединяется еще сопрано Оли с аккомпанементом наших басов, теноров и рояля, то море и сад делаются земным раем… Мы любили княжну; иначе и быть не могло. Мы величали ее дочерью нашего полка. И Оля любила нас. Она тяготела к нашей мужской компании и только среди нас чувствовала себя в своей родной стихии. Когда нас не было возле нее, она худела и переставала петь. Наша компания состоит из гостей, летних обитателей Зеленой Косы, и соседей. К первым принадлежат: доктор Яковкин, одесский газетчик Мухин, магистр физики (ныне доцент) Фивейский, три студента, художник Чехов, один харьковский барон-юрист и я, бывший репетитор Оли (научивший ее плохо говорить по-немецки и ловить щеглят). Мы ежегодно в мае съезжались на Зеленой Косе и захватывали на целое лето лишние комнаты средневекового замка и все флигеля. Каждый март нас приглашали на Зеленую Косу два письма: одно важное, строгое, полное нотаций – от княгини, другое очень длинное, веселое, полное всевозможных проектов – от соскучившейся об нас княжны. Мы приезжали и гостили до сентября. Соседями, ежедневно приезжавшими к нам, были отставной поручик-артиллерист Егоров, молодой человек, два раза державший экзамен в Академию и два раза провалившийся, очень развитой, начитанный малый; студент-медик Коробов с женой Екатериной Ивановной, помещик Алеутов и многое множество помещиков, отставных, неотставных, веселых и скучных, шалопаев и брандахлыстов… Вся эта банда бесконечно, день и ночь, круглое лето, ела, пила, играла, пела, пускала фейерверки, острила… Оля любила эту банду без памяти. Она кричала, вертелась и шумела больше всех. Она была душой компании.
Каждый вечер княгиня собирала нас в гостиную и с багровым лицом упрекала нас в «бессовестном» поведении, стыдила нас и клялась, что по нашей милости у нее голова болит. Она любила читать нотации; читала их искренно и глубоко была убеждена в том, что ее нотации послужат нам в пользу. Больше всех доставалось от нее Оле. По ее мнению, во всем была виновата Оля. Оля боялась матери. Она ее боготворила и выслушивала ее нотации стоя, молча, покраснев. Княгиня считала Олю дитятей. Она ставила ее в угол, оставляла без завтрака, без обеда. Заступаться за Олю значило подливать масло в огонь. Если бы можно было, то она и нас бы ставила в угол. Она посылала нас ко всенощной, приказывала вслух читать «Четьи-Минеи», считала наше белье, вмешивалась в наши дела… Мы то и дело заносили куда-нибудь ее ножницы, забывали, где ее спирт, не умели найти ей наперстка.
– Разиня! – то и дело кричала она. – Прошел мимо, уронил и не подымаешь! Подними! Сейчас подними! Наказал меня господь вами… Отойди от меня! Не стой на сквозном ветру!
Иногда для потехи кто-нибудь из нас провинится в чем-нибудь и по донесении призывается к старухе.
– Это ты на грядку наступил? – начинается суд. – Как ты смел?
– Я нечаянно…
– Молчи! Как ты смел, я тебя спрашиваю?
Суд оканчивался помилованием, целованием руки и, по выходе из комнаты судьи, гомерическим смехом. Ласкова с нами княгиня никогда не была. Ласковые слова говорит она только старухам и маленьким детям.
Я ни разу не видал ее улыбки. Старичка-генерала, который по воскресеньям приезжал к ней играть в пикет, она шепотом уверяла, что мы, доктора, магистры, частью бароны, художники, писатели, погибли бы без ее ума-разума… Мы и не старались разубеждать ее… Пусть, думали, тешится… Княгиня была бы сносна, если бы не требовала от нас, чтоб мы вставали не позже восьми часов и ложились не позже 12. Бедная Оля шла ложиться спать в 11 ч. Прекословить нельзя было. Да и издевались же мы над старухой за это незаконное посягательство на нашу свободу! Мы гурьбой ходили просить у нее прощение, сочиняли ей поздравительные стихи ломоносовского пошиба, рисовали геральдическое древо князей Микшадзе и т. д. Княгиня принимала всё это за чистую монету, а мы хохотали. Княгиня любила нас. Она глубоко, очень искренно вздыхала, когда выражала нам сожаление, что мы не князья. Она привыкла к нам, как к детям…
Не любила она одного только поручика Егорова. Она его ненавидела всей душой, питала к нему невозможнейшую антипатию. Принимала его только потому, что имела с ним денежные дела и этикетничала. Поручик прежде был ее любимцем. Он красив, удачно острит, много молчит и военный (это княгиня высоко ценила). Но иногда на Егорова что-то находит… Он садится, подпирает кулаками голову и начинает ужасно злословить. Злословит всех и всё, не щадя ни живых, ни мертвых. Княгиня выходила из себя и прогоняла из комнат всех нас, когда он начинал говорить злые слова.