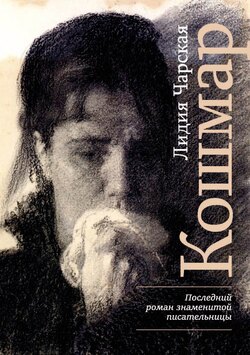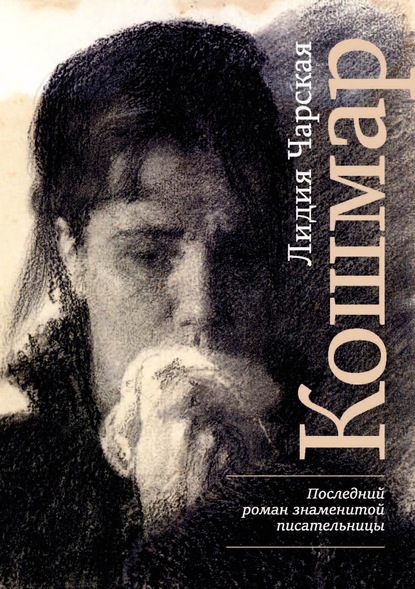I
Двумя гигантскими скатертями раскинулись белые поля по обе стороны дороги. Осыпанные снежной пудрой деревья казались не живыми, а словно эффектными изображениями художественных открыток. Морозное небо глядело по-зимнему сурово и строго, и зимнюю сказку этих белых снежных равнин баловала лишь короткая радость слабых лучей декабрьского солнца.
Когда, пять часов тому назад, Нина Сергеевна Корсарова ехала в Красное Село показаться Илье и в ее душе еще жила смутная надежда, за окном вагона было еще совсем темно и редкие железнодорожные фонари тускло светили желтыми огнями на протяжении дороги. Молодая женщина была тогда одна в вагоне и чутко дремала весь путь. После долгих дней колючих сомнений сердце уже не сжималось острыми, мучительными судорогами, как прежде, а слабо вспыхивало при малейшем проблеске надежды.
И чем короче становился путь до дома Ильи, тем ярче раздувал кто-то неведомый этот слабый факел надежды.
«Все – пустое, только глупая простуда… Не может быть другого, не должно!.. Разве можно даже допустить эту мысль? Было бы слишком несправедливо со стороны госпожи Судьбы», – говорил внутренний голос в душе Нины Сергеевны.
И, когда показалась высокая, с вычурной резьбой крыша вокзала и кондуктор, громко хлопнув дверью, кратко бросил, проходя мимо ее отделения: «Красное Село! Изволите ехать до Красного Села, барыня?» – она встрепенулась так радостно, точно птица, только что выведшая птенцов.
Незнакомый вокзал, короткая вереница извозчиков, десятиминутный подъем на гору, где жил в своем лазарете Илья, и Корсарова позвонила у двери небольшого деревянного домика, на которой по медному полю доски значилось: «Илья Фёдорович Котулин. Доктор медицины».
Денщик открыл ей дверь и, сказав, что барин на утреннем обходе госпиталя, с удивлением оглядел с головы до ног нарядную, красивую барыню, – пожалуй, даже слишком нарядную и красивую для ее расстроенного лица и темной тревоги, глядевшей из мерклых, удлиненного разреза, глаз.
Нина отказалась от чая и, присев в серой казенной комнате, – комнате «безнадежного холостяка», как она шутя прозвала своего названного брата Илью Котулина, стала ждать.
Она не помнит сейчас точно, сколько прошло времени до тех пор, когда пред ней предстала маленькая сухощавая фигурка Ильи в военной докторской тужурке и она увидела его худощавое, нервное лицо с измученными глазами и короткой козлиной бородкой.
– Нина, голубушка! Какими судьбами? Вот неожиданно! – воскликнул Котулин. – Знаешь, когда этот дурачина Семён доложил, что меня ждет какая-то барыня, я меньше всего, признаться, думал о тебе. Ты ведь никогда еще не заглядывала в мою трущобу. И лицо твое не нравится мне нынче. Случилось что? Может быть, Николай? Что такое? Говори скорее, Нина!
По мере того как Котулин спрашивал с нарастающей тревогой и явными нотками волнения в голосе, сама Нина становилась все спокойнее и бодрее. Она знала этого нервного, легко аффектирующего Илью, врача по страсти и далеко не медика по призванию. Благодаря этой самой нервности и чрезмерной чуткости он бросил выгодную карьеру акушера и перешел на специальность внутренних болезней вообще и желудочных в частности.
Она улыбнулась Илье несколько вымученной улыбкой и произнесла почему-то шепотом, хотя в комнате, кроме них двоих, не было никого:
– Послушай, Илюша, меня забросило к тебе одно очень серьезное обстоятельство.
– Разумеется, серьезное! Иначе разве я смел бы надеяться, что моя блестящая сестрица заедет ко мне в эту скучную холостую трущобу?
– Перестань, Илья! – резко оборвала его шутливую речь молодая женщина. – Я не могу сейчас смеяться. Мне слишком мучительно-тяжело.
– Но что же случилось, Ниночка? – спросил Котулин высоким, далеко не мужественным голосом, в котором снова зазвенели нотки сочувствия и тревоги.
– Вот что, Илья! Забудь на время, что мы росли вместе, что мой отец воспитывал тебя, как родного сына, забудь, словом, все, за что ты почему-то считаешь себя обязанным и покойному папе, и всем нам. Я приехала к тебе как к врачу, Илья, как к врачу-акушеру, в авторитет которого я абсолютно верю и на скромное молчание которого, что бы ни случилось, я надеюсь больше, чем на самую себя. Ты должен освидетельствовать меня и чистосердечно сказать все, что найдешь у меня, как бы это тяжело для меня ни было. Понимаешь?
– Но ты всегда была на редкость здоровой женщиной в этом отношении, и меня всегда порядком удивляло то, что у тебя с Николаем – такой на диво здоровой, свежей пары – нет детей…
Нина Сергеевна сделала нетерпеливое движение.
– Ты можешь внимательно освидетельствовать меня, Илья?
Ее настойчивый тон сам по себе уже говорил о чем-то значительном и важном.
– Но, голубушка, ты же знаешь, что я не практикую в качестве акушера уже пять лет, и весьма возможно, что я отстал за это время. Наука с поразительной быстротой делает свои шаги вперед именно в этой отрасли медицины – гинекологии. А впрочем. – заторопился Котулин, заметив ее нетерпеливый жест, и спешно вышел из гостиной.
Нина, оставшись одна, чувствовала, как ее пронизывает нервная дрожь.
– Все готово, входи! – услышала она пятью минутами позднее, и Котулин, уже в белом халате, распахнул перед ней двери в кабинет.
Нина, быстро поднявшись с места, направилась туда.
Они оба были очень бледны – и маленький, худощавый доктор, и высокая, стройная, с удлиненными египетскими глазами, женщина, когда он уже много позже, не глядя на нее, произнес, барабаня по столу трясущимися пальцами:
– Ты совершенно здорова, Нина. Я не понимаю твоего беспокойства… Все идет вполне нормально, своим прямым путем.
– Так значит? – длинные египетские глаза раскрылись шире, и из их меркнущей глубины глянуло на доктора такое отчаяние, что невольная дрожь волнения пробежала по телу этого нервного человека. – Так значит?
– Ты находишься в первом периоде беременности, Нина. Два месяца с небольшим. Что с тобой? Тебе худо, голубушка? Семён, воды!.. О Господи!..
«Нет, нет! У меня хватит силы, чтобы не упасть, не лишиться сознания. Пустое отчаяние и безнадежность… худшее еще там, впереди. Для того худшего я должна приготовиться», – мысленно старалась ободрить себя Корсарова и, сделав невероятное усилие, подняла свои отяжелевшие веки.
Маленький доктор возился около нее, подавая ее воду, расстегивая лиф. Запахло крепким, острым запахом эфирно-валериановых капель. За дверью осторожно застучали тяжелые шаги удаляющегося денщика, и в то же время трепетный, взволнованный шепот Ильи задрожал у самого ее уха:
– Нина, голубушка, не надо же так отчаиваться… право же, не надо. Послушай, ведь не все еще потеряно. Есть средства избавиться, если ты не хочешь. Голубушка, бедняжка моя! Ведь это все, в сущности, так жизненно, так понятно. Ниночка, послушай!.. Я – друг твой, я – твой старший названный брат… Я никогда не забуду, как твой отец подобрал меня, нищего сироту, и сделал человеком. Послушай, Нина! Для тебя, ради него, ради вас обоих я пойду на все… до нарушения профессиональной этики включительно. Милая, успокойся, мы все устроим, все устраним. Николай ничего не узнает, и вы будете счастливы… по-прежнему безмятежно счастливы. Ты еще так молода, ты – женщина, в конце концов, обаятельная, прекрасная женщина. И мне больше, чем кому-либо другому, понятен… этот несчастный случай с тобою, это несчастье. Я уверен, что это продукт временного увлечения, – кошмар, забвение, власть тела над духом, власть темной силы.
Котулин хотел добавить еще что-то и не договорил.
Как ужаленная, вскочила Нина Сергеевна с кушетки, на которой все еще сидела, словно пришибленная, после того как он освидетельствовал ее, и зашептала с расширившимися от ужаса и гнева зрачками:
– Сатана!.. Ты – сатана, Илья, если смеешь «это» предполагать, если можешь так думать. Я люблю Николая. Понимаешь? Его, его одного. Всю жизнь, всю молодость мою я люблю его и только его! Понял? И ни духом, ни телом я не виновата пред ним – ни духом, ни телом!
Вслед за тем она выбежала, как безумная, за дверь и, трясясь, как от озноба, старалась попасть руками в рукава шубки. Она быстро нахлобучила на голову меховую шапочку, машинально натянула ботики в крохотной передней, не слушая того, что говорил ей маленький, сильно встревоженный Котулин. Он, кажется, извинялся, утешал, от чего-то отговаривал.
Нина смутно помнила остальное – ту же невзрачную фигуру Ильи на крыльце его особняка, его голос, кричавший ей что-то вдогонку, когда ожидавший ее извозчик отстегивал полость и она садилась в сани. Потом голос Ильи замер, сани быстро заскользили под гору, и Нина замерла, как неживая, глядя на снежные поля.
II
С ближайшим же поездом Нина Сергеевна поехала обратно в Петроград. В вагонное окно смотрели белая сказка зимних полей и морозное небо с его скупым декабрьским солнцем. В том отделении, где заняла место Нина, какая-то старушка в бесчисленных теплых платках и лисьей ротонде бесконечно копошилась над свертком, шурша бумагой. У самого окна напротив два пожилых офицера в отставке громко спорили о войне. Их резкие голоса мешали сосредоточиться Нине и болезненным эхом отзывались в мозгу.
Сжав зубы, она направилась в соседнее купе неверной, пошатывающейся походкой. Слава Богу, наконец-то она одна в полумраке надвигающихся ранних сумерек декабрьского дня.
Теперь ей можно было дать полную волю отчаянию, можно, судорожно сжав мускулы, вполне отдаться тому мрачному, серому валу отчаяния, что захлестывал ее с головой.
Илья сказал: беременна. Об ошибке здесь не может быть и речи. Илья, прежде всего, – доктор, авторитет. Ошибка в данном случае недопустима. Значит, конец? Конец молодости, радости, счастью с Николаем? О, если бы это был его ребенок, их ребенок! Они оба шесть лет мечтали о нем. Нет, судьбе угодно было сыграть с ней, Ниной, жестокую, непоправимую шутку. От нежно и страстно любимого Николая не было детей, а «тот», другой, чудовище в образе человека, одарил ее ребенком… О, будь он проклят беспечно до последних своих дней! Или послушаться Илью – принять его совет и одним смелым, преступным шагом покончить с «этим» продуктом несчастья, свалившимся на нее?
Нет, никогда она, Нина, не пойдет на это, никогда не совершит чудовищного греха.
– Ни за что! – почти вслух глухо вскрикнула молодая женщина. – Избавиться от «него», убить в себе зарождающуюся жизнь? Ни за что!
Она сжала своими длинными, тонкими пальцами виски, явно ощущая под пальцами биение пульса. Ее сердце колотилось и металось в груди, как раненый зверь, запертый в клетку. Тупым, немигающим взглядом, полным беспросветного отчаяния, смотрела она на мелькающие мимо телеграфные столбы. А память выводила полные мрака и ужаса картины…
В знойное июльское утро минувшим летом она прощалась с Николаем на Варшавском вокзале. Было суетливо и хлопотно вокруг. Сестры в белых косынках, санитары, старший врач отряда и молодые доктора. И среди них милая богатырская фигура и свежее, здоровое лицо, мужественное и мягкое в одно и то же время. Нине казалось тогда, в то утро, что никогда в жизни она не любила еще Николая, как сейчас, любила какой-то тихой влюбленностью и нежной, безмерной жалостью. Она боялась даже думать о тех опасностях, которым, уезжая со своим отрядом Красного Креста, подвергался Николай. В эти прощальные минуты ей хотелось бесконечно смотреть на мужа и слушать его, вглядываться в его открытое лицо с крупными мужественными чертами, казавшимися, может быть, несколько грубоватыми, если бы не большие сияющие темные глаза, унаследованные им от матери-гречанки, всегда немного грустные и постоянно нежные, когда они смотрели на нее.
Они и простились, глядя так – глаза в глаза один другому – и впиваясь судорожными пальцами в пальцы друг друга.
Нина смутно помнит, как ее, рыдающую, Илья привез в дом ее матери.
То было четыре месяца тому назад, через месяц после похорон отца. Семья носила траур, и в отцовском доме еще господствовало угнетающее настроение недавних похорон. Мать – пришибленная, безгласная, вся подавленная своим горем – безучастно встретила чужую печаль, так как слишком сильно было ее собственное горе. Сестра Лида, занятая своими курсами, пожалела Нину как будто только приличия ради. Пожалел по-настоящему, по-хорошему только один Илья. И ему она, Нина, многое простила тогда за это: и его пессимизм, и желчность, и кажущуюся сухость с нею.
Потянулись один за другим тоскливые, монотонные дни. Частые панихиды, неизбежные поездки на кладбище, праздничные наезды Ильи из Красного Села, запаздывавшие письма Николая с фронта…
Нине казалось, что она с ума сойдет, если еще продлится неделю-другую подобная жизнь. Если бы Николай разрешил ей, она с восторгом поступила бы на курсы сестер милосердия или же просто напросилась бы к Илье помогать ему в его госпитале. Но муж считал ее, Нину, почему-то недостаточно сильной для такого рода деятельности и убедил ее «не рисковать собой». А между тем ее молодая, кипучая натура требовала деятельности. Теперь она металась между работой в столовой, устроенной для жен и детей запасных, и продажей значков в пользу защитников родины, ходила по всевозможным заседаниям, устраивала лотереи, работала в Зимнем дворце и, не будучи «настоящей» сестрой, ездила в устроенный курсами госпиталь, где читала газеты раненым, писала им письма на родину, поила их чаем. И все же это было не то, все это казалось для Нины слишком мелким, ничтожным. Душа жаждала иного, работы более ответственной и продуктивной.
И вдруг письмо от Катиш.
Оно явилось каким-то светящимся метеором, озарившим тусклую сейчас жизнь.
Катиш, маленькая безобразная горбунья с детскими, чистыми глазами, заставлявшими сразу забывать все безобразие ее лица, была подругой Нины с первых гимназических лет. Изящная, оригинальная уже с самого раннего детства красота Нины Дарцевой пленила восторженную душу маленькой эстетки Катиш, и эта маленькая горбунья отдала красавице-подруге все свое чувство, надломленное сердце. Девочки стали закадычными друзьями. С течением времени их дружба окрепла. Они обе были удивительно тождественны во взглядах, убеждениях и вкусах, обе мечтали работать на пользу человечества, трудиться не покладая рук в больницах, в школах, все равно где.
Когда в доме Дарцевых появился новый товарищ Ильи – студент медицинской академии Николай Александрович Корсаров – и Нина вскоре почувствовала в своем юном сердечке «пробуждение весны», причиной которого являлся Николай с его некрасивым, но мужественным лицом и задумчивыми глазами, она призналась в своем чувстве первой Катиш.
Они обе плакали тогда, обнявшись, точно пред разлукой. Нина кляла себя за «измену» будущему делу во имя личного чувства. Катиш, мечтавшая пройти свой жизненный путь вместе с подругой, оплакивала ее, как мертвую.
– Я была глупа, безумно глупа, – шептала она тогда, в тоске сжимая свои хрупкие пальчики, – что вообразила тебя, такую красавицу, в роли докторши или школьной учительницы. Да и с натурой твоей, Нинка, я вовсе не считалась… Где только глаза были у меня?! Вон у тебя губы какие! А когда ты мерцаешь своими египетскими глазами сфинкса, то мне кажется, что оживает сама древняя богиня сладострастия.
– Перестань, Катиш, я рассержусь! – смущенно краснея, возражала она тогда подруге.
В тот же год Катиш поступила в институт медичек, а Нина вышла замуж за Николая Корсарова, сходившего с ума по этой стройной, высокой девушке с узким, бархатным взором, таящим загадку, с обаятельной улыбкой несколько чувственных, алых, как пурпур, губ.
И вот письмо от Катиш с далекой окраины. Она, узнав, что Николай со своим отрядом уже давно на передовых позициях, звала Нину погостить у нее и расвеяться, познакомиться с бытом литовского крестьянина, с порядками земского дела в их Западном крае.
«Все заняты войною, – написала Катиш, – и окунулись в ее нужды и удовлетворение ее требований, там, у вас в Петрограде. Но ты не можешь себе представить, каким дружным пульсом бьет жизнь у нас, в деревне. Несмотря на географическую близость к нашим немирным соседям, здесь совершенно спокойны по этому поводу и не допускают даже мысли о возможности тевтонского вторжения в наш тихий уголок. И если бы ты, в отсутствие Николая Александровича, пожелала поскучать на лоне деревенской жизни здешнего края…»
Да, она, Нина, разумеется, пожелала. Разлука с любимым человеком давила ее тяжелым томлением, а в доме царила такая тоска, что она быстро собралась и уехала к Катиш, в ее тихую деревню.
III
Нина Сергеевна не забудет этого ада до самой смерти, и за гранями иного мира будет помнить об ужасе случившегося, если там дано что-либо помнить и вспоминать.
И сейчас, сидя в вагоне на обратном пути в Петроград, она в тысячный раз переживала совершившееся.
Осенний вечер был тих и прозрачен, алая заря улыбалась с неба. В этот день впервые сильные заморозки дали знать о близкой зиме.
Нина невольно размечталась в этот предзакатный сентябрьский час, когда воздух охватывает здоровым деревенским опьянением. Он, как вкусное вино, сам впивался в горло. Пахло давно уже сбитыми с деревьев плодами.
«Вот славно было бы, если бы Николай внезапно очутился здесь! – раздумывала Нина. – Вместе проводили бы вечернюю зарю, стоя обнявшись на крошечном балконе, вместе встретили бы и черную южную ночь!»
Постепенно вспыхнула, загорелась и потухла верхушка костела, четырехконечный крест странным, причудливо-мистическим знамением заиграл в последних солнечных лучах. Село раскинулось, словно на картине Клодта[1], уютное и большое. А там, за ним, таился и молчал о чем-то темный, как призрак, безмолвный, угрюмый лес.
Внезапно пред Ниной выросла маленькая фигурка горбуньи Катиш.
– Так рано? Но почему так рано, Катиш? – спросила Корсарова, кинув рассеянный, далекий взгляд в лицо горбуньи, и замерла сама, преисполненная тревоги.
Серо-землистое лицо Катиш говорило без слов о чем-то ужасном. Зрачки разлились во всю ширину глаз, и в них были тот же ужас и страх.
– Что такое? В чем дело, Катиш? – повторила Нина.
Но прошло немало времени, пока маленькая горбунья обрела дар слова.
– Они идут, Нина… понимаешь, идут сюда. Этого никто не ожидал. Ведь мы же в сторону от дороги, совсем в глуши. Что же им понадобилось? Стратегические планы? О, будь они прокляты с этой своей стратегией! Я чувствую себя ужасно, признаю себя преступницей за то, что вызвала тебя сюда. Но кто же знал, кто же знал это, что они доберутся и сюда… до нашего селения?
И горбунья в тоске заломила свои маленькие ручки.
Нина Сергеевна побледнела. Неужели они, эти послушные питомцы железного канцлера, эти каменные люди, придут сюда? Она беспомощным взглядом окинула знакомую обстановку – темный силуэт леса, под горою село с костелом, здание больницы и школы, крошечную русскую церковку.
Село было большое, скорее – полугород или посад, а потому в нем обычно царили шум и движение. Но здесь, в конце его, подальше от шинка[2] Янкеля, куда наезжали кутить из города молодые купчики, поляки, русские и молодые инженеры, здесь, у Катиш, в ее маленьком домике, обычно была удивительная тишина. И она, Нина Корсарова, в этот месяц пребывания здесь привыкла к сельской тишине, к тихому шелесту леса, к хрустальному бегу речки, к алым вечерним закатам, когда золотой, о четырех концах, крест костела пламенем горит в море разлитого пурпура заходящего солнца. Здесь ей сладко мечталось о спокойном счастье с Николаем, о конце войны и близком его возвращении.
И вдруг – «они», немцы! Прямо-таки не хотелось верить этому.
Но горбунья уже торопила ее:
– Милая, тебе нельзя оставаться здесь дольше.
И голос ее, всегда спокойный и ровный, дрожал.
– Ну, да, конечно… Как и тебе самой, и Зосе, и всем нам, – согласилась Нина Сергеевна.
– Ну, да, конечно. Как и тебе, и шинкарке, дочери Янкеля. Она прибежала сейчас ко мне в больницу… Знаешь Розу? Ты ее еще Саломеей прозвала. Плачет, руки ломает. Отец не хочет уезжать отсюда. Не верит старик, что опасность близка, или просто доверяет этим зверям-немцам больше, чем они того заслуживают. Но факт тот, что он не двинется от своего шинка ни на сажень. А Роза боится и хочет бежать.
– Да, да, конечно. И она, и ты, и Зося! – промолвила Нина.
Зося была хорошенькая литовка, помощница Катиш, исполнявшая обязанности сиделки в больнице.
– О, что касается меня, то я тоже не уйду отсюда! – твердо возразила горбунья. – Я, как старый Янкель, останусь здесь, на своем посту, не брошу на произвол судьбы своих больных, Нина. Там есть двое тяжелых с тифом и один с рожистым воспалением. И амбулаторных тоже нельзя оставить без помощи.
Голос горбуньи звучал уверенными нотками, а глаза делались суровыми, когда она говорила это.
– Но фельдшер, Катиш, фельдшер, – попыталась убедить подругу Нина Сергеевна.
– Фельдшер? Так ты хочешь, чтобы они остались без врача? На одного фельдшера, что ли? – с тем же суровым блеском в глазах отчеканивала горбунья.
– Ну, тогда и я не сделаю без тебя ни шагу, – решительно вырвалось у Нины. – Если грозит опасность тебе, не могу же и я бежать позорно, оставить тебя одну на произвол судьбы.
– Какая опасность?
– А женщины и девушки Бельгии?[3] А наши калишские?[4]Или ты забыла эту позорную для подлых немцев страницу?
– Нет, не забыла, Нина, и во имя этой страницы требую, чтобы ты бежала с остальными женщинами и девушками местечка, бежала немедленно. Слышишь? – энергично заявила горбунья.
– А ты?
– Глупый ребенок… Смотри! – резко, почти грубо схватив подругу за руку, Катиш насильно втолкнула ее в свою крошечную гостиную, где на стене висело небольшое зеркало. – Гляди на себя, а потом на меня, безумная девчонка!
Машинальным взглядом охватила Нина два женских отражения на гладкой поверхности стекла – два женских лица, удивительных каждое в своем роде: и старообразное птичье личико горбуньи с его выгнутым клювом-носом и огромным ртом, с этой хронически закинутой головою калеки и серым, землистым цветом лица, и ее собственное лицо, прелестное лицо молодой и цветущей женщины с неправильным, чуть вздернутым носом и кроваво-алым, чувственным ртом, так странно дисгармонирующим с таинственными, глубокими, мерцающими глазами сфинкса, из-за которых и все, в сущности, неправильное и заурядное лицо свежей, здоровой и темноволосой самки приобрело какой-то таинственный, полный прелести и загадки отпечаток.
Казалось, Нина Сергеевна впервые взглядом постороннего наблюдателя и оценщика оглядела сейчас свое собственное отражение.
– Ну, что? – задыхающимся от ненависти к еще невидимым, но уже глубоко ненавистным врагам, заговорила горбунья. – Скажешь, что на такую красавицу не разгорятся зубы у этих мерзавцев? Нет уж, Нинушка, сделай милость, убирайся как можно скорее отсюда, сними с души грех. Слышишь, Нинка? Какими глазами я стану смотреть на Николая Александровича, если, не дай Бог, случится что-нибудь с тобой?
– Хорошо, хорошо… успокойся! Я уеду…
– И Зосю возьми, и Розу Янкелеву. Да что я говорю: «возьми»? Вся молодежь уедет, наверное, нынче же. Останутся только старики да вот такие уроды, как я, вороньи пугала, – добавила Катиш с усмешкой, впервые в жизни как будто благодаря судьбу за это свое уродство.
Решено было бежать с наступлением сумерек. Но алый закат давно догорел и погас на вечернем небе, и холодная ночь опустила на землю свои бесшумные, тяжелые, черные крылья, а в селе все еще суетились, толкались и шумели, готовясь к побегу.
Бежали не одни только женщины, бежали и мужчины, не желая работать на «проклятых пруссаков», как говорили все эти здоровые, рослые литовцы, грузившие телеги домашним скарбом и выводившие отчаянно мычавший и блеявший скот из закут.
По настоянию Катиш Нина Сергеевна и смуглая, черноокая шинкарка Роза, действительно напоминавшая древнюю Саломею своим трагическим стальным лицом, и пухленькая, белокурая, миловидная Зося, с ее детски-испуганным личиком и ошалевшими от страха глазами, – все три переоделись в платье литовских крестьянок, чтоб ничем не отличаться от прочих беженок-простолюдинок.
Холодная ночь уже дышала в разгоряченные от волнения лица, когда вся толпа двинулась к лесу. Заскрипели колеса телег, засвистели в воздухе удары плетей. Заржали лошади, блеяли в темноте испуганные овцы, мычали коровы. Плакали испуганные дети, разбуженные всей этой сумятицей, криками и суматохой.
Екатерина Иосифовна Стадницкая вместе со старухой, сельской учительницей, провожала их до околицы. И долго махали потом белыми шарфами, метавшимися причудливыми птицами в надвигавшемся сумраке ночи.