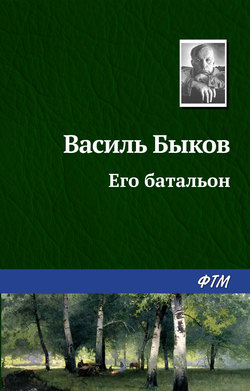Глава первая
Траншея была неглубокая, сухая и пыльная – наспех отрытая за ночь в едва оттаявшем от зимних морозов, но уже хорошо просохшем пригорке. Чтобы чересчур не высовываться из нее, Волошин привычно склонялся грудью на бруствер, пошире расставив локти. Однако долго стоять так при его высоком росте было утомительно; меняя позу, комбат неловко повернул локоть, и ком мерзлой земли с глухим стуком упал на дно. Тотчас в траншее послышался обиженный собачий визг, и на осыпавшуюся бровку мягко легли две широкие когтистые лапы.
– Джим, лежать!
Не отрывая от глаз бинокль, Волошин повернул пальцами окуляры – сначала в одну, а затем и в другую сторону, отыскивая наилучшую резкость, но видимости по-прежнему почти не было.
Голые, недавно вытаявшие из-под снега склоны высоты, с длинной полосой осенней вспашки, извилистым шрамом траншеи на самой вершине, несколькими свежими пятнами минных разрывов; и даже чахлый кустарник внизу – все застилал сумрак быстро надвигавшейся ночи.
– Ну что ж, все ясно!
Он опустил подвешенный на груди бинокль и расслабленно откинулся к задней стенке траншеи. Дежурный разведчик, наблюдавший из соседней ячейки, зябко передернул плечами под серой замызганной телогрейкой:
– Укрепляется, гад!
Противник укреплялся, это было очевидно, и комбат с сожалением подумал, что вчера они допустили ошибку, не атаковав с ходу эту высоту. Тогда еще были некоторые шансы захватить ее, не вчера подвела артиллерия. У поддерживающей батареи остался всего с десяток снарядов, необходимых на самый критический случай; соседний батальон ввязался в затяжной бой за совхоз «Пионер», раскинувшийся на той стороне речки, и когда Волошин спросил относительно этой малозаметной, но, по-видимому, немаловажной высоты у командира полка, тот ничего не ответил. Впрочем, оно было и понятно: наступление выдыхалось, задачу свою полк кое-как выполнил, а дальше, наверно, еще не было определенного плана и у штаба дивизии. И все-таки высоту надо было взять. Правда, для этого одного потрепанного в трехнедельных боях батальона было недостаточно, но вчера на ее голой крутоватой вершине еще не была отрыта траншея, а главное – правый фланговый склон над болотом, кажется, не был еще занят немцами. Заняли они его утром и весь день, не обращая внимания на пулеметный обстрел, по всей высоте копали. Отсюда было хорошо видно, как там мелькала над брустверами черная россыпь земли; под вечер из совхоза подошло несколько грузовых машин, и немецкие саперы до ночи таскали по траншее бревна и оборудовали блиндажи и окопы. Ночью, пожалуй, заминируют и пологие, вытянувшиеся до самого болота склоны.
Вокруг быстро темнело, над голым мартовским пространством все гуще растекались холодные сумерки, в которых тускло серели пятна еще не растаявшего снега во впадинах, ровках, под взмежками, на заросшем жидким кустарником болоте. Было холодно. С востока дул порывистый морозный ветер, с ним на пригорок НП долетал запах дыма, напомнивший комбату о его убежище – землянке, куда он ни разу за день не зашел. Джим, будто поняв намерение хозяина, поднялся, шагов пять пробежал по траншее и вопросительно глянул серьезными, немножко печальными глазами.
– Так. Прыгунов, наблюдайте. И слушайте тоже. Если что – сразу докладывайте.
– Есть, товарищ комбат.
– Только не вздумайте курить.
– Некурящий я.
– Тем лучше. На ужин подменят.
Обдирая стены узкой траншеи палаткой, наброшенной поверх шинели, комбат быстро пошел вниз к землянке, все настойчивее соблазнявшей относительным теплом, покоем, котелком горячего супа. Впрочем, сооруженная за одну ночь землянка получилась не бог весть какая – временное полевое пристанище на день-два, вместо бревен крытая жердками и соломой с тонким слоем земли наверху. Двери тут вообще никакой не было, просто на входе висела чья-то палатка, приподняв которую комбат сразу очутился возле главной радости этого убежища – переделанной из молочного бидона, хорошо уже натопленной печки.
– О, блаженство! – не удержался он, протягивая к теплу настывшие руки. – Как в Сочи! Что улыбаетесь, Чернорученко? Вы были в Сочи?
– Не был, товарищ комбат.
– То-то!
Немолодой, медлительный в движениях и молчаливый телефонист Чернорученко, защемив между плечом и ухом телефонную трубку, заталкивал в печку хворост и все улыбался, наверно, имея в виду что-то веселое. Комбат машинально перевел взгляд на других, кто был в землянке, но и те тоже заговорщически улыбались: и ординарец комбата Гутман, который, стоя на коленях, в стеганых брюках, сучил в зубах длинную нитку, и разведчик, что, опершись на локоть, лежал на соломе и дымил самокруткой. Один только начштаба лейтенант Маркин в наброшенном на плечи полушубке сосредоточенно возился со своими бумагами в тусклом свете стоящего на ящике карбидного фонаря. Но Маркин вообще никогда не улыбался, ничему не радовался, сколько его знал комбат, всегда был такой – отчужденный от прочих, погруженный в самого себя.
– Что случилось?
Капитан задал этот вопрос, несколько даже заинтригованный всеобщим молчанием, и Чернорученко, неуклюже выпрямившись, переступил с ноги на ногу. Однако первым заговорил Гутман:
– Сюрприз для вас, товарищ комбат.
Сюрпризов на фронте хватало, они сыпались тут ежечасно, один неожиданнее другого, но теперь Волошин почувствовал, что этот, пожалуй, был не из худших. Иначе бы они так не улыбались.
– Что еще за сюрприз?
– Пусть Чернорученко скажет. Он лучше знает.
Неуклюжий и длиннорукий Чернорученко, смущенно улыбаясь, взглянул на Гутмана, потом на лейтенанта Маркина, не решаясь начать первым. Маркин коротко ободрил бойца:
– Ну говори, говори.
– Орден вам, товарищ комбат. Из штаба звонили.
Волошин и сам уже начал догадываться и теперь понял все сразу. Не сказав ни слова, он перешагнул через длинные ноги разведчика, сбросил с себя плащ-палатку и сел подле ящика начальника штаба. Джим с почтительной важностью воспитанного пса опустился на задние лапы рядом.
Волошин молчал. На секунду в его душе мелькнуло радостное и в то же время неизвестно почему немного неловкое чувство. Орден – это хорошо, но почему только ему? А другим? Между тем все происходило, наверно, как и должно было происходить на войне, – месяца два назад послали бумаги с представлением его к ордену Красного Знамени, он знал об этом и какое-то время даже ждал ордена. Но потом началось наступление, трудные, затяжные бои за высотки, деревни и хутора, и он не очень уж и надеялся, что награда застанет его в живых. И вот, выходит, застала, значит, еще суждено сколько придется поносить на груди и этот боевой орден. Что ж, в общем он был доволен, хотя внешне ничем и не выразил своего удовлетворения.
– Так что поздравляем, товарищ капитан! – сказал Гутман. – Вот тут я и обмывочку расстарался.
Он выхватил откуда-то алюминиевую фляжку и встряхнул ее. Во фляге булькнуло. Волошин смущенно поморщился:
– Пока спрячь, Лева. Обмывочка не проблема.
– Ого! Не проблема! Да я ее едва у старшины второго батальона выцыганил. Самая проблема! Вон лейтенант весь вечер на нее поглядывает.
– Глупости вы городите, Гутман, – серьезно заметил Маркин.
– Вот лейтенанту и отдай, – спокойно сказал комбат. – А мне лучше портянки сухие поищи.
– Ай-яй! Портянки – такое дело!
Он вытащил из-под соломы туго набитый вещевой мешок и ловко развязал его:
– Вот сухонькие.
– Спасибо.
– И снимите шинель – пуговицу в петлицу вошью. А то уже третий день обещаете.
– Только чтоб одинаково было: на правой и на левой.
– Будет в аккурат. Не сомневайтесь.
Он не сомневался. Гутман был испытанный мастер на все возможные и невозможные дела – все у него получалось удивительно легко и просто. Комбат привычно расстегнул командирский ремень, скинул с плеч двойную портупею, кобуру с Т Т, снял свою комсоставскую, некогда шитую на заказ, но уже основательно потрепанную и побитую осколками шинель. Гутман широким портняжным жестом раскинул ее на коленях.
– И кто придумал эти пуговицы в петлицы? Ни склад у, ни ладу.
– Тебя не спросили, Гутман, – буркнул Маркин. – Придумали, значит, так надо было.
– А по мне, так лучше кубари. Как прежде.
Комбат с наслаждением вытянул на соломе отекшие за день ноги и, рассеянно слушая разговор подчиненных, достал из брючного кармашка часы – плоские, с тоненькими стрелками и удивительно точным ходом. Он положил часы на край ящика, чтобы видеть их светящийся циферблат, и начал свертывать самокрутку.
Первая волнующая радость постепенно уходила, вытесняемая насущными заботами дня, он смотрел на часы и думал, что скоро надо будет звонить на полковой КП, докладывать обстановку. Как почти и всегда, эти минуты были до отвращения неприятны ему и портили настроение до и после доклада. Сколько уже времени, как полком стал командовать майор Гунько, а комбат-три Волошин все еще не мог привыкнуть к его начальническим манерам, которые нередко раздражали, а то и злили его.
– Из полка звонили?
Маркин оторвался от бумаг, вспоминая, моргнул – его лицо с густоватой щетиной на щеках при скупом свете карбидки выглядело почти черным.
– Звонили. Будет пополнение.
– Много?
– Неизвестно. В двадцать два ноль-ноль приказано выслать представителя от батальона.
Лейтенант озабоченно посмотрел на часы – малая стрелка приближалась к восьми. Комбат откинулся к стене землянки и затянулся самокруткой. Стена ничуть не прогрелась и даже сквозь меховой овчинный жилет чувствительно холодила спину.
– Про высоту шестьдесят пять не спрашивали?
– Нет, не спрашивали. А что, все копают?
– Дзоты строят. Как бы завтра не того… Не пришлось брать.
– Да ну! – усомнился Маркин. – Семьдесят шесть человек на довольствии.
Эта названная Маркиным цифра, хотя и не была неожиданностью для комбата, остро задела его сознание – всего семьдесят шесть! Совсем недавно еще было почти на сто человек больше, а теперь вот осталось менее половины батальона. Сколько же останется через неделю? А через месяц, к лету? Но он только подумал так, усилием подавил неприятную мысль и вслух сказал о другом:
– Через день-два будет хуже. Укрепятся.
Лейтенант бросил беглый взгляд на выход, прислушался и тихо заметил:
– А может, не докладывать? Молчат, и мы промолчим.
– Нет уж, спасибо, – сказал комбат. – Будем докладывать как есть.
– Ну что ж, можно и так.
Гутман старательно пришивал пуговицу, Чернорученко хозяйничал возле печки, разведчик, натянув на голову бушлат, старался заснуть перед дежурством. Маркин с помощью карандаша и шомпола разлиновывал в тетрадке графы «формы 2-УР» – для записи предстоящего пополнения. Комбат рассеянно смотрел, как однобоко тлеет бумага на конце его самокрутки, и думал, что война, к сожалению или к счастью, не дает ни малейшей свободы в том выборе, который имеет в виду лейтенант Маркин.
Среди всех возможностей, которые предоставляет ситуация, на войне чаще выпадает самая худшая, плата за которую почти всегда – солдатские жизни. Трудно бывает с ней согласиться, но и поиски путей в обход обычно приводят не только к конфликту с совестью, но и кое к чему похуже. Командира это касается куда в большей мере, чем рядового бойца, тут следует быть очень строгим в отношении к самому себе, чтобы потом требовать того же и с подчиненных.
– Можно так, можно и этак? А, товарищ Маркин? – вдруг переспросил комбат. Лейтенант, что-то уловив в голосе комбата, смущенно повел плечами:
– Да я ничего. Не мое дело. Вы командир батальона, вам и докладывать. Я просто предложил.
– Из каждого положения есть три выхода, – поднял от шитья голову Гутман. – Еще Хаймович сказал…
– Помолчите, Гутман, – сказал комбат. – Не имейте такой привычки.
– Виноват!
Комбат минуту молчал, а затем тихо спросил, вроде бы между прочим:
– Вы, Маркин, в окружении долго были?
– Два месяца восемнадцать суток. А что?
– Так просто. В прошлом году я тоже вскочил. Почти на месяц.
– Так вы же с частью вышли, – не удержавшись, вставил свое Гутман.
Комбат посмотрел на него твердым продолжительным взглядом.
– Да, я с частью, – наконец сказал он. – В этом мне повезло. Хотя от полка осталось сорок семь человек, но было знамя, был сейф с партдокументами. Это и выручило. Когда вышли, разумеется.
Маркин положил на ящик карандаш и шомпол, дернул на плече полушубок. Глаза его возбужденно заблестели на вдруг оживившемся лице.
– А у нас ничего не осталось. Ни знамени, ни сейфа. Горстка бойцов, десяток командиров. Половина раненые. Кругом немцы. Комиссар застрелился. Командира полка тиф доконал. Собрали последнее совещание, решили выходить мелкими группами. Пошли, напоролись на немцев. Неделю гоняли по лесу. Кору ели. Наконец вырвались – двенадцать человек. Смотрим, что-то больно уж тощие тут фронтовички. И курева нет. Едят конину. Слово за слово – выясняется, так и они же в окружении. Вот и попали из огня да в полымя. Еще припухали месяц.
– Это где?
– Под Нелидовом, где же. В тридцать девятой армии.
– Да, там невеселые были дела. Как раз в конце лета к нам пробивались. Убитого командарма вынесли, хоронили в Калинине.
– Ну. Генерал-лейтенант Богданов. Геройский мужик. А что он мог сделать? В прорыв сам на пулеметы вел и погиб.
– Тридцать девятой хватило. Двадцать девятой тоже.
– А тридцать третьей? А конникам Белова и Соколова?
– Тех совсем немного осталось, – согласился комбат.
– Неудачник я! – вдруг сказал Маркин, и Гутман с Чернорученко настороженно подняли головы. – Что пережил, врагу не пожелаю. В резерве встречаю товарища, вместе выпускались. Два ордена, шпала в петлице. А я все лейтенант.
Комбат оперся локтем на ящик и искоса посмотрел на притихших бойцов:
– Напрасно вы так считаете, Маркин. До Берлина еще длинный путь.
– А! – махнул рукой Маркин и снова взялся за шомпол. – Много ли их тут линеить? Знать бы хотя, сколько дадут. А то налинеишь, а толку из того? Товарищ комбат, – поднял он лицо к Волошину, – из пополнения надо писаря подобрать. А то сколько можно?
– А вы вон Гутмана обучите. По совместительству. Или Чернорученку.
Телефонист смущенно заворошился возле аппарата, а Гутман почти обиделся:
– Ну, скажете, товарищ комбат! Я работу люблю. А это…
– А это что – не работа? – зло сказал Маркин. – Вот посиди день над бумажками, так весь свет с овчинку покажется.
– Не люблю.
– Ну конечно. Куда веселее по полям бегать. Трофейчики и так дальше…
– Ладно, Гутман, кончай шитье. А то уже спина заколела, – остановил спор комбат.
– А вы – мой полушубок.
– Нет уж, спасибо. В твоем полушубке, наверно, того… Диверсанты бегают.
– Немного, товарищ комбат. Куда же от них денешься? Ну вот и все. Пожалуйста!
– Давай. Посмотрим, какой ты портняжных дел мастер.
Комбат взял из рук ординарца шинель и надел ее. Потом привычными точными движениями набросил на плечи портупею, застегнул ремень, сдвинул на место кобуру.
– Ну вот, петлички теперь в аккурат! Ну что же, спасибо, – сказал он. – Чернорученко, вызывайте десятого «Волги». Поговорим с начальством.
Глава вторая
Но поговорить с начальством в этот раз не удалось.
Не успел телефонист повернуть ручку своего желто-кожаного американского аппарата, как где-то наверху с нарастанием завизжало, донеслось несколько слабых минометных выстрелов, и тотчас близкие разрывы встряхнули землю. На солому, на печку с потолка сыпануло землей, огонек в фонаре вздрогнул, заколебав по стенам горбатые тени. Маркин ниже пригнулся над своими бумагами, Гутман схватил автомат и полушубок. Карбидный огонек в фонаре еще не успокоился, как завизжало снова и снова рвануло. От серии не менее чем из десяти разрывов ходуном заходила землянка.
– Что за черт!
Комбат сунул за пазуху уже приготовленную к докладу карту и рванул палатку на входе. В ночных сумерках над пригорком густо мелькали туго натянутые нити трасс – оттуда, с высоты, через их головы к лесу. Очереди были длинные и крупнокалиберные: дуг-дуг-дуг – донеслось с высоты. Но, выпустив пол-ленты, пулемет вдруг замолк, стало тихо, в темном студеном небе сонно сверкали высокие звезды. Судя по всему, немцы что-то подкараулили в ближнем тылу под лесом. Гутман, стоя в траншее, поспешно подпоясывал полушубок, и комбат кивнул головой:
– А ну – пулей! Туда и назад!
– Есть!
Обрушив землю, ординарец выскочил из траншеи, его сапоги протопали в темноте и затихли вдали, а комбат еще постоял, вслушиваясь в неясные звуки вокруг. Но вблизи опять стало тихо, только где-то за лесом от далекой артиллерийской канонады слабым отсветом вспыхивал край неба.
– Это артиллеристы – разини! Всегда они по ночам засветят, – с раздражением сказал из землянки Маркин.
Комбат не ответил. Сзади зашуршала палатка, пятно света от фонаря косо легло на стенку траншеи, в которую высунулась голова Чернорученко.
– Товарищ комбат, десятый!
Ну вот, так и знал. Стоит на минуту промедлить с докладом, как уже вызывает сам. Внутренне поморщившись, комбат взял из рук телефониста трубку, большим пальцем решительно повернул клапан.
– Двадцатый «Березы» слушает.
– Почему не докладываете? Что там у вас за артподготовка? Опять не выполняете правил маскировки?
С первых слов, раздавшихся в трубке, было понятно, что майор уже поужинал и обретал свой обычный раздраженно-придирчивый тон. Но каскад его вопросов, предназначенных своей строгостью ошеломить собеседника в самом начале, был уже привычен комбату, давно не подавлял и не злил даже. Что делать – Волошин уже примирился с ролью нелюбимого подчиненного, терпел, впрочем, иногда огрызаясь. В общем, все было просто и даже нормально, если бы их явно неприязненные отношения не отражались иногда на батальоне, хотя тут уж он был бессилен. Комбат по обыкновению терпеливо выслушивал все и не спешил с оправданиями – выжидал, пока начальство выскажется до конца. Теперь к тому же он ждал, что вот-вот появится Гутман.
– Але! Что вы молчите? Или вы заснули там? – рокотало в трубке.
И тогда комбат позволил себе немного иронии, на которую командир полка обычно реагировал вполне серьезно.
– Стараюсь привести в систему ваши вопросы.
– Что? Какая система? Вы мне не мудрите, вы отвечайте.
– На столько вопросов не сразу ответишь.
– Плохой тот командир, который не умеет как надо доложить начальству. Надо на ходу смекать. Начальство с полуслова понимать надо.
– Спасибо.
– Что?
– Спасибо, говорю, за науку. И докладываю обстановку, – решительно перебил комбат, чтобы разом покончить с надоевшими нравоучениями, к которым командир полка питал явную склонность. – Противник продолжает укреплять высоту «Большую». Визуально отмечены земляные работы с использованием долгосрочного покрытия – бревен. Также продолжается…
– А вы воспрепятствовали? Или соизволили спокойно смотреть, как фрицы траншеи размечают?
– Траншеи, к сожалению, они разметили ночью, – нарочно не замечая издевки, спокойно докладывал комбат. – К утру все было отрыто почти в полный профиль. Пулеметный огонь оказался малоэффективным по причине пуленепробиваемости укрытий. Другие средства воздействия отсутствуют. У Иванова огурцов всего десять штук. Я уже вам докладывал.
– Слыхал. А кто это у вас дразнит немцев? Что за расхлябанность такая в хозяйстве? Наверно, костры жгут? Или из блиндажей искры шугают снопами? У вас это принято.
– У меня это не принято. Вы путаете меня с кем-то.
Это уже было дерзостью со стороны подчиненного; майор на несколько секунд замолчал, а затем другим тоном, спокойнее, однако, чем прежде, заметил:
– Вот что, капитан, не тебе поправлять, если и спутал. Молод еще.
Но, кажется, иссякало терпение и у комбата:
– Попрошу на «вы».
– Что?
– Попрошу называть на «вы».
Волошин сам начал терять выдержку, его так и подмывало швырнуть в угол эту проклятую трубку и больше не брать ее в руки, ибо весь разговор, по существу, представлял неприкрытые начальственные придирки и его оправдания, когда одна сторона позволяла себе все, что угодно, а другая должна была всячески соблюдать вежливость. Но стоило комбату переступить через сковывающее чувство подчиненности и принять предложенный тон, как голос на том конце провода заметно изменился, притих, командир полка помедлил, прокашлялся и, кажется, сам уже готов был обидеться.
– Уже и в пузырь! Подумаешь, на «ты» его назвал! Назвал, потому что имею право. Вы моложе меня. А на старших в армии не обижаются. У старших учатся. Кстати, едва не забыл, – совсем уже изменил тон Гунько. – Красное Знамя получишь. Приказ прибыл. Так что поздравляю.
«Вспомнил!» – неприязненно подумал комбат и не ответил на это запоздалое и испорченное вконец поздравление. Незанятой рукой он взял из пальцев телефониста его окурок, зубами оторвал заслюнявленный конец. Однако не успел он затянуться, как рядом, коротко рыкнув, вскочил на ноги Джим. Близко в траншее послышался топот, шорох палаток, слыхать было, как кто-то спрыгнул с бруствера. Чернорученко бросился к выходу, но сразу же отшатнулся в сторону и прижался спиной к земляной стене.
– Куда тут?
– Прямо, прямо, – послышался издали голос Гутмана.
– Осторожно, ступеньки.
– Вижу.
В земляной пол возле печки ударил яркий луч света из фонарика, который затем метнулся под чьи-то ноги. Отбросив в сторону край палатки, в землянку ввалился грузный человек в теплой, с каракулевым воротником бекеше.
Джим возле комбата опять угрожающе рыкнул и рванулся вперед. Волошин в последнее мгновение едва успел ухватить его за косматый загривок. Пес ошалело взвился на задние лапы, человек в коротком испуге отпрянул назад и раздраженно выругался.
– Что тут за псарня?
– Джим, лежать! – строго скомандовал комбат. Джим нехотя отступил и стал рядом, позволив вошедшему сделать три шага к свету.
Под палатку тем временем лезли и еще, землянка быстро становилась тесной и холодной, но Волошин впился глазами в этого первого, который выглядел явно чем-то взволнованным и рукой все держался за обнаженную голову. Сначала комбату показалось, что он растирает рукой озябшее ухо, но человек наклонился к свету, отнял руку от головы и поглядел на ладонь. На ней была кровь. Тут же к нему шагнул второй, в полушубке, с тонкой планшеткой на боку. При свете фонаря он начал вытирать окровавленную щеку вошедшего, на широком погоне которого вдруг блеснула большая генеральская звезда.
Волошин стоял в стороне, понимая уже, что это начальство и что немедленно следует доложить. Но момент был непростительно упущен, теперь просто неловко было подступиться к нему, комбат слишком промедлил и с досадным чувством совершенной оплошности шагнул к генералу:
– Товарищ генерал…
– А тише нельзя?
Генерал вполоборота повернул к нему недовольное, в морщинках лицо с седым клочком коротеньких усов под носом. Секунду они молча стояли так, друг против друга, оба напряженные, большие и плечистые.
– Зачем так громко? Мы же не на плацу.
Волошин еще помедлил, подумав, что, наверное, сказывается близость передовой. Но все-таки он окончил доклад, хотя и тише, чем начал, и генерал, переставив на ящике фонарь, сел с краю, не отрывая руки от виска, на котором кровоточила рана. Тот, второй, майор в полушубке, что вытирал ему щеку, повернулся к Маркину:
– Медпункт далеко?
– Через четыреста метров. В овражке.
– Пошлите за врачом.
– Врача у нас нет. Санинструктор, товарищ майор.
– Не имеет значения. Пошлите за санинструктором.
Волошин кивнул ординарцу:
– Гутман!
– Есть!
Ординарец выскочил в траншею, и в землянке воцарилась неловкая гнетущая тишина. Начальство молчало, по обе стороны от него в почтительном молчании замерли Волошин и Маркин. У порога над печкой грел руки какой-то плечистый боец в бушлате. Майор поискал глазами место, чтоб сесть, и увидел Джима, настороженные уши которого торчали из тени.
– Овчарка?
– Овчарка, – сдержанно сказал комбат и отступил в сторону. Генерал, грузно повернувшись на ящике, с любопытством посмотрел на пса:
– О, зверюга! Как звать?
– Джим, товарищ генерал.
Генерал снисходительно пошлепал ладонью по поле бекеши:
– Джим, Джим, ко мне!
Но Джим, не двинувшись, тихо и угрожающе рыкнул.
– Не пойдет, – сказал комбат.
– Ну это мы еще посмотрим, – бросил генерал и перевел взгляд на комбата: – Давно командуете батальоном?
– Семь месяцев, товарищ генерал.
– А чем раньше командовали?
– Ротой в этом же батальоне.
– Подождите, как, вы сказали, ваша фамилия?
– Волошин.
– Эта не ваша рота захватила переправу в Клепиках?
– Моя, товарищ генерал.
Комбат ожидал, что генерал похвалит или расспросит подробнее об этом его известном в дивизии бое, за который он получил первый свой орден. Но генерал спросил совсем о другом:
– Где передний край вашего батальона?
– По юго-западным склонам, вдоль болота.
– Покажите на карте.
Комбат достал из-за пазухи потертую гармошку карты и развернул ее перед генералом. Он уже догадывался, что было причиной недавней перепалки на передовой, и думал, что генерал сравнительно легко отделался. Могло быть хуже. Но зачем ему понадобилось так близко подъезжать к передовой – пока что оставалось для комбата загадкой.