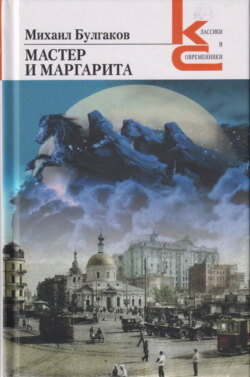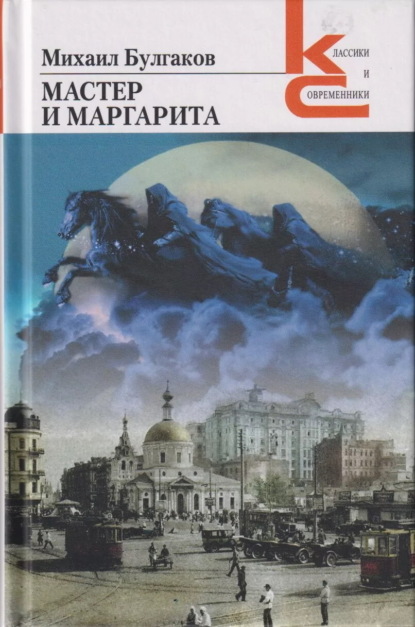© В. Гусейнов, оформление, иллюстрации, 2024.
© Издательство «Художественная литература», 2024.

Михаил Булгаков
Русский писатель не может жить без родины
Выбрать из большого числа произведений Михаила Булгакова лучшие – совсем не просто. Его творчество многообразно.
Удивительный талант писателя поражал не только собратьев по перу А. Толстого, М. Горького, Е. Замятина, но и выдающихся деятелей русской культуры К. Станиславского, В. Качалова, С. Рихтера…
Главное произведение, в котором автор причудливо смешал фантастическое и реальное, где персонажи из ада играют ключевые роли, – роман «Мастер и Маргарита». Михаил Булгаков сумел ему придать свои особые черты, вытекающие из реальной действительности двадцатых-тридцатых годов прошлого столетия.
И шел к этому писатель многие годы…
Михаил Булгаков родился 5 мая 1891 года в Киеве.
Его отец, Афанасий Булгаков, был профессором Киевской духовной академии. Он знал греческий, немецкий, французский, английский языки, читал на старославянском.
Мать, Варвара Булгакова, работала учительницей в гимназии, но в замужестве посвятила себя детям.
Будущий писатель был старшим ребенком: позже в семье Булгаковых родились дети Вера, Надежда, Варвара, Николай, Иван и Елена. Отец кроме основной работы преподавал историю в Институте благородных девиц и служил в Канцелярии киевского цензора.
У Булгаковых часто звучала музыка. По вечерам мать играла на рояле. Иногда скрипку в руки брал отец, и родители вместе пели романсы. Детей часто водили на летние концерты в Купеческом саду над Днепром, покупали билеты в оперу, и на «Фауста» с Федором Шаляпиным в главной роли семья ходила несколько раз. Булгаковы ставили и благотворительные спектакли, в которых играли домочадцы, и проходили они либо в приютах для инвалидов, либо в квартирах друзей.
Жили они на Андреевском спуске. В очерке «Киев-город» писатель позже вспоминал: «Весной зацветали белым цветом сады… солнце ломилось во все окна, зажигало в них пожары. А Днепр! А закаты!» Недалеко от Киева, в поселке Буча родители купили дачу – одноэтажный пятикомнатный дом с двумя верандами. Сюда с 1900 года семья переезжала каждое лето, чтобы дети проводили больше времени на природе.
В доме была большая библиотека. Светлая королева – так называл Михаил Булгаков свою мать – прививала детям любовь к чтению. Михаил читал произведения А. Пушкина, Л. Толстого, приключенческие романы Ф. Купера и сказки М. Салтыкова-Щедрина. Любимым писателем был Н. Гоголь.
Такими счастливыми были годы детства автора.
В 1901 году Михаила Булгакова зачислили в самую престижную школу города – Первую Киевскую мужскую гимназию, учеба давалась ему легко.
В 1907 году не стало отца. Ежемесячной пенсии, которую выплачивала семье Киевская духовная академия, не хватало. Варвара Булгакова начала преподавать на вечерних женских курсах. Старший сын, помогая матери, занимался репетиторством, а летом служил кондуктором на железной дороге. Несмотря на денежные трудности, все дети продолжали учиться в престижных гимназиях Киева. Мать говорила: «Я не могу вам дать приданое или капитал. Но я могу вам дать единственный капитал, который у вас будет, – это образование».
После окончания Михаил поступил на медицинский факультет Киевского университета. Еще студентом Булгаков женился, в 1913 году обвенчался с Татьяной Лаппа. В 1916 году, сдав выпускные экзамены, получил степень лекаря с отличием и уехал на юго-западный фронт добровольцем Красного Креста. После двух лет службы врачом в военных госпиталях и земских больницах Михаил Булгаков к весне 1918 года вернулся в Киев. В родном городе он открыл частный прием, а по вечерам писал. В этот период ему выпало пережить многократную смену властей. И уже в сентябре 1919 года Булгакова направили военным врачом во Владикавказ. Здесь он заболел тифом, а после выздоровления в городе власть уже была у революционного комитета… В этой обстановке Михаил Булгаков решил изменить род занятий и продолжал писать.
Исследователи его творчества считают, что первым напечатанным произведением стала статья «Грядущие перспективы» 13 (26) ноября 1919 года в газете «Грозный». Мысль о будущем России – главный мотив статьи, вот что не давало покоя Булгакову в эти тяжелейшие годы.
Во Владикавказе Булгаков заведовал литературной и театральной секцией: он организовывал литературные вечера, публичные чтения, лекции по истории культуры. Параллельно ставил на театральной сцене пьесы, которые писал сам.
Недолго Булгаков оставался здесь ив 1921 году переехал в Москву. Работал хроникером в «Торгово-промышленном вестнике», в газете «Рабочий», обработчиком писем в издании «Гудок». Фельетоны и очерки для «Гудка» в то время писали известные литераторы Илья Ильф и Евгений Петров, Валентин Катаев, Юрий Олеша, Исаак Бабель. С апреля 1922 года к ним присоединился и Михаил Булгаков. Его статьи можно было прочитать почти в каждом номере газеты.
Первые годы жизни в Москве, несмотря на тяжелые бытовые условия, были для писателя исключительно плодотворными: днем писал фельетоны для «Гудка», а вечерами трудился над своими произведениями, он одновременно работал над несколькими – среди них повести «Дьяволиада», «Роковые яйца» и «Собачье сердце». В этот период Булгаков вступил и во Всероссийский союз писателей. Уже в 1923 году он начал работу над романом «Белая гвардия». Опубликованные вскоре в журнале «Россия» две части этого произведения он посвятил своей новой жене, Любови Белозерской.
Весной 1926 года был выслан за границу редактор журнала «Россия», где печатался Михаил Булгаков. И вскоре в квартиру к писателю пришли с обыском. У него изъяли дневник и сатирическую повесть «Собачье сердце». Вернуть рукопись удалось только после того, как за писателя вступился Максим Горький. Но повесть так и не была напечатана при жизни автора.
К этому времени постепенно пьесы «Дни Турбиных», «Зойкина квартира», «Бег», премьеры которых триумфально прошли в театрах, снимали с репертуара, прозаические произведения не печатали, начавшаяся травля ужесточалась. Напряжение нарастало. «Я уже сейчас терплю бедствие…» – писал Булгаков брату Николаю в Париж. Существующие уже наброски «Романа о дьяволе» писатель сжег. Бессильному гневу художника необходим был выход. И он написал новую пьесу «Кабала Святош», ее разрешили к постановке, но очень быстро это решение было изменено на запрет.
28 марта 1930 года Булгаков в состоянии отчаяния написал письмо генеральному секретарю ЦК ВКП(б) и Правительству СССР, в котором изложил просьбу об эмиграции. «Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя, в отечестве, великодушно отпустить на свободу». «Ныне я уничтожен… Я прошу принять во внимание, что невозможность писать для меня равносильна погребению заживо».
Через месяц, 18 апреля 1930 года в его квартире раздался телефонный звонок – говорил Сталин. Писатель был потрясен. В письме к В. Вересаеву Булгаков так написал об этом событии: «…в самое время отчаяния… по счастию мне позвонил генеральный секретарь… Поверьте моему вкусу: он вел разговор сильно, ясно, государственно и элегантно». После телефонного разговора со Сталиным, в мае 1930 года Булгакова зачислили на должность ассистента режиссера во МХАТ. В сердце писателя зажглась надежда.
Как считал литературовед и архивист Виктор Лосев, подготовивший полное издание черновиков и рукописей романа, первые мысли о такой книге появились у Булгакова в середине 20-х, в период яростной борьбы с христианством на государственном уровне. Булгаков рассматривал явление как целенаправленное уничтожение основ тысячелетней русской духовности и государственности. Вероятно, тогда, в 1926 году Булгаков уже задумывался над будущим романом «Мастер и Маргарита», где отразились научные интересы отца, А. И. Булгакова, а именно история Христианства.
В тот период выходило множество антирелигиозных книг и статей, в частности журнал «Безбожник», в редакцию которого Булгаков в январе 1925 года нанес визит. «Когда я бегло проглядел у себя дома вечером номера «Безбожника», был потрясен… Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника… Этому преступлению нет цены. А сову эту я разъясню».
Внимание Булгакова привлекали многие проблемы, но более всего его интересовало состояние человеческого духа в новой социальной среде. К великому своему огорчению, он подмечал, что значительная часть населения прежней России слишком быстро сумела освободиться от традиционного уклада жизни.
Культивирование низменных инстинктов на ниве невежества приобретало все более массовый характер и грозило духовному вырождению народа… Писатель был чуток к малейшим проявлениям несправедливости и некомпетентности.
Написав роман о дьяволе в двух редакциях, первые редакции романа Булгаков уничтожил. В одном из своих писем П. С. Попову Булгаков с иронией заметил: «Печка давно сделалась моей излюбленной редакцией». Попытки вернуться к роману были у писателя в 1930 и 1931 годах, и окончательное возвращение к нему состоялось в 1932 году.
2 августа 1933 года Булгаков сообщал своему другу писателю В. Вересаеву: «…задыхаясь в моих комнатенках, я стал марать страницу за страницей наново тот свой уничтоженный три года назад роман. Зачем? <… > Пусть упадет в Лету!»
Работа над «Мастером и Маргаритой» продолжалась в общей сложности 12 лет. Изначально Булгаков видел книгу комической повестью о пребывании в «красной столице» «маэстро» Воланда и хотел дать то название «Копыто инженера», то «Жонглер с копытом», то «Великий канцлер», то «Князь тьмы», то «Черный маг», то просто «Роман». В нем автор представил панораму событий – фантастических и реальных – призванную раскрыть происходящие в стране перемены, особенно в области духовно-нравственной. Для своего произведения писатель делал выписки из богословских трудов, энциклопедических словарей и философских учений по темам: «О дьяволе», «Иисус Христос», «О боге».
В 1932 году вновь семейная лодка Михаила Булгакова разбилась: он расстался с Любовью Белозерской и его «тайный друг» Елена Шиловская, помогавшая ему во всем, стала его женой. Она печатала под диктовку произведения, вела все его дела.
В первых вариантах рукописи не было ни Мастера, ни Маргариты – эта романтическая линия появилась позже. В конце 1937 года роман получил название «Мастер и Маргарита». И прототипом Маргариты стала Булгакова Елена Сергеевна.
Время от времени у писателя появлялась надежда, что роман все же опубликуют. Он читал отрывки своим знакомым. В письмах жене он писал: «Что будет?…Не знаю. Вероятно, ты уложишь [роман] в бюро или в шкаф, где лежат убитые мои пьесы, и иногда будешь вспоминать о нем. <…> Свой суд над этой вещью я уже совершил, и если мне удастся еще немного приподнять конец, я буду считать, что вещь заслуживает корректуры и того, чтобы быть уложенной в тьму ящика».
К 1938 году роман был готов, однако править его Булгаков продолжал до своей смерти.
Осенью 1939 года писатель серьезно заболел.
Еще в феврале 1940 года он продиктовал последние правки к роману «Мастер и Маргарита». А 10 марта 1940 года писатель скончался.
Его тело кремировали, а прах захоронили на Новодевичьем кладбище.
Он умер, не закончив книгу. Роман, который теперь известен, появился благодаря трудам его вдовы Елены Сергеевны, проделавшей большую редакторскую работу.
Ближайший друг писателя П. С. Попов очень точно сказал о Булгакове: «Беспокойный, трудный путь писателя, пройденный с таким напряжением и неоскудевавшей энергией, путь жизни и творчества…и который оборвался так рано… дает право писа – телю… на глубокую признательность за незабываемый вклад, внесенный им в сокровищницу русской литературы».
Благодаря поэту К. Симонову состоялась первая публикация романа в журнале «Москва», № 11 за 1966 г. и № 1 за 1967 г. с многочисленными сокращениями.
Полный текст романа в нашей стране был опубликован в 1973 году издательством «Художественная литература» тиражом 30 000 экземпляров.
Мастер и Маргарита
Часть первая
…Так кто ж ты, наконец?
– Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Гете. “Фауст”
Глава 1. Никогда не разговаривайте с неизвестными
Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина. Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо выбритом лице его помещались сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе. Второй – плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной на затылок клетчатой кепке – был в ковбойке, жеваных белых брюках и в черных тапочках.
Первый был не кто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, председатель правления одной из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуемой МАССОЛИТ, и редактор толстого художественного журнала, а молодой спутник его – поэт Иван Николаевич Понырев, пишущий под псевдонимом Бездомный.
Попав в тень чуть зеленеющих лип, писатели первым долгом бросились к пестро раскрашенной будочке с надписью “Пиво и воды”.
Да, следует отметить первую странность этого страшного майского вечера. Не только у будочки, но и во всей аллее, параллельной Малой Бронной улице, не оказалось ни одного человека. В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, – никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея.
– Дайте нарзану, – попросил Берлиоз.
– Нарзану нету, – ответила женщина в будочке и почему-то обиделась.
– Пиво есть? – сиплым голосом осведомился Бездомный.
– Пиво привезут к вечеру, – ответила женщина.
– А что есть? – спросил Берлиоз.
– Абрикосовая, только теплая, – сказала женщина.
– Ну, давайте, давайте, давайте!..
Абрикосовая дала обильную желтую пену, и в воздухе запахло парикмахерской. Напившись, литераторы немедленно начали икать, расплатились и уселись на скамейке лицом к пруду и спиной к Бронной.
Тут приключилась вторая странность, касающаяся одного Берлиоза. Он внезапно перестал икать, сердце его стукнуло и на мгновенье куда-то провалилось, потом вернулось, но с тупой иглой, засевшей в нем. Кроме того, Берлиоза охватил необоснованный, но столь сильный страх, что ему захотелось тотчас же бежать с Патриарших без оглядки. Берлиоз тоскливо оглянулся, не понимая, что его напугало. Он побледнел, вытер лоб платком, подумал: “Что это со мной? Этого никогда не было… сердце шалит… я переутомился. Пожалуй, пора бросить все к черту и в Кисловодск…”
И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок… Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая.
Жизнь Берлиоза складывалась так, что к необыкновенным явлениям он не привык. Еще более побледнев, он вытаращил глаза и в смятении подумал: “Этого не может быть!..”
Но это, увы, было, и длинный, сквозь которого видно, гражданин, не касаясь земли, качался перед ним и влево и вправо.
Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза. А когда он их открыл, увидел, что все кончилось, марево растворилось, клетчатый исчез, а заодно и тупая игла выскочила из сердца.
– Фу ты черт! – воскликнул редактор, – ты знаешь, Иван, у меня сейчас едва удар от жары не сделался! Даже что-то вроде галлюцинации было, – он попытался усмехнуться, но в глазах его еще прыгала тревога, и руки дрожали.
Однако постепенно он успокоился, обмахнулся платком и, произнеся довольно бодро: “Ну-с, итак…” – повел речь, прерванную питьем абрикосовой.
Речь эта, как впоследствии узнали, шла об Иисусе Христе. Дело в том, что редактор заказал поэту для очередной книжки журнала большую антирелигиозную поэму. Эту поэму Иван Николаевич сочинил, и в очень короткий срок, но, к сожалению, ею редактора нисколько не удовлетворил. Очертил Бездомный главное действующее лицо своей поэмы, то есть Иисуса, очень черными красками, и тем не менее всю поэму приходилось, по мнению редактора, писать заново. И вот теперь редактор читал поэту нечто вроде лекции об Иисусе, с тем чтобы подчеркнуть основную ошибку поэта. Трудно сказать, что именно подвело Ивана Николаевича – изобразительная ли сила его таланта или полное незнакомство с вопросом, по которому он собирался писать, – но Иисус в его изображении получился ну совершенно как живой, хотя и не привлекающий к себе персонаж. Берлиоз же хотел доказать поэту, что главное не в том, каков был Иисус, плох ли, хорош ли, а в том, что Иисуса-то этого, как личности, вовсе не существовало на свете и что все рассказы о нем – простые выдумки, самый обыкновенный миф.
Надо заметить, что редактор был человеком начитанным и очень умело указывал в своей речи на древних историков, например, на знаменитого Филона Александрийского, на блестяще образованного Иосифа Флавия, никогда ни словом не упоминавших о существовании Иисуса. Обнаруживая солидную эрудицию, Михаил Александрович сообщил поэту, между прочим, и о том, что то место в 15-й книге, в главе 44-й знаменитых Тацитовых “Анналов”, где говорится о казни Иисуса, – есть не что иное, как позднейшая поддельная вставка.
Поэт, для которого все, сообщаемое редактором, являлось новостью, внимательно слушал Михаила Александровича, уставив на него свои бойкие зеленые глаза, и лишь изредка икал, шепотом ругая абрикосовую воду.
– Нет ни одной восточной религии, – говорил Берлиоз, – в которой, как правило непорочная дева не произвела бы на свет бога. И христиане, не выдумав ничего нового, точно так же создали своего Иисуса, которого на самом деле никогда не было в живых. Вот на это-то и нужно сделать главный упор…
Высокий тенор Берлиоза разносился в пустынной аллее, и по мере того, как Михаил Александрович забирался в дебри, в которые может забираться, не рискуя свернуть себе шею, лишь очень образованный человек, – поэт узнавал все больше и больше интересного и полезного и про египетского Озириса, благостного бога и сына Неба и Земли, и про финикийского бога Фаммуза, и про Мардука, и даже про менее известного грозного бога Вицлипуцли, которого весьма почитали некогда ацтеки в Мексике.
И вот как раз в то время, когда Михаил Александрович рассказывал поэту о том, как ацтеки лепили из теста фигурку Вицлипуцли, в аллее показался первый человек.
Впоследствии, когда, откровенно говоря, было уже поздно, разные учреждения представили свои сводки с описанием этого человека. Сличение их не может не вызвать изумления. Так, в первой из них сказано, что человек этот был маленького роста, зубы имел золотые и хромал на правую ногу. Во второй – что человек был росту громадного, коронки имел платиновые, хромал на левую ногу. Третья лаконически сообщает, что особых примет у человека не было.
Приходится признать, что ни одна из этих сводок никуда не годится.
Раньше всего: ни на какую ногу описываемый не хромал, и росту был не маленького и не громадного, а просто высокого. Что касается зубов, то с левой стороны у него были платиновые коронки, а с правой – золотые. Он был в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет костюма, туфлях. Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нес трость с черным набалдашником в виде головы пуделя. По виду – лет сорока с лишним. Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз черный, левый почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой. Словом – иностранец.
Пройдя мимо скамьи, на которой помещались редактор и поэт, иностранец покосился на них, остановился и вдруг уселся на соседней скамейке, в двух шагах от приятелей.
“Немец”, – подумал Берлиоз.
“Англичанин, – подумал Бездомный, – ишь, и не жарко ему в перчатках”.
А иностранец окинул взглядом высокие дома, квадратом окаймлявшие пруд, причем заметно стало, что видит это место он впервые и что оно его заинтересовало.
Он остановил свой взор на верхних этажах, ослепительно отражающих в стеклах изломанное и навсегда уходящее от Михаила Александровича солнце, затем перевел его вниз, где стекла начали предвечерне темнеть, чему-то снисходительно усмехнулся, прищурился, руки положил на набалдашник, а подбородок на руки.
– Ты, Иван, – говорил Берлиоз, – очень хорошо и сатирически изобразил, например, рождение Иисуса, сына божия, но соль-то в том, что еще до Иисуса родился еще ряд сынов божиих, как, скажем, фригийский Аттис, коротко же говоря, ни один из них не рождался и никого не было, в том числе и Иисуса, и необходимо, чтобы ты, вместо рождения и, скажем, прихода волхвов, описал нелепые слухи об этом рождении… А то выходит по твоему рассказу, что он действительно родился!..
Тут Бездомный сделал попытку прекратить замучившую его икоту, задержав дыхание, отчего икнул мучительнее и громче, и в этот же момент Берлиоз прервал свою речь, потому что иностранец вдруг поднялся и направился к писателям.
Те поглядели на него удивленно.
– Извините меня, пожалуйста, – заговорил подошедший с иностранным акцентом, но не коверкая слов, – что я, не будучи знаком, позволяю себе… но предмет вашей ученой беседы настолько интересен, что…
Тут он вежливо снял берет, и друзьям ничего не оставалось, как приподняться и раскланяться.
“Нет, скорее француз…” – подумал Берлиоз.
“Поляк?..” – подумал Бездомный.
Необходимо добавить, что на поэта иностранец с первых же слов произвел отвратительное впечатление, а Берлиозу скорее понравился, то есть не то чтобы понравился, а… как бы выразиться… заинтересовал, что ли.
– Разрешите мне присесть? – вежливо попросил иностранец, и приятели как-то невольно раздвинулись; иностранец ловко уселся между ними и тотчас вступил в разговор.
– Если я не ослышался, вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете? – спросил иностранец, обращая к Берлиозу свой левый зеленый глаз.
– Нет, вы не ослышались, – учтиво ответил Берлиоз, – именно это я и говорил.
– Ах, как интересно! – воскликнул иностранец.
“А какого черта ему надо?” – подумал Бездомный и нахмурился.
– А вы соглашались с вашим собеседником? – осведомился неизвестный, повернувшись вправо к Бездомному.
– На все сто! – подтвердил тот, любя выражаться вычурно и фигурально.
– Изумительно! – воскликнул непрошеный собеседник и, почему-то воровски оглянувшись и приглушив свой низкий голос, сказал: – Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще и не верите в бога? – он сделал испуганные глаза и прибавил: – Клянусь, я никому не скажу.
– Да, мы не верим в бога, – чуть улыбнувшись испугу интуриста, ответил Берлиоз. – Но об этом можно говорить совершенно свободно.
Иностранец откинулся на спинку скамейки и спросил, даже привизгнув от любопытства:
– Вы – атеисты?!
– Да, мы – атеисты, – улыбаясь, ответил Берлиоз, а Бездомный подумал, рассердившись: “Вот прицепился, заграничный гусь!”
– Ох, какая прелесть! – вскричал удивительный иностранец и завертел головой, глядя то на одного, то на другого литератора.
– В нашей стране атеизм никого не удивляет, – дипломатически вежливо сказал Берлиоз, – большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о боге.
Тут иностранец отколол такую штуку: встал и пожал изумленному редактору руку, произнеся при этом слова:
– Позвольте вас поблагодарить от всей души!
– За что это вы его благодарите? – заморгав, осведомился Бездомный.
– За очень важное сведение, которое мне, как путешественнику, чрезвычайно интересно, – многозначительно подняв палец, пояснил заграничный чудак.
Важное сведение, по-видимому, действительно произвело на путешественника сильное впечатление, потому что он испуганно обвел глазами дома, как бы опасаясь в каждом окне увидеть по атеисту.
“Нет, он не англичанин…” – подумал Берлиоз, а Бездомный подумал: “Где это он так наловчился говорить по-русски, вот что интересно!” – и опять нахмурился.
– Но, позвольте вас спросить, – после тревожного раздумья спросил заграничный гость, – как же быть с доказательствами бытия божия, коих, как известно, существует ровно пять?
– Увы! – с сожалением ответил Берлиоз, – ни одно из этих доказательств ничего не стоит, и человечество давно сдало их в архив. Ведь согласитесь, что в области разума никакого доказательства существования бога быть не может.
– Браво! – вскричал иностранец, – браво! Вы полностью повторили мысль беспокойного старика Иммануила по этому поводу. Но вот курьез: он начисто разрушил все пять доказательств, а затем, как бы в насмешку над самим собою, соорудил собственное шестое доказательство!
– Доказательство Канта, – тонко улыбнувшись, возразил образованный редактор, – также неубедительно. И недаром Шиллер говорил, что кантовские рассуждения по этому вопросу могут удовлетворить только рабов, а Штраус просто смеялся над этим доказательством.
Берлиоз говорил, а сам в это время думал: “Но, все-таки, кто же он такой? И почему так хорошо говорит по-русски?”
– Взять бы этого Канта, да за такие доказательства года на три в Соловки! – совершенно неожиданно бухнул Иван Николаевич.
– Иван! – сконфузившись, шепнул Берлиоз.
Но предложение отправить Канта в Соловки не только не поразило иностранца, но даже привело в восторг.
– Именно, именно, – закричал он, и левый зеленый глаз его, обращенный к Берлиозу, засверкал, – ему там самое место! Ведь говорил я ему тогда за завтраком: “Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, может, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут”.
Берлиоз выпучил глаза. “За завтраком… Канту?.. Что это он плетет?” – подумал он.
– Но, – продолжал иноземец, не смущаясь изумлением Берлиоза и обращаясь к поэту, – отправить его в Соловки невозможно по той причине, что он уже с лишком сто лет пребывает в местах значительно более отдаленных, чем Соловки, и извлечь его оттуда никоим образом нельзя, уверяю вас!
– А жаль! – отозвался задира-поэт.
– И мне жаль! – подтвердил неизвестный, сверкая глазом, и продолжал: – Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?
– Сам человек и управляет, – поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос.
– Виноват, – мягко отозвался неизвестный, – для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? И, в самом деле, – тут неизвестный повернулся к Берлиозу, – вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас… кхе… кхе… саркома легкого… – тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, – да, саркома, – жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, – и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать, вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает, и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье – совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи. А бывает и еще хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск, – тут иностранец прищурился на Берлиоза, – пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, потому что неизвестно почему вдруг возьмет – поскользнется и попадет под трамвай! Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? – и здесь незнакомец рассмеялся странным смешком.
Берлиоз с великим вниманием слушал неприятный рассказ про саркому и трамвай, и какие-то тревожные мысли начали мучить его. “Он не иностранец! Он не иностранец! – думал он, – он престранный субъект… Но позвольте, кто же он такой?”
– Вы хотите курить, как я вижу? – неожиданно обратился к Бездомному неизвестный, – вы какие предпочитаете?
– А у вас разные, что ли, есть? – мрачно спросил поэт, у которого папиросы кончились.
– Какие предпочитаете? – повторил неизвестный.
– Ну, “Нашу марку”, – злобно ответил Бездомный.
Незнакомец немедленно вытащил из кармана портсигар и предложил его Бездомному:
– “Наша марка”.
И редактора и поэта не столько поразило то, что нашлась в портсигаре именно “Наша марка”, сколько сам портсигар. Он был громадных размеров, червонного золота, и на крышке его при открывании сверкнул синим и белым огнем бриллиантовый треугольник.
Тут литераторы подумали разно. Берлиоз: “Нет, иностранец!”, а Бездомный: “Вот черт его возьми! А?”
Поэт и владелец портсигара закурили, а некурящий Берлиоз отказался.
“Надо будет ему возразить так, – решил Берлиоз, – да, человек смертен, никто против этого и не спорит. А дело в том, что…”
Однако он не успел выговорить этих слов, как заговорил иностранец:
– Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер.
“Какая-то нелепая постановка вопроса…” – помыслил Берлиоз и возразил:
– Ну, здесь уж есть преувеличение. Сегодняшний вечер мне известен более или менее точно. Само собой разумеется, что, если на Бронной мне свалится на голову кирпич…
– Кирпич ни с того ни с сего, – внушительно перебил неизвестный, – никому и никогда на голову не свалится. В частности же, уверяю вас, вам он ни в коем случае не угрожает. Вы умрете другой смертью.
– Может быть, вы знаете, какой именно? – с совершенно естественной иронией осведомился Берлиоз, вовлекаясь в какой-то действительно нелепый разговор, – и скажете мне?
– Охотно, – отозвался незнакомец. Он смерил Берлиоза взглядом, как будто собирался сшить ему костюм, сквозь зубы пробормотал что-то вроде: “Раз, два… Меркурий во втором доме… луна ушла… шесть – несчастье… вечер – семь…” – и громко и радостно объявил: – Вам отрежут голову!
Бездомный дико и злобно вытаращил глаза на развязного неизвестного, а Берлиоз спросил, криво усмехнувшись:
– А кто именно? Враги? Интервенты?
- Пропавшая грамота
- Басни
- Человек из ресторана
- Сущая правда
- Горе от ума
- Записки юного врача. Ранняя проза
- Пестрые сказки. Рассказы
- Тарас Бульба. Повести из цикла «Миргород»
- Повести и рассказы
- История одного города. Сказки
- Записки врача
- Одесские рассказы. Конармия
- Петр Первый
- Записки охотника
- Турецкие рассказы
- «Однодум» и другие рассказы
- Осенние цветы
- Отцы и дети. Избранное
- Мелкий бес
- Колумб Замоскворечья
- Янки из Коннектикута при дворе короля Артура
- «Белые ночи» и другие произведения
- Князь Серебряный
- Концерт бесов. Мистические произведения русских писателей
- Мастер и Маргарита