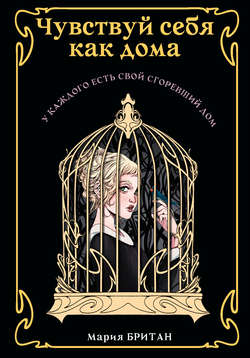Моей Ласточке, рядом с которой всегда тепло
Не навещай меня
Или входи без стука.
Не издавай ни звука
И не блуждай одна.
Скрипит, рыдает пол.
Зажмурься. Видишь, Тора?
Квикстеп танцуют шторы,
И дверь забила гол.
Под скрипку пляшет дом.
«Тик-так», – чеканит сердце.
Тик-так. Тик-так. Два герца.
Позволь мне быть смычком.
Кромсает пол трава.
Фальшивят все пластинки:
У них сейчас поминки.
Как жаль, что ты мертва.
1
Захар
[До]
Начало 80-ых
Я слышу их. Они – моя стая. Друзья с тикающими сердцами марки Zahnrad[1].
У них есть глаза. И руки, и рот – все как у людей. Они радуются, грустят, ненавидят. О, ненавидят они по-особенному. И если ты гребаный турист, читающий мой дневник и блуждающий по обломкам свихнувшегося дома, знай: ты на две трети покойник, Вячеслав. Ты же не против, если я буду называть тебя Вячеславом? Мое любимое имя!
Надеюсь, тебе нравится.
Ты по-прежнему здесь? Дай угадаю: ты идиот. Нет? Тогда все хреново. Двери закрыты. Ключи похоронены. Окна заколочены. Поздравляю, ты попал в ловушку. Этот дом – могила. У него слишком прочные стены – ты не пробьешь их, и чересчур хрупкие потолки – пара булыжников проломят тебе череп.
Твоя кровь смочит страницы моего дневника. Чернила расплывутся. Моя история умрет в твоих эритроцитах. Чтоб тебя.
Не ожидал, что сдохнешь?
Если ты читаешь это, я тоже не ожидал.
Ищи его сердце, Вячеслав. Не медли. Вдруг оно тикает где-то поблизости, за холодильником, облепленным наклейками из упаковок жвачек? Ты успеешь.
Я всегда успевал.
Когда найдешь часы с выгравированной под циферблатом надписью Zahnrad, разбей их. Вытащи батарейки. Залей кровью. Сделай так, чтобы они навечно заткнулись.
У тебя будет ровно минута на спасение. Шестьдесят секунд. Не больше. Не меньше. Дом пунктуален.
Подумай, сколько шагов тебе понадобится, чтобы выбраться через дверь у окна?
А через ту, что около шкафа?
Или у тумбочки-развалюхи, где ты нашел чьи-то череп и туфли?
Найди кратчайший путь. Слыхал об алгоритме Дейкстры[2]? Вообрази, что до крыльца тебе идти миллиарды лет. Рассчитывай ходы в комнатах. Выбери минимум.
Задачка на пять баллов и жизнь в подарок. Ошибешься – сгоришь вместе с домом.
Это несложно.
Я ошибся всего раз.
Найди кратчайший путь или шипи на сковороде.
Представь: жена звонит тебе и щебечет, что ты выиграл в любимой лотерее. Но на кой тебе эти деньги, если ты скоро поджаришься?
Надеюсь, уяснил.
А сейчас – вперед.
Попытайся спасти мою историю.
* * *
Я скольжу пальцами по шершавой кирпичной стене. Мне пять. Я люблю игрушечную железную дорогу, подаренную батей на день рождения. Это же улет! И пусть паровоз по ней не ездит. Пусть он с браком. Я едва уломал матушку, чтобы она его не выкидывала и не меняла.
А еще я люблю предков. Пинать камни. Пугать всех вокруг и нырять в волны.
Я хорошо плаваю.
Матушка переживает, что со мной не дружат сверстники. Я объясняю ей – зря.
Дома́, хоть и не сверстники, но тоже ничего.
Не помню, когда это началось. Но раньше, чем я научился говорить.
Матушка водит меня к врачу. Тот показывает картинки, а я замечаю не то, что следует обычному мальчику. Да, чудовище. Да, с тремя желтыми глазами на каждой из голов. Если бы оно жило в нашем доме, его морды выглядывали бы из окон чердака. Вот смеху-то было бы! Я бы кормил его блинчиками.
Матушке не нравится мое воображение. Она его удалит, точно. Поэтому мне страшно к ней приближаться, когда она держит нож. По ночам матушка жалуется бате, что со мной что-то не так.
Если честно, я боюсь. Вдруг она выгонит нас с бракованным паровозом из дому? Интересно, есть ли пункты обмена детей?
Однажды за завтраком матушка цапает меня за запястье и просит, чтобы я никому не говорил о друзьях-домах. Наверное, боится, что я буду выглядеть странно.
Я обижаюсь на матушку, и дом обижается вместе со мной.
Со стола падает стакан. Матушка уверена, что пихнула его локтем.
Но я в курсе: это дом грустит. Дом хочет дружить с ней. А она – нет.
Его сердце в подобные моменты тикает чаще обычного. Предки удивляются, почему часы спешат, и возвращают стрелки обратно.
Дому больно. Он плачет – протекает крыша. Всегда – хоть чини, хоть не чини.
Ты до сих пор здесь, Вячеслав? Неужто не нашел часы?
Тогда читай вслух. Поднимись и постарайся не задохнуться. Хрусти лопатками, не опускай глаза. Вот так. И подбородок – выше.
Не бойся смерти, пока она не скажет: «Здравствуй. Как поживаешь?»
* * *
Мне шесть. Матушка бросила попытки сделать меня нормальным. Не обращает внимания, как я жмусь к стене и что-то бормочу. Ну и ладно. Зато со мной дружат протекающая крыша и половицы.
Я спрашиваю у дома:
– Как жизнь?
А он отвечает:
– Отлично.
Спрашиваю:
– Почему я?
А он отвечает:
– Ты славный малый.
Спрашиваю:
– Я случайно не псих?
А он отвечает:
– У тебя просто протекает крыша.
Не бойся безумия, пока оно не скажет: «Здравствуй. Как поживаешь?»
Мне семь.
Со мной по-прежнему не дружат сверстники. Я хожу в школу. Мертвую школу. По крайней мере, она молчит. Я пробовал с ней заговорить, а она ни в какую. Или упрямая, или и правда сдохла.
Может, она невзлюбила учеников. Может, виновато сердце-часы – здесь оно тикает тише, чем дома.
Может, школа больна.
Мне так и не удалили фантазию.
И почему матушка до сих пор не обменяла меня на кого-то получше? На что она надеется?
Впрочем, паровоз я тоже не обменял. И ни на что не надеюсь.
Мне восемь.
Я провожу все свободное время у себя в комнате. Прижимаюсь к обоям так, что краснеет ухо – иногда дом шепчет чересчур неразборчиво.
Одноклассники обзывают меня маменькиным сынком. А все потому, что я отправляюсь домой в шесть, ведь уже темнеет. Я боюсь. Ночью голоса домов особенно различимы.
Одноклассники обзывают меня кирпичом. А все потому, что я часто прислушиваюсь к стенам, сливаюсь с ними. «И лицо приплюснутое», – заявляет Пашка, главный придурок поселка, – долговязый, с белыми-белыми седыми волосами, хотя ему всего восемь, и с длинными, девчачьими ресницами. Странно, что над ним никто не подшучивает.
Одноклассники обзывают меня сумасшедшим. А все потому, что моя крыша протекает.
Мы с домом – близнецы. Только я не давлюсь штукатуркой.
В первый день осени банда во главе с Пашкой перелезает через забор и кидает камни в мое окно.
Маменькин сынок.
Кирпич.
Сумасшедший.
Осколки летят в разные стороны. Сердце дома тикает быстрее и быстрее и, должно быть, спешит на часов сорок. Больно, больно. Как же ему больно.
Мальчишки гогочут. Они попали в цель и проучили негодяя.
Я не успеваю увернуться – камень попадает мне в лоб – и растекаюсь лужицей по полу.
Мальчишки грозятся меня закопать, скормить крысам, законсервировать вместо огурцов. Но вскоре крики обрываются. Я с трудом доползаю до подоконника и пялюсь в окно: у Пашки из носа льется кровь – пачкает рубашку, капает на траву. Рядом – разбитый горшок с землей и пока не проросшими матушкиными цветами.
– Спасибо, – мямлю я, гладя стену.
Дом меня защищает.
Мы – друзья.
Этим же вечером к нам заявляются предки Пашки и визжат, что я сломал их сыну нос.
– А вы нам окно разбили, – парирует батя. – Смотрите, что у Захара на лбу!
К тому времени моя шишка приобретает размеры Земли.
– Ваш Паша перелез через забор, – подключается матушка, гладя меня по башке с таким усердием, что я боюсь, не останусь ли лысым.
Они грызутся, наверное, вечность – я успеваю сосчитать до ста и обратно – а после разбегаются как ни в чем не бывало, мысленно посылая друг друга к черту. Я молюсь, чтобы нас с домом никто не тронул.
За ужином предки косятся на меня с опаской, и матушка не выдерживает:
– Нельзя кидать горшки, Захар. Ты же это понимаешь? – Она отодвигает тарелку, выпрямляется, вытягивается и, кажется, худеет, как кусок теста. Длинная-длинная матушка стремится к потолку. – Они поступили ужасно. Но и ты не лучше.
Я засасываю спагетти и мотаю головой:
– Это не я.
– А кто?
– Не я.
– Не ври нам, Захар, – встревает батя.
– Я не вру.
Матушкина макушка достает до потолка, дом изгибается дугой.
А потом мне на целых четыре недели запрещают гулять после школы. Жаль, ведь я люблю знакомиться с новыми домами.
Постепенно матушка приобретает прежние размеры и отправляется мыть посуду.
Ночью, когда предки умолкают, я прислоняюсь ухом к стене и спрашиваю:
– Тебе больно?
А дом отвечает:
– Будет фингал.
* * *
В начале каждого месяца к нам забегает соседка, местный милиционер[3]. Я не в курсе, зачем мы ей понадобились, но она без устали болтает, какой ухоженный у нас огород, и дарит яблоки (или клубнику, смородину – по сезону), хвастаясь, что у нее много уродилось. Зимой приносит пироги. И так во все дома.
Люди говорят, она не в себе. Что ее бросил ухажер, и от страданий ее психика превратилась в сельдь под шубой, причем шубой очень-очень толстой.
Но я им не верю. Она поворачивается ко мне и, точно лучами, пронизывает взглядом. Не как предки, будто сопереживает, будто дошло до нее, что у меня воспаленная фантазия.
– Добрый день. А я вам фрукты принесла. Дай, думаю, порадую любимых соседей. – И топчется на пороге с корзиной яблок.
Ох, как же она мне не нравится.
Предки жалеют соседку, впускают, а я обычно прячусь в прихожей за шкафом, но она неизменно меня находит. Специально.
– Какой замечательный у вас мальчишка! Почему он в углу?
– Играет, – оправдывается матушка. – Это… детский невроз. Воображает, что дома живые.
– Вы водили его к врачу? – Она поправляет блондинистые косы и пялится на меня, не моргает – глаза вот-вот выпадут. Ух, ведьма.
– Да-да…
Еще чуть-чуть, и корзина затрещит – так сильно она ее стискивает.
– Думаю, это детская фантазия. Но я бы не распространялась на вашем месте…
Странный совет. Даже я, восьмилетний ребенок, это понимаю.
Соседка взлохмачивает мне волосы, задевает плечом стену, что-то ищет, но безрезультатно. После ее визитов дом долго молчит. Он боится, но никогда не признается, чего именно.
2
Анна
[После]
Наше время
Я сижу в кухне за ноутбуком и кликаю на иконку почты. На столе стоят часы, и их цоканье усиливает мою головную боль. В каждом нейроне тикает. Я жду взрыва, но ничего не случается. Ложная тревога. Постоянно.
Спустя три месяца мне пришло письмо из издательства «Сокол». Три месяца с тех пор, как моя рукопись упорхнула на рассмотрение к десяти редакторам.
Вчера ответили «Полюсы»: не тот формат. Позавчера – «Ирисы»: чересчур тяжелый стиль. А неделю назад моя любимая «Сенсация» заявила, что книгу никто не купит, тема заезженная. И далее по списку. Знаю, правы. Знаю и от этого хочется выкинуть ноутбук в окно и выкинуться самой.
Я проиграла. Девять издательств отказали.
А сейчас я читаю письмо от десятого издательства.
Сокол, сокол, позволь мне расправить крылья. Ты же понимаешь, как это здорово – летать.
Но сокол – жестокая птица. Сообщение рубцами-буквами пилит мои крылья. Ой, задело нерв. Ой, второй. Ой, режет сухожилия. Ой, выводит на спине кровавое «нет».
Ой, я мертва.
Я писала книгу год – о птицах и сладости полета. Ха-ха. В следующий раз напишу о домах: у них нет крыльев.
В ушах почти не тикает – взрыв отменяется. Переносится на следующую неделю. Вторая я, злая Аня-подрывник заболела – еще в детстве, прячась под кроватью и вдыхая запах гари. Из соседней комнаты доносилась выученная наизусть песня, звучащая в моем «тик-так».
Подрывник выздоровеет. Подрывник обещает.
Кто-то звонит в дверь.
Я щелкаю замком – на пороге топчется Рита. Моя двоюродная сестра – взлохмаченная, мокрая, точно побывавшая в центрифуге. А вообще, я не удивлюсь, если она в ней живет, – в другом образе я ее не видела. В носу – сережка-череп, губы под цвет артериальной крови, брови густые – волосинки торчат в разные стороны. Шерсть облезшего кота, не иначе.
– Дождь, – объясняет она. – Пора отдавать мой зонтик, Аня. Я ненадолго, на работу опаздываю.
Рита фитнес-тренер. Практикует пилатес и йогу. Гнется, как лист бумаги. Однажды я сходила к ней на гамаки[4], а потом целый день боялась, что земля проломится подо мной, как картонка. Раз – и я провалюсь; два – и планета меня проглотит.
Раньше я жила с Ритой и Виталиной Семеновной, моей тетей, – и каждый день слушала музыку для медитации. Сомнительное удовольствие. Теперь – слава небесам! – я снимаю квартиру с видом на шедевры уличных художников. Стены соседнего дома украшает мурал[5] – девушка в синем платье, символизирующая воду. На другой многоэтажке – парень с корзиной овощей: плодородие. Косится на девушку в синем платье и будто просит ее о чем-то. Зря – она одержима водой, ей не до него.
– Как ты? – интересуется Рита, прорываясь в комнату.
Я улыбаюсь – у меня отпуск. Разве люди в отпуске грустят? Отдыхающий человек – человек, словно сошедший со снимка, сделанного на день рождения. Особенно, если он преподает на компьютерных курсах.
Я учу школьников пользоваться фотошопом. Они клацают колпачками, размышляют о чем-то другом, для них более важном, часто поглядывают в телефоны. Но есть и особенные ученики. Однажды я закончила занятие на три минуты раньше, и Борька Иглов ткнул меня носом в свои наручные часы: рано, мол, давайте дальше. Я так разозлилась, что оставила его еще на час, а потом вечером долго топталась под душем, пытаясь заглушить водой проклятое тиканье.
– Решила, куда поедешь? – допытывается Рита, ища в шкафу зонтик. – Отпуск как-никак.
– Да, – чеканю я.
И вновь тикаю.
Аня-подрывник не спит. Она рядом и обожает «Наутилусов».
Рита извлекает из шкафа зонтик.
– Куда же?
– К морю. В наш поселок.
Она резко выпрямляется – так, что едва не роняет зонтик. Громко-громко. Между нами с Ритой повисает напряжение, и кажется, будто квартира трещит по швам. В кухне свистит чайник, жужжит ноутбук, но сейчас это неважно. Важно лишь то, что я уезжаю в отпуск.
– Ты… серьезно?
Она вздыхает, смотрит сквозь, между – в прошлое. Туда, где я, маленькая девочка, сидела под кроватью и изучала чьи-то пыльные ботинки, дрожала, мечтала, чтобы пахло яблоками, а не гарью.
– Сегодня пришел десятый отказ…
– Ясно.
– Я не расстраиваюсь. – Фраза слишком скрипит на зубах, чтобы быть правдой. – Я найду себя. Вспомню. Напишу новую книгу. Ее издадут.
Рита стучит зонтиком по полу, словно старается проломить пол и сбежать от сумасшедшей сестры к ядру Земли. Скорее всего, там уютнее, чем у меня дома.
– Конечно, – внезапно соглашается Рита. – Езжай. Давно пора. Я в тебя верю.
А между вдохом и выдохом таится безнадежное «не». Рита боится ляпнуть лишнего, чтобы меня не накрыла паническая атака. Боится, что где-то в сознании я откопаю новый пазл из прошлого. А там, у моря, подальше от пыльных дорог, ей не придется пихать в мою глотку антидепрессанты. Ее просто не будет рядом.
Нам лучше быть порознь. Вообразить только, она перестанет трезвонить мне по утрам якобы из-за зонтика, перекрикивать меня банальным «не переживай», вздрагивать от каждого моего движения… Все отсрочится на время отпуска, а может, и навсегда. Я не проломлю Рите череп стулом, если вдруг мне почудится, что она – враг. Подрывник в пыльных ботинках, обожающий «Наутилусов».
Я забуду, что такое вина.
У меня не появится очередной пробел в памяти. Я не буду гоняться за случившимся, как сейчас – за родным домом. Зато смогу написать бестселлер, когда все вспомню.
К черту тайны.
Нам будет спокойнее друг без друга. И Виталине Семеновне – тоже. Десять лет назад Ритина мама стала и моей тоже. Это единственное, что нас объединяет. Отца я не видела. «Родители давным-давно разбежались», – объяснила Рита, когда я только-только к ним переехала.
– Занятия… – Сестра прикусывает губу. – Почему ты забросила йогу? Тебе полезно…
Когда пропала моя мама, Виталина Семеновна вызвала полицию. Те долго рыскали по лесу, возле которого меня нашли, а потом вернулись с неутешительной новостью. Тора Рэу упала со скалы. Ее обглодали местные волки.
А я… я выбралась на трассу. Добрый дальнобойщик притормозил, заметив малютку на дороге. Я молчала и дулась неизвестно на кого – на мужчину или на весь мир. Он взял меня с собой, каким-то чудом выпытал адрес родственников, и уже ночью надо мной хлопотала Виталина Семеновна.
Эту историю я миллион раз слышала от Риты. Сама же – как ластиком все стерла, залепила изолентой, заглушила любимой песней чужака в сапогах, спрятала под кроватью.
Моя мама оставила меня, чтобы спрыгнуть со скалы. Волки, должно быть, обрадовались.
– Я еду в поселок, – отрезала я, давая Рите понять, что разговор окончен.
Мне нужно испугаться, чтобы почувствовать. До крови на зубах. До осипшего голоса и легких-камней. Вскрыть себя и изучить изнутри.
Рита бросает взгляд на часы и в ужасе подпрыгивает.
– Ну что, сестренка, мне пора. Хорошего отдыха. – Она обнимает меня, как обнимают, прощаясь насовсем. – Ань, а что, если… книги этого не стоят?
Я отстраняюсь и качаю головой. Снова. Снова. Снова.
– Ладно. Звони, если что. Хотя бы ради мамы.
Тик-так. Часы в кухне спешат. Те – опаздывали. Возможно, из-за них опоздала и я.
Возможно, из-за них опоздала и мама.
* * *
Я в автобусе. Впереди плещется море. Поселок застрял между скалами, как между разрушающимися зубами.
Он был моим домом.
Он был моим.
Он был.
Да и я – вряд ли есть. Я тоже была.
От города до поселка – полчаса езды. Мало, да. Но для меня – вечность. Я собиралась сюда десять лет.
За окном плывут скалы; хижины, тонущие в земле, как в болоте; покореженные деревья – засохшие, стремящиеся вниз, а не к небу. Это похоже на воспроизведение старого фильма, незаслуженно забытого, который лежал в ящике, в пыли полвека, а сейчас его откопали. Он оживает заново. Еще чуть-чуть – и я нажму на play. Еще чуть-чуть – и я начнусь. Надоело жить на паузе.
Я видела эти скалы. Людей с загаром на шее и ниже плеч. Коров на пастбищах. Обветшалые дома, которые без конца латают, точно любимые платья. Ржавую арку, заглатывающую жителей поселка из года в год.
Здесь два пути – принимать туристов и лелеять молодые ростки огурцов, но моя мама нашла третий – потерянный, заросший, среди сосен и скал.
Здравствуй, поселок. Расскажи обо мне. Испугай. Тогда я сумею быть настоящей в книгах. Я мечтаю осветить темные углы. У тебя хорошие фонари. Ты… одолжишь их?
Я выпрыгиваю из автобуса и достаю чемодан. Я старалась не брать много вещей, поэтому поднимаю его почти без усилий. Колесики тонут в грязи.
Пыхнув на прощание, автобус исчезает в утреннем тумане. Грязно-белый, в желтую полоску, он ждал своего часа полвека вместе с фильмом-воспоминанием.
Я щурюсь. На часах без десяти семь. Малолюдно, лишь несколько человек копошатся на огородах. Здесь нет муралов. Хижины заросли плесенью и мхом, но эти стены ничем не уступают городским – плесень похожа на картины-муралы. На ближней, возле арки, – летучая мышь, не иначе. На той, что за ней, – черные цветы.
А вот и рисунок-монстр. Он пялится на меня желтенькими глазами-цветочками. Шею сжимает лоза винограда. Его кто-то решил повесить. Или он сам повесился?
Этот дом выше остальных – здесь четыре этажа. Левую сторону подлатали, утеплили и закрасили, а правая – разлагается.
Дом – наполовину труп.
К дощатому забору прибита табличка: «Есть свободные номера».
Значит, база отдыха. Через приоткрытую калитку я вижу заасфальтированную тропинку. Сквозь трещины пробивается трава, чуть поодаль притаилась беседка. Все ждут чего-то, даже декоративный гном на пне.
– Можно войти? – выкрикиваю я, но тут же прикусываю язык. Слишком рано.
Из-за прогнивших крыш выглядывает море. Оно дышит на поселок. Шумит. Кажется, мы с ним общались, изучали язык друг друга.
Я уже думаю брести на пляж, как вдруг со стороны настенного монстра раздается стук. В окнах – никого, занавески задернуты.
Где-то лает собака.
Тсс, я своя.
Своя.
По крайней мере была своей.
– Помоги, – шепчет кто-то.
В тишине утра голос звучит неестественно. Словно я попала в театр одного актера и за моей спиной сейчас взорвутся аплодисменты.
Но аплодирует только море.
– Кто здесь?
Из беседки выходит кто-то маленький, одетый в длинную белую рубаху. На голове – бумажный пакет с прорезями для глаз. Мальчик?..
– Помоги, – повторяет он.
Ему не больше десяти. Прямо как мне тогда. Жаль, что на моем пути не встретилась сумасшедшая писательница с частичными пробелами в памяти. Уж она бы меня спасла.
– Что-то случилось?
Мальчик демонстрирует руку, которую до этого держал за спиной. С ладошки стекает красная жидкость.
– Я убил. Убил.
Мир плывет.
Море гонит волны.
Море чистое и прозрачное, хоть и утопило миллионы людей.
А этот мальчик в крови. Он умоляет меня о чем-то. Меня. А впрочем, какой я герой. Скорее жертва.
– К… Кого ты убил?
– Всех, – всхлипывает он. – Я боюсь, что мама разозлится.
Тик-так. Сейчас самое время нажать на «пуск» и взорвать клочки рассудка. Ты готов, подрывник? Где твоя музыка?
Горло царапают колючки вопросов. Вызвать скорую? Полицию? Увезти этого ребенка или бежать самой?
Дети не бывают злыми.
Не бывают.
– Помоги, – упрямо повторяет он. – Здесь, на первом этаже. Нужно их похоронить.
Я призываю себя к здравому смыслу, но какой, к черту, здравый смысл, когда это мой шанс окунуться во тьму, испугать себя, почувствовать, как кровь стынет и протыкает меня ледяными иголками?
В экстренных ситуациях я возвращаюсь в прошлое. Касаясь губами смерти, я всегда нащупываю ту дверь.
Этот малыш – неплохой персонаж. Но… почему он родился не в книге? Почему здесь, в поселке?
Я открываю калитку настежь. Стук-стук-стук – стучат мои каблуки. Громко, будто вбивают гвозди в чей-то висок.
– Зачем ты это сделал? – хриплю я.
Вблизи настенный монстр и мальчик похожи. Наверное, без пакета на голове малыш бы выглядел точно так же – с желтыми цветочками вместо глаз.
– Было интересно, как они умирают.
Он идет за мной.
У меня немеют пальцы.
Шагов мальчика не слышно. Что, если он призрак? Что, если мне это чудится, и я дома? Что, если рядом сидит Рита и пытается вернуть меня в реальность, вытащить из мерзкого сна, дергая за волосы? Она торопится на работу, злится, топает ногами, говорит со мной откровенно. Так, как не говорит, когда я в сознании.
Я замираю на пороге.
– Как тебя зовут?
Дверь болтается на сквозняке – здесь не ждали гостей. И, скорее всего, никогда не будут ждать.
– Темыч.
Я оборачиваюсь и окидываю мальчика взглядом. Что с ним творится? Как бы я хотела заполучить его тайны! Безумие – вот что всегда будет манить.
Я тяну к нему ладонь.
– Ты… боялся?
– Нет.
– Плакал?
– Нет. Экспериментировал.
Я заберу этого ребенка в книгу. Он мне нужен больше, чем этому миру. Превращу его в буквы. Он будет счастлив, я буду счастлива. Мы потеряем рассудок вместе.
– Почему ты стоишь? – Мальчик толкает меня окровавленной рукой, вымазывает мое запястье. – Мы должны их похоронить.
Я переступаю порог. Передо мной – длинный коридор. По бокам – два прохода. Если бы здесь не было крыши, сверху бы планировка напоминала крест.
Дом – кладбище.
Дом – могильная яма.
Я свожу лопатки до боли.
– Куда?
Не убивай меня, ребенок. Я написала не все книги. Кто, если не я, поможет тебе обратиться в буквы?
– Прямо.
Дверь в конце коридора распахнута, я не заметила ее сразу. На сквозняке танцует занавеска. Пахнет сыростью. Мне уже не до мальчика. Я жалею, что согласилась на его просьбу. Мы приближаемся к основанию креста. А что дальше?
Правильно, земля.
Не хороните меня.
Умоляю.