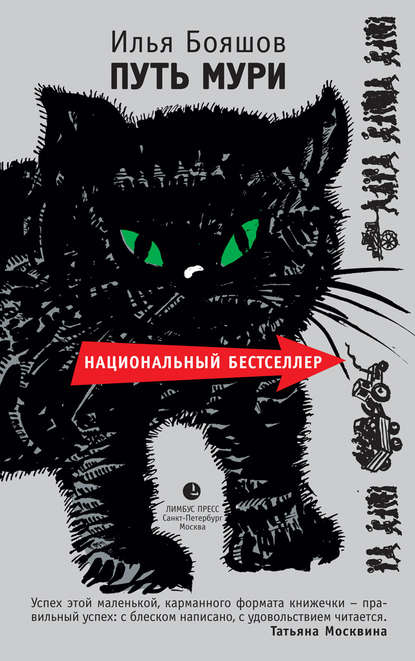Имеющим путь, как равно и тем, кто не имеет его, посвящается.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙДЕМ К ПУТЕШЕСТВИЮ МУРИ, СТРАНСТВИЯМ КАШАЛОТА, МАРШУ ЛАНГУСТОВ И КАНАТОХОДЦЕВ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВОСПОЕМ ГИМН ДВИЖЕНИЮ, НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ИСТОРИИ. ПУСТЬ ЧИТАТЕЛЬ ПРОСТИТ СТОЛЬ ДЛИННЫЙ ПРОЛОГ, НО ДЕРЗНЕМ ХОТЯ БЫ КРАТКО ПРОЙТИСЬ ПО ВЕКАМ.
Древние не признавали топтания на месте. Конфуций и Лао-цзы утверждали путь постоянно. «Дорога, дорога, а что еще кроме дороги?» – неоднократно вопрошал поэт и философ Чу Го. Ученый не считался ученым в царстве Ю, если не преодолевал по горным склонам и тропам хотя бы сто ли от одной до другой стражи. Весьма любопытен диалог небезызвестного даоса Лин Пэня со своим, по всей видимости, достаточно образованным слугой. По Лин Пэню, уже чуть ли не с материнской утробы родители и наставники должны внушать ребенку – его ожидает бесконечность странствия. Но ни в коем случае будущего странника не должно пугать слово «бесконечность». Жизнь есть вечный марш от одной точки пространства к другой, во время которого благородным мужем и приобретаются знания, умения и навыки – от способности ловить бабочек, не повреждая пыльцы крыльев, до возможности владеть мечами Цзу. Любопытно, что Лин Пэнь не ограничивал дорогу только лишь горами и долинами царств Ю и Вэй. По глубокому убеждению этого космополита, странник, достигший границ государства, не имел права останавливаться и просто обязан был достичь и «границ Неба». Следует напомнить: Лин Пэнь являлся горячим сторонником «умозрительных путешествий», то есть попросту медитаций.
Странно, но, перечеркивая все китайские традиции почтительности, его слуга достаточно смело подверг сомнению постулат о бесконечности странствий. Уподобив благородного мужа пущенной стреле, он рассудил, что рано или поздно стрела попадает в цель, а значит, останавливает полет. Лин Пэнь не согласился и побил молодого человека посохом. Однако вопрос, поставленный юношей, перерос в ожесточенную перепалку двух знаменитых древнекитайских школ – Чин и Баго. Основатели Чин, прямые последователи Лин Пэня, провозгласили свой единственный постулат: «Дорога, и ничего кроме…» Любой вступающий на путь «сотен открытий» должен полностью отдаваться «великой красоте бесконечности». (Медитация для выхода за «всяческие пределы» была при этом обязательна.)
Их оппоненты яростно протестовали против подобных перспектив. Патриархи школы Баго указывали прежде всего на неизбежный конец пусть даже самого длительного путешествия (стрела рано или поздно достигает цели). Самой главной целью эти прагматики объявили «внутренний путь самосовершенствования благородного мужа», который рано или поздно должен привести к «божественному состоянию».
Озлобленная полемика двух школ прервалась в пятом веке. Что касается Чин, ее бывший адепт по имени Юй, найдя достаточно сторонников среди «тупоголовых» (презрительная кличка, прилепившаяся к его ученикам), начал по-своему трактовать идею бесконечного странствия. Юй призывал относиться к понятию Пути исключительно практично – благородный муж должен путешествовать в самом прямом смысле этого слова, надевая сандалии, соломенную шляпу и отправляясь за порог с котомкой. Всякие же «умозрения», с точки зрения Юя, – ересь, не имеющая ничего общего с истоками учения. По Юю, последователи Чин обязаны постоянно находиться в дороге, не оставаясь в одном месте более трех дней, и уж если им суждено умереть, то сделать они это должны непременно с посохом посреди тракта. Юй объявил врагами всех тех, кто пытался подвести под совершенно обыкновенные путешествия хоть какую-то философскую основу. «Иди не думая!» – вот его лозунг. «Тупоголовые», толпами наводнившие Китай, внесли серьезную сумятицу в учение школы. Дело осложнилось тем, что многие из учеников Юя, находясь в «бесконечном движении», принялись заниматься неприкрытым грабежом и наводили ужас даже на монахов Шаолиня. К концу пятого века они стали настоящим бедствием для власти и жителей. Известно о нескольких карательных походах, наиболее успешным из которых явился поход против «тупоголовых» в провинции Сычуань. Там шайки были рассеяны, а их предводителя наконец-то четвертовали тупыми ножами. Как это и бывает, гонения властей распространились затем и на совершенно невинных представителей теории «вечного странствия». Вскоре с ними было покончено.
Впрочем, конкурентов ждали собственные потрясения. Некий Ду Пин принялся утверждать: истинным концом всех путешествий является достижение не «внутренней», а совершенно земной и конкретной цели. Последовало изгнание еретика. Ду Пин иммигрировал на остров Хонсю и развернул активную деятельность среди местных аборигенов. Он был не чужд поэтичности, утверждая, что для одного конец пути – это сакура в горах, для другого – хижина, которую пришедший в нее уже никогда не покинет. Правда, попытки Ду Пина набрать учеников оказались безрезультатными, хотя в ранних японских хрониках можно отыскать следы подобного сектантства. Так, одним из упоминаний является несколько строк о том, что некий Акава из Нагои объявил целью всех своих странствий куст жимолости у заставы Танага, о чем громогласно объявлял собравшейся толпе. Это курьезное упоминание – одно из немногих сохранившихся – свидетельствует о немногочисленности последователей Ду Пина. К шестому веку уже ничего не слышно и о самой школе!
Философия древнекитайских «странников» неожиданно привлекла арабов. Те раздули ее уже затухающий огонь с чисто аравийским темпераментом. Дервиши моментально разделились на «бесконечников» (звездолюбы) и «конечников» (болиголовы). Практика звездолюбов повергла в ярость правоверных халифов. Однако, несмотря на преследования и казни, призывы оставить насиженные места ради «бесконечного странствия» взбудоражили весь Халифат. За смутьянами следовали огромные толпы поклонников. В Дамаске начались настоящие волнения после попыток остановить одну такую колонну. Власти можно было понять – пустели целые города, повсюду население бросало дома и наделы и оставляло ни с чем сборщиков налогов. Зато дороги были забиты нищими, которые в поисках пропитания не гнушались грабежами целых караванов.
Болиголовы представляли еще бульшую опасность, ибо объявили о некой «стране Солнца», лежащей по другую сторону Кавказских гор. Конечно же, в той стране не было ни богатых, ни бедных и начисто отсутствовали такие понятия, как «мытарь» и «палач». Дело оставалось за малым – переселиться в Утопию. Стоит ли говорить, что после столь явно обозначенной цели из голов последователей учения отчаявшиеся каратели сооружали целые пирамиды.
Пожалуй, один лишь Гарун аль-Рашид на удивление мягко относился к возмутителям арабского спокойствия. Достоверно также известно о пристрастии Аль Муххамеда Бен Адена, близкого друга этого багдадского халифа, к философии звездолюбов. В трактатах «О благодати Аллаха» и особенно в своей бессмертной «Хивинской Розе» врач и философ трогательно относился к святым безумцам, готовым «перелетать со звезды на звезду подобно тому, как мотыльки порхают с цветка на цветок».
К прискорбию современных исследователей, ненависть к «бесконечникам» со стороны твердых сторонников шариата привела к тому, что к тринадцатому веку о них остались лишь туманные воспоминания и трогательные легенды. Не сохранилось также ни одного источника, хоть как-то объясняющего, какую страну имели в виду болиголовы под понятием «земли Солнца». Впрочем, энтузиасты не теряют надежды когда-нибудь разыскать в рукописной пыли библиотек Дамаска или Каира отрывки их загадочного трактата «Истинность самаркандского каравана», в котором прямо говорится о тайных подземных ходах, уводящих в «землю обетованную».
Минуло еще несколько столетий. В благодатный для Франции год, когда король Анри IV двинул свои войска и артиллерию громить Савойское княжество, монах-францисканец Виль Блоумберг, по совместительству библиотекарь спокойного, утонувшего в яблоневых садах монастыря Сент-Люсия, что процветал совсем недалеко от Лиона, окончательно уверился в правильности своих записок «О предназначении тварей Божиих». Испросив благословения у святого Франциска (ему показалось, святой ответил согласием, ибо «был даден знак»; внутренний голос внезапно повелел скромному знатоку Аристотеля немедленно приняться за работу), Блоумберг написал в своем роде уникальное произведение «Сущность и Богоугодность истинного Пути». Этот францисканец наконец-то создал систему, мирно объединившую воззрения незабвенного Лин Пэня и его непокорного слуги. Блоумберг совершенно спокойно относился к понятию «бесконечность» и к «конечности» любого путешествия, справедливо посчитав, что и то и другое имеет полное право на существование. Как истинный европеец, он занялся тщательной классификацией, разделив отправившихся в путь на «страстотерпцев», «верующих», «еретиков», «робких», «решительных», «внимательных», «рассеянных», «бодрых», «вялых» и т. д. и т. п. Не менее скрупулезно монах исследовал и причины, толкающие к путешествиям, целые главы посвящая «отчаянию», «надежде», «безвыходности», «честолюбию», «богоискательству» или «желанию просто переменить место» (позднее Шопенгауэр назвал подобную классификацию «вариациями Блоумберга»). Дотошливый монах попытался разобраться и в таком чрезвычайно сложном вопросе, как «истинность» и «неистинность» пути. Он вынужден был признать – грань между богоугодной и дьявольской мотивациями движения настолько тонка, что стоит самым серьезным образом разбираться в каждом отдельном случае.
Этот Блоумберг был еще и тем замечателен, что впервые высказал предположение: путешествовать могут и создания иного мира, потусторонние существа – духи, ангелы, демоны, эльфы, домовые и прочая чисть и нечисть. Именно ему принадлежит невиданный для того времени по дерзости постулат об «осознанности движения животных». Правда, испугавшись собственной ереси, монах вернулся к догме первенства человеческих отношений с Богом. Однако впоследствии знаменитый зоолог и мистик Фазерленд, опираясь именно на «вариации Блоумберга», сформулировал идею о том, что «все твари имеют разум, а следовательно, и право на осознанный Путь».
Что касается Блоумберга, монах закончил собственный путь на земле в девяносто три года. Ничего, кроме единственного трактата, более не создавший, он вдохновил не одно поколение метафизиков. Он подтолкнул к действию несметное количество путешественников и искателей – от Амундсена до Ауробиндо. Парадокс – но один из самых великих путников человечества всю свою жизнь прожил в монастыре, лишь иногда выбираясь из него за покупками в ближайшую деревеньку.
Во второй половине двадцатого века профессор Женевского университета Франсуа Беланже, убежденный сторонник Лин Пэня, отверг компромисс, которого попытался достичь францисканец. Пит Стаут, биолог из Кембриджа, превратился в его оппонента – и началась борьба.
Неистовый Франсуа сплотил возле себя так называемых новых бесконечников. Профессор был тучен и неподъемен, предпочитая рабочий кабинет разъездам по конференциям. Напротив, доктор Стаут, этот истинный палладин противоположной идеи, являл собой живое воплощение господина Зоммера. Длинный, согнутый, словно гвоздь, в черепашьих очках, с рюкзачком за спиной доктор неустанно колесил по планете. Лысина неутомимого Пита мелькала на всех симпозиумах и съездах, где собирались его сторонники. Ко всему прочему Стаут являлся ярым последователем теории Фазерленда.
Беланже категорически выступил против попыток своего врага приписать зверям и птицам хоть какую-то осмысленность движения.
«Нужно дойти до крайней степени наивности, – бушевал он в статье „Глупость или идиотизм“ (журнал „Философский вестник“, май 1967 г.), – чтобы признавать за остальной природой то, чем Господь одарил только человека. Оставим в стороне высший интеллект, без сомнения, присущий сонмам ангельским. Не будем спорить со злым интеллектом сил сатанинских. Но утверждать, что в основе природных инстинктов, которые заставляют уток каждый год совершать перелеты, лежит рассудок, значит, доходить черт знает до чего, впадать в какое-то умилительное детство, совершенно не признавать ни реальности, ни фактов! Уму непостижимо, когда люди, имеющие ученые степени, находясь в здравом рассудке, начинают вдруг рассуждать (и где! на страницах научной печати, в уважаемых журналах) о том, что муравьев и леммингов гонят в дорогу человеческие желания! Не отсюда ли ad absurdum[1] – предпринимаемые и по сей день попытки некоторых философов-зоологов доказать, что существует некий «звериный язык» и прочие проявления того, что мы привыкли считать прерогативой только нашего разума, данного нам самим Богом? Не удивительно, что и по сей день Фазерленд в чести у подобных господ! Ставятся бредовые опыты, пишутся опусы, опровергающие Павлова с его рефлексами, – словом, творится околонаучная чепуха, мракобесие и шарлатанство. Все эти деятели утверждают, что животным и насекомым присуща мысль. Что на это ответить? Не буду же я в тысячный раз утверждать вслед за всеми великими умами, что ad incunadulis[2] разум – самый главный дар Божий единственному возлюбленному чаду своему, который только его и приближает к Творцу, и только ему позволяет осознавать радость бесконечности!..»
«Еще более смешно верить в эльфов и фавнов! – писал неутомимый Беланже в другой своей статье „Непробиваемый маразм“ (тот же „Вестник“, 1969 г.). – Ad imo pectore[3] оставим литераторам право фантазировать на подобные темы. Однако какой ученый, если, конечно, он в здравом уме и памяти, станет доказывать не только существование невидимых стихиалий, попросту говоря, духов, но и опять-таки их совершенно человеческое восприятие мира?.. Волшебные жители гор и долин, все эти кобольды и русалки, не более чем нонсенс, игра воображения, плод страхов, доставшихся нам от язычества…»
Франсуа Беланже еще много чего написал: достаточно кинуть взгляд на библиографию. К концу восьмидесятых мэтр являлся признанным авторитетом, автором нашумевших работ «Могут ли мыслить животные: критика последователей Фазерленда» (1961), «Остались ли еще валькирии и гномы?» (1973) и «Пути странников и птиц» (1987). В начале девяностых семидесятишестилетний боец попытался удалиться от мира, с тем чтобы в тиши кабинета в маленьком особнячке под Ганновером заняться основным трудом своей жизни «Особенность homo sapiens[4] как единственного носителя Идеи Божьей». В этом труде он собрался окончательно разделаться со «всякими и всяческими спиритами», упрямо признающими за остальными существами пусть даже подобие человеческого разума.
Предводитель современных «конечников» доктор Стаут достал его и там.
«Нужно обладать поистине носорожьей слепотой, чтобы не замечать очевидного, – кусался Пит в журнале „Человек и животное“, рупоре последователей Фазерленда. – Поистине нет предела средневековому мракобесию! Господину Беланже можно посоветовать одно: nec sutor iltra crepidam![5] Если даже гениальный монах в те тяжелые для науки времена высказывался, хотя и робко, в пользу вещей очевидных, то что мешает нам, имеющим сейчас в распоряжении лаборатории и целые институты, доказать: животные мыслят, они осмысленно отправляются в путь и имеют определенные цели … Sol lucet omnibus[6] господин профессор!»
Между тем Мури, молодой наглый кот из боснийской деревушки, о вариациях Блоумберга не имел ни малейшего представления. Этот маленький деспот владел своим местом возле кресла, где ему был постелен старый плед и поставлена миска. Яблоневый сад он, по простоте душевной, также считал своим. Крестьянская семья – мать, отец, мальчик и девочка – целиком ему принадлежала и существовала лишь для того, чтобы исполнять его прихоти. Кот ревностно охранял свою территорию, которую знал досконально – от старого колодца до яблонь на краю сада. Кроме того, он по-свойски общался с множеством малых и больших духов, населявших его кусок земли, – от совсем крошечных, едва заметных, которые обитали в траве и на ветвях кустарника, ухитряясь даже на острейших стеблях осоки сооружать себе жилища из паутины, до духов пруда, вертких, словно водомерки, и духов огромного замшелого дуба возле дома. С обитающим в комнатах домовым – бесплотным прозрачным пузырем – отношения были вполне лояльными. Пузырь иногда даже позволял коту играть с собой.
Таким образом, кот был деловит, величав и счастлив. Правда, весьма частые стычки с чужаками давали знать о себе: тогда истерзанный воин трусил к лугу возле горы. Там он безошибочно разыскивал целебную траву pektoralis и пил росу трилистника, дедовским способом залечивая последствия схваток и приходя в прежнее душевное равновесие. Между прочим, частенько встречал он в травах крошечных человечков с прозрачными крыльями, угорело носившихся от цветка к цветку. Местные нимфы, росточка, надо сказать, тоже весьма небольшого, водили с ними хороводы. Кот не жаловал нахальных эльфов. Ему также весьма надоедали муравьи и некоторые виды жуков, кишмя кишевшие на лугах и полянах, едкие выделения которых на долгое время отбивали нюх. Но то были настоящие мелочи, не столкнувшись с которыми нельзя в полной мере вкусить прелестей бытия. Вне всякого сомнения, блестящий мир кота имел полный, исчерпывающий смысл. Утром и вечером миска заполнялась свежим молоком. Мышей и землероек в саду и в силосной яме было навалом. Птички попадались в когти то здесь, то там. Чужие коты беспощадно отгонялись от сада, кошки отдавались по первому требованию, раны заживали на удивление быстро. И кроме людей и животных услужливые, меньше всего желающие ссориться духи окружали нашего кота, носились и трепетали в воздухе, дышали, шумели, плакали, пищали, разговаривали, жаловались и хохотали, а главное, со всех сторон приносили вести о том, что делается и у колодца, и возле пруда, и в коровнике, и в конюшне, где шумно хрупали сеном и вздыхали две мохнатые толстобрюхие лошадки. И все это неисчерпаемое богатство до малейшей песчинки принадлежало ему, царю здешних мест, властелину мужчины, женщины и детей, повелителю сада, амбаров, подвала и коровника (молодых собак-конкурентов, слава богу, хозяева не заводили, доживал свои годы древний, как мох, кобель, но он едва челюстью шамкал, рассыпающийся старикашка).
Так Мури властвовал, так он правил, не подозревая о мечах Цзу. Сладостное безвременье! Все пропало, когда в Югославии началась гражданская война 1992 года.
Вот как все случилось: первый снаряд опрокинул небо и разметал кустарник. За ним бухнул еще один. И еще… Ах, поляна с земляникой! Ах, старые яблони! Все вырывалось с корнями. Если бы люди только слышали, как стонут, вопят и плачут духи, когда снаряды разрывают их жилища! Стихиалии сошли с ума, они роем поднялись над обреченной деревней, жалобно заверещали и заметались, подобно летучим мышам. Вслед за ними паника перекинулась на бабочек и муравьев; а в садах трещали деревья и разлетались осколки и комья земли.
Если бы разгневанный случившимся Мури, которого беда застала на целебном лугу, поднял бы голову, то он бы увидел, как, скрежеща и радостно трубя, по небу, махая крыльями, поплыла туча демонов – этих истинных сукиных сынов войны. Вновь сотнями, а затем и тысячами поднялись они из всех земных трещин. Но коту было не до бесов! На всех парах он полетел к дому – его встречали лишь разбитые доски, кровати и раскрошенная труба. Домовой сидел на ступенях чудом оставшегося крыльца, квохтал и выл от ужаса. Пузырь был обречен, ибо домовые подобного почтенного возраста не покидают своих гнезд и, как правило, умирают вместе с ними. Так что, будучи еще вчера колыхающимся от довольства, домовой на глазах наполнялся мертвой зеленью.
Мури обследовал пепелище, повсюду натыкаясь на плачущих духов. От них, а также по следам и запахам он узнал, что люди о нем и не думали. Двуногие просто сбежали! Не в силах поверить в предательство, властелин вновь обнюхал забытые вещи, брошенные возле крыльца. Ярость потрясла его, но царь земли, которой больше не существовало, справился с гневом и окончательно возвратил себе достоинство. Подрагивая теперь уже от решимости, он приблизился к безутешному домовому. Два существа принялись общаться между собой.
– Все кончено, – колыхался домовой. – Жизнь ушла, и ее не будет больше.
Кот, не мигая, посмотрел на него и вот что ответил, наливаясь праведной злостью на сбежавшую семейку:
– Нет, так дело не пойдет! Мне просто необходимо иметь миску, плед и мое место под этим солнцем.
– Кому ты нужен теперь? – тоскливо отвечал домовой.
– Ты так ничего и не понял! – откликнулся кот. – Мне нужны миска, плед и двуногие, которые бы мне прислуживали.
– Нам крышка… – заныл домовой.
– Заткнись! – мяукнул Мури. – Ты, опустивший руки пузатый бурдюк! Не сегодня-завтра лопнешь на этих разваленных досках!
– Что же делать? – ныл домовой, раскачиваясь.
– Возвратить потерянное! – сказал кот. И отправился в путь.
В тот же самый трагический для кота день шейх Абдулла Надари Ак-Саид ибн Халим – любимец Аллаха, владелец тридцати красавиц жен и пятнадцати месторождений, двух портов и пяти нефтеналивных танкеров, один из которых и сейчас носит его имя, – начал свое движение.
Сверхлегкий самолет шейха, получивший имя «Виктория», имел размах крыльев двадцать восемь метров, три мотора, вместительную кабину с изящной приборной доской, креслом со специальным устройством, позволяющим справлять малую и большую нужду, а также шесть баков горючего, рассчитанных на беспосадочный перелет вокруг земного шара. Для аварийной посадки использовался сложенный в специальном отделении за кабиной парашют – там же располагался мешок с уложенной в него лодкой и комплектом полного жизнеобеспечения на четырнадцать дней. К услугам шейха была прекрасно себя зарекомендовавшая навигационная система «Стар», определяющая местоположение самолета с точностью до нескольких метров, а также мобильный телефон космической связи. Шейх Абдулла Надари Ак-Саид ибн Халим не поскупился на такие приобретения, как сверхусовершенствованный автопилот (последний писк концерна «Боинг») и система, регулирующая экономную подачу топлива. «Виктория» была не только гордостью шейха, но и любимым детищем «Нордланда», лучшим изделием, когда-либо сотворенным в цехах этой почтенной английской фирмы. Хрупкий, прозрачный, созданный из почти воздушных по весу металлов, самолет занимал весь ангар, в который никто, кроме самого шейха и двух его техников, не имел права даже носа сунуть, ибо Абдулла Надари Ак-Саид ибн Халим боялся в этой жизни только одной вещи – дурного глаза.
Шейх Абдулла Надари Ак-Саид ибн Халим хорошо подготовился: он налетал за штурвалом личного F-16 девятьсот пятьдесят часов. Он добился того, что стал одним из лучших пилотов во всем королевстве. Он не поленился совершить двадцать пять прыжков с парашютом (два из них затяжных). Шейх следил за своим весом и давлением, терзал тренажеры по три часа в день и часто не отказывал себе в удовольствии покрутиться на центрифуге, доставленной во дворец прямо из московского Звездного городка.
15 августа 1992 года шейх Абдулла Надари Ак-Саид ибн Халим попросил благословения у Аллаха. Он нашел слово для безутешных жен, которые втайне считали, что Бог забрал к себе разум несчастного мужа. Он не поленился перецеловать всех своих детей, число которых перевалило за пятьдесят. В 10.00, облачившись в летный комбинезон, он погрузился в самолетное кресло. В 10.02, провожаемый криками журналистов и вздохами многочисленной родни, исчез в неизвестно откуда появившихся облаках, наличие которых сведущие люди посчитали недобрым знаком.
Абдулла Надари Ак-Саид ибн Халим, как всякий араб, был поэтом. Разглядывая океан, он сочинял восторженные вирши, которые пел сам себе. Видимость была изумительной, бортовой компьютер оказался мудрым советчиком, предлагая держаться следующих параметров: высота семь тысяч футов, скорость пятьсот пятьдесят миль в час. Через восемь часов однообразного полета (во время него была сочинена и пропета целая поэма), этот «гонсильори» порекомендовал шейху обойти грозовой фронт, который готовился вот-вот поглотить Цейлон.
Шейх Абдулла Надари Ак-Саид ибн Халим подлетел к Сингапуру поверх туч и громов и принял многочисленные поздравления от диспетчерских служб. Японцы обещали наследному принцу спокойный полет над Тихим океаном в условиях почти нулевой облачности при попутном ветре.
Сама погода благоволила высокородному путешественнику. Время от времени доверяясь автопилоту, шейх лакомился финиками и запивал их минеральной водой. Будучи человеком почти что западным (Кембридж за плечами), он слушал любимую музыку – наряду с лирикой несравненного Валида Ханида в репертуар входили Бетховен и Моцарт. Над головой шейха Аллах благосклонно развесил звездные ожерелья, среди которых посверкивали и редкие крупные изумруды и рубины. Абдулла Надари Ак-Саид ибн Халим до утра упивался своим вселенским одиночеством и предавался философским размышлениям.
Заря, охватившая собой половину неба, взбодрила романтичного Синдбада. Весь мир был теперь у него в кармане, и путешественник не отказал себе в удовольствии сделать несколько глотков крепкого кофе «Эль-Сабах». Он благословил свой штурвал, он помолился Всевышнему, он вновь подал голос в эфире, и во дворце посреди Аравийской пустыни все тридцать жен воздали хвалу Богу за то, что их, без сомнения, тронувшийся рассудком муженек все еще жив.
Удача сопровождала самолет до Гавайских островов, но при подлете к береговой полосе великого материка поспешно удалилась. Последствия не замедлили себя ждать – над штатом Техас начались проблемы с подачей топлива. Закашлялся один мотор. Затем еще один. И наконец, последний перестал подавать свой ставший одиноким голос. В кабине «Виктории» раздался победный рев ветра. Аэропорты моментально предложили помощь. Поблагодарив за сочувствие, пилот взглянул на монитор растерявшегося компьютера и, все еще не поверив реальности, пытался выровнять детище. Тщетно! Шейх Абдулла Надари Ак-Саид ибн Халим встретил неизбежность, как полагается мужчине: допил оставшийся кофе и пристегнул ремни. Длинные крылья еще позволяли «стрекозе» какое-то время скользить в воздушных потоках, но триумф уже не мог состояться. На высоте двух тысяч футов хлопнул парашют. «Стрекоза» неуклюже рухнула на одно техасское ранчо, сломав драгоценное крыло и повредив шасси. Шейх на безукоризненном английском извинился перед подбежавшими хозяевами за причиненные хлопоты и с благодарностью принял из их рук кружку еще теплого молока. Его высочество успел отвернуться от добродушных фермеров, чтобы избавиться от секундной слабости – растворить на указательном пальце левой руки крошечную досадливую слезинку.
А кот трусил по дороге, уводящей из сожженной деревни к весьма недалекой отсюда боснийской столице. Проезжая мимо него, нещадно чадили трубами тракторы с беженцами; их дым отравлял и небо, и землю. С прицепов доносились женские вопли и детский плач. Мужчины от подобных криков зажимали уши. Мури не утруждал себя бесполезной сентиментальностью – его сердце работало без всякого волнения, легкие вполне справлялись с тяжелым воздухом, лапы послушно пружинили.
К вечеру позади кота тяжело задвигался и закачался сербский танк, настоящий бронтозавр с плоским блином башни. На броне болтались и цеплялись за всякие скобы и за ствол пулемета молодые солдаты в форме болотного цвета. Кот не бросился опрометью в сторону, а, прижав уши, остался на обочине. Тут-то его и подхватили обычным рыболовным сачком – такими сачками в прудах пресекают существование крупного карпа.
Шутник, который поймал кота, просунул шест сачка в распахнутый люк. Из люка, словно из преисподней, несло жаром и вонью. Мури не дергался, необъяснимо почувствовав – танк громыхает в нужном направлении. Шкуру с него сдирать не собирались, прижигать сигаретами тоже, хотя от испуганных людей на войне можно ожидать каких угодно фокусов. Посмеявшись, солдаты вновь принялись хлестать из фляжек ракию, и разговоры вновь пошли о женщинах и обо всем, что с ними связано. Чем вернее приближалась смерть, тем циничнее становились шуточки, лишь только подрагивающие сигареты в уголках губ выдавали истинное уныние. Люди слепы к потустороннему миру, однако Мури, переворачиваясь в сачке, хорошо видел, что возле солдат уже засуетились темные силы. Демоны спикировали на танк с радостью исполнительных полицейских. Кот знал: эти отвратительные существа выполняют для ада самую грязную работенку – отмечают своими когтями лбы тех, кому суждено скоро погибнуть. Таким образом, из пятерых на броне двое сразу приговорились к поеданию червями. Разумеется, обреченные не догадывались о том, что получили черную метку, – они не чувствовали прикосновений, – и это неведение забавляло потусторонних подонков. Дай им волю, демоны прочертили бы когтями по всем лбам человеческим. Но у дьявола свой лимит – слуги призваны были лишь исполнять приказания. Мури, видя все эти штучки, не мог не испытывать презрения к подобным трюкачам. Демоны чувствовали его холодную ненависть и, шипя и злясь, отворачивались, встречаясь с кошачьими зрачками.
Между тем показалось Сараево. При виде дружно горящих крыш, с которых сыпалась черепица, демоны совсем взбесились от радости, заскакали по башне и, высунув от старания омерзительные языки, еще раз чиркнули по приговоренным лбам – проделывать подобное сколько угодно раз им не возбранялось. Один из рогатых и перепончатых мерзавцев даже оседлал качающийся орудийный ствол. Затем началась пальба. Солдаты проявили неожиданное милосердие – древко было выдрано из люка, и кот вместе с сачком, кувыркаясь, полетел на обочину.
А в городе творилось настоящее безумие. Скрипя стволами, растопырив ветви, с треском рушились липы и каштаны. Над деревьями носились мириады стихиалий. Домовые в отчаянии бегали по лопающимся крышам. Это была вселенская паника: снаряды падали то здесь, то там, город расплескивался по сторонам, птицы совершенно потеряли голову – и над всем этим дрожало зарево.
Мури плюхнулся в придорожную траву и не особо тому расстроился – до него никому не было дела. Двуногие усердно истребляли друг друга, попутно задевая деревья, птиц и животных. Кот направился к подвалу ближайшего дома. На разваленном крыльце, подобно нытику домовому, уместился старый человек. Он держал в ладонях собственное сморщенное, словно губка, лицо, выжимая из него довольно крупные слезы. Увидев перед собою Мури, он запричитал коту точно так же, как запричитал бы любому появившемуся существу: