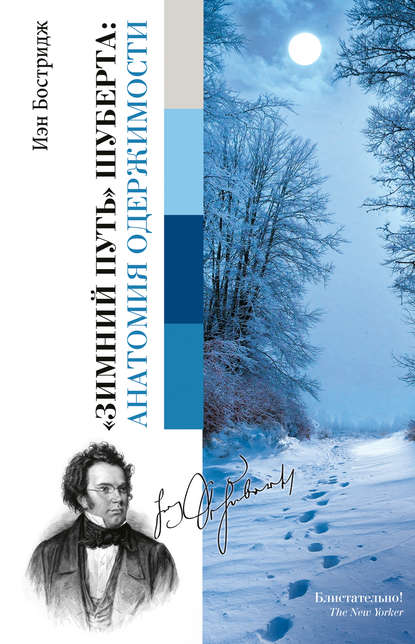Издание книги на русском языке подготовлено при поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве в рамках Года Музыки Великобритании и России 2019
© Ian Bostridge, 2015
© А.Н. Мурашов, перевод, 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019
* * *
Вступление
С сердцем, полным бесконечной любви к тем, кто пренебрег мною, я… отправился в дальний путь. Много лет я пел песни. Когда бы ни пытался я петь о любви, любовь превращалась в боль. А когда я пытался петь о боли, она превращалась в любовь.
Шуберт «Мой сон», рукопись.3 июля 1822 года
Winterreise, «Зимний путь» – цикл из двадцати четырёх песен для голоса и фортепьяно, сочинённый Францем Шубертом в конце его недолгой жизни. Он умер в 1828 году в возрасте всего лишь тридцати одного года.
Шуберт пользовался признанием ещё при жизни, как необыкновенно плодовитый автор песен и как мастер завораживающих мелодий. «Зимний путь», по-видимому, привёл в замешательство его друзей. Один из ближайших из них, Йозеф фон Шпаун, вспоминал тридцать лет спустя о том, как цикл был принят в шубертовском кругу: «Некоторое время Шуберт казался очень расстроенным, погруженным в меланхолию. Когда я спросил, что его печалит, он ответил лишь одно: “Скоро вы услышите и поймете”. Однажды он сказал мне: “Приходи сегодня к Шоберу, я спою цикл страшных песен. Меня беспокоит, что ты скажешь о них. Они стоили мне больших усилий, чем какие-либо еще”. Тогда он пропел нам весь “Зимний путь” полным чувства голосом. Мы были ошарашены скорбным, мрачным тоном этих песен, и Шобер сказал, что только одна из них, «Липа», пришлась ему по душе. На это Шуберт ответил: “Мне эти песни нравятся больше, чем все остальное, и когда-нибудь они понравятся и вам”».
Другим близким другом, с которым Шуберт за несколько лет до этого делил квартиру, был Иоганн Майрхофер, правительственный чиновник и поэт. Шуберт положил на музыку 47 его стихотворений. По мнению Майрхофера, в «Зимнем пути» нашла выражение личная травма Шуберта: «Он долго был тяжело болен [сифилисом, которым он заразился в конце 1822], прошёл через изнурительные испытания, и жизнь стала казаться мрачной, для него наступила зима. Его привлекла ирония поэта, имевшая истоком отчаяние, и он выразил её в резких звуках».
Шпаун с еще большим драматизмом смешал личное и эстетическое в своём рассказе о создании песенного цикла: «Я совершенно не сомневаюсь в том, что возбужденное состояние, в котором он писал прекраснейшие песни и, особенно, «Зимний путь», стало одной из причин его ранней смерти».
Эти сообщения дают простор для мифотворчества, у Шпауна звучат даже мотивы Христа в Гефсиманском саду: уныние, непонимание друзей, ощущение тайны, разгаданной только после смерти творца. Но этой устойчивой легенде о «бедном Шуберте» – неоцененном, нелюбимом, не добившемся прижизненного успеха – стоит противопоставить тот факт, что композитор хорошо зарабатывал музыкой, которую сочинял, был принят в салонах влиятельных людей, получал как одобрительные, так и неодобрительные отзывы критики. Шуберт был, вероятно, первым великим композитором, работавшим как свободный художник, без гарантий, но и без ограничений, которые накладывали на других творцов церковь или знатные меценаты. Несмотря на некоторую юношескую безответственность, ему многое удавалось. По популярности в Вене его сочинения уступали только сочинениям Россини, их исполняли лучшие музыканты того времени, а плата, которую он получал, была немалой. И «Зимний путь», выйдя из печати, не остался незамеченным. Вот отклик одного современника, из Theaterzeitung за 29 марта 1828 года:
«Дух Шуберта смело простирает своё могущество повсюду, поэтому он увлекает за собой каждого, кто бы ни приблизился к нему, и ведёт их через неизмеримые глубины человеческого сердца в ту даль, где преддверие бесконечности пылко озаряет их розовыми лучами. Но там же повергающее в трепет блаженство невыразимых предчувствий умеряется болью от пут, накладываемых настоящим, которыми ограничено человеческое существование».
Несмотря на несколько многословную романтическую риторику, видно, что автор ясно понимал и с восхищением принял всеми позднее признанный возвышенный характер цикла; непостижимое качество, которое преображает то, что слишком легко могло бы показаться самоупоенной лирикой разбитого сердца.
Для человека искушенного «Зимний путь» – торжественное событие в истории музыки. Цикл отличается строгостью и одновременно трогает невыразимой сердечностью. После финальной песни «Шарманщик» наступает почти осязаемая тишина, примерно такая же, как после исполнения баховских «Страстей».
Но само упоминание об искушенном слушателе звучит тревожным сигналом. И поэтому еще одна книга, посвящённая «Зимнему пути», не кажется мне лишней: хочется многое объяснить, развеять недоумения, подкрепить впечатления разбором контекста. Песня под аккомпанемент фортепьяно больше не звучит в домах, сдала она свои позиции и в концертных залах. Классическая песня, или, как говорят немцы Lieder, – целевой продукт, предназначенный для любителей классической музыки. Однако «Зимний путь» – бесспорно, великое произведение, которое вправе занять место в общечеловеческом наследии рядом с поэзией Шекспира и Данте, живописью Ван Гога и Пабло Пикассо, романами сестёр Бронте и Марселя Пруста. Достойно внимания то, что цикл исполняется и производит сильное впечатление в концертных залах по всему миру, как бы далека ни была родная культура слушателей от венской музыкальной среды 1820‐х годов.
Я пишу это вступление в Токио, где публика понимает «Зимний путь» не хуже, чем в Берлине, Лондоне или Нью-Йорке.
В этой книге я намерен использовать каждую песню цикла в качестве основы для исследования тех обстоятельств в Вене 1820‐х, что сопровождали создание этого произведения Шубертом, и поместить цикл в историко-культурный контекст, стараясь отыскивать новые и, может быть, неожиданные переклички между «Зимним путем» и тогдашней эпохой, а также современностью, переклички в областях литературы, живописи, психологии, науки и политики. В этом, конечно, неизбежно сыграет роль и анализ самой музыки, и тем не менее, книга вовсе не систематическое введение в «Зимний путь», каковых и так много.
Мой недостаток в том, что я не обладаю технической подготовкой для традиционного музыковедческого анализа, ведь я никогда не изучал теорию музыки в университете или специальном колледже, но тут есть, может быть, и свои преимущества. Я ободрен исследованием «расхождений между слушательским опытом и описанием музыки в теоретических понятиях», осуществленным Николасом Куком в блестящей книге «Музыка, воображение и культура». Было экспериментально показано, что даже хорошо подготовленные музыканты не склонны воспринимать музыку как чистую форму, с точки зрения техники. Потому что для каждого из нас, если только мы не прилагаем особых целенаправленных усилий, занимаясь именно анализом, встреча с музыкой имеет случайный, непринужденный, нетеоретический характер, даже если мы слушаем великое произведение, представляющее собой развернутое музыкальное высказывание – будь то бетховенская симфония или фуга Баха.
Могут потребовать отдельного разговора некоторые повторяющиеся мелодические узоры и гармонические решения в столь разнообразной композиции «Зимнего пути», – последовательности двадцати четырёх песен. Однако я намерен прибегнуть в таких случаях к феноменологическому методу изложения, прочерчивая субъективные и культурно-обусловленные траектории восприятия или исполнения, а не перечислять модуляции, каденции и корневые позиции.
Я надеюсь, что собранный мной разнородный материал поможет прояснить и углубить наши впечатления от музыки, обогатить восприятие тех, кто уже знаком с этим произведением, и заинтересовать тех, кто не слышал его или даже о нем. В центре внимания всегда сам песенный цикл – как мы исполняем его? И как его следует слушать? Но при помещении «Зимнего пути» в более широкий контекст должны открыться новые, прежде незнакомые перспективы, обладающие, как я надеюсь, своим очарованием.
Моему собственному странствию по «Зимнему пути» поспособствовали великолепные наставники и личная увлеченность. Я впервые столкнулся с музыкой Франца Шуберта и поэзией Вильгельма Мюллера, на чьи слова написаны эти песни, в школе, когда мне было двенадцать или тринадцать лет. Наш потрясающий школьный учитель Майкл Спенсер постоянно поощрял наши самые амбициозные до абсурда музыкальные проекты. Будучи певцом, а не музыкантом-инструменталистом, я всегда испытывал ощущение, что нахожусь за пределом волшебного круга, хотя мы и исполняли немало фантастической вокальной музыки – Бриттена, Баха, Таллиса и Ричарда Родни Беннета для новичков. Когда Майкл Спенсер предложил одному из моих одноклассников Эдварду Осмонду, кларнетисту, исполнить вместе с ним самим, пианистом, нечто под название «Пастух на скале», я и не знал, насколько смелое это предприятие! Придя в субботу утром к Спенсеру и участвуя в репетиции вместе с другими, я испытал восторг, какой позже нечасто испытывал в моей жизни. «Пастух на скале», Der Hirt auf dem Felsen, одно из самых последних произведений Шуберта, написанное по просьбе великой оперной дивы Анны Мильдер-Гауптман, голос которой признавался чудом тогдашней сцены: «храм», как писал один, «чистый металл», по выражению другого. Слова в начале и конце пьесы принадлежат Вильгельму Мюллеру, поэту «Зимнего пути», но великолепная виртуозная пастораль для Мильдер-Гаптман очень далека от этого цикла. Пастух стоит на скале и обращает песню к расстилающемуся перед ним альпийскому пейзажу. Эхо отвечает его голосу, когда он вспоминает свою далекую возлюбленную. Печальная средняя часть сменяется восторженным призывом весны. Весна придёт, пастух двинется в путь и соединится с любимой девушкой. Это прямая противоположность «Зимнему пути».
В одной из коробок на моем чердаке хранится плёнка с записью того нашего школьного выступления. Я давно её не слушал, но помню, что мой дрожащий дискант мало соответствовал сложным вокальным задачам «Пастуха». Однако было что-то милое в исполнении песни, написанной для травести, настоящим мальчишеским голосом. Как бы то ни было, я влюбился в шубертовское произведение, но потом позабыл о нем и об этой первой встречи с традицией Lieder.
Затем был другой замечательный учитель, на этот раз преподаватель немецкого в старших классах, Ричард Стоукс, чья горячая и глубокая любовь к песням высказывалась если не на большей части наших уроков, то на многих из них. Представьте только двадцать подростков четырнадцати-пятнадцати лет, с совершенно разными вокальными способностями, ревущих шубертовского «Лесного царя» или «Куда пропали все цветы?» Марлен Дитрих в лингафонном классе. Именно с «Лесного царя» началась моя любовь к немецкой песне, страсть, охватившая меня в подростковом возрасте. Моё воображение и мой разум пленила конкретная запись этой песни – исполнение Дитрихом Фишер-Дискау, королём немецких баритонов, и английским пианистом Джеральдом Муром. Я не знал еще языка, но звук и драматизм, передаваемые фортепьяно и голосом – иногда вкрадчиво, иногда тревожно, иногда горестно – обладали для меня полной новизной.
Я нашёл все доступные записи песен в исполнении Фишер-Дискау, и подпевал им, именно когда мой голос менялся с дисканта на тенор, что вряд ли было идеальным выбором с точки зрения азов вокальной техники, поскольку Фишер-Дискау – несомненный баритон.
Личная вовлечённость тоже имела тут место, потому что я прибегал к музыке и стихам немецких песен, преодолевая трудности подросткового возраста. Другой цикл на стихи Вильгельма Мюллера, «Прекрасная мельничиха», Die schöne Müllerin, прекрасно подходил моим романтическим настроениям. Я решил, что влюблен в девушку с моей улицы, неуклюжие знаки внимания с моей стороны поначалу оставались незамеченными, а затем были отвергнуты, и я сообразил (или так на самом деле и было), что у нее отношения со спортивным парнем из местного теннисного клуба. Казалось вполне естественным блуждать по улицам Южного Лондона, тихонько напевая песни Шуберта о восторгах любви и отверженности. Ведь прекрасная дочь мельника избирает мужественного охотника, а не чувствительного мальчика-подмастерье.
С «Зимним путём» я познакомился немного позже, и оказался хорошо подготовленным к такому знакомству. Я слышал цикл в исполнении двух великих немецких певцов, выступавших в Лондоне, Петера Шрайера и Германа Прая, но при этом умудрился не использовать единственный шанс услышать вживую Фишер-Дискау, певшего «Зимний путь» в Королевском оперном театре Ковент-гарден. Впервые я сам выступал с «Зимним путём» в январе 1985 года перед тридцатью друзьями, соучениками и преподавателями в Президентском доме колледжа Сент-Джон в Оксфорде.
Меня часто спрашивают, как мне удаётся помнить слова всех песен. Ответ один – начать запоминать пораньше. Когда эта книга попадёт в печать, будет тридцать лет, как я пою «Зимний путь».
Книга появилась на свет после двух годов писательских усилий и разысканий, но она еще и плод тридцатилетней одержимости «Зимним путём», исполнения его, похоже, более частого, чем чего-либо еще в моём репертуаре, и попыток найти новые способы петь эти песни, организовывать сами концерты и, конечно, новые способы понимать их. В результате, я многим обязан друзьям и коллегам, число которых слишком велико, чтобы назвать каждого из них. Я уже упомянул двух учителей, пробудивших во мне любовь к немецким песням, Майкла Спенсера и Ричарда Стоукса. Очень важным для написания книги стал вклад всех пианистов, вместе с которыми я исполнял шубертовский цикл.
Сам Шуберт, находясь с гастролями в Зальцбурге, писал брату, что посредством создания песен и выступления с ними он создал новую форму искусства, требовавшую особого сотрудничества между певцом и музыкантом: «Манера, в которой Фогль поёт, а я играю, как если бы мы были единым существом в такие моменты, есть нечто совершенно новое и неслыханное».
Джулиус Дрейк, вместе с которым мы снимались в фильме по «Зимнему пути» и выступали несчетное число раз до съёмок и после, – самый лучший спутник в этом странствии странствий, мудрее других, необыкновенный музыкант. Грэм Джонсон поделился со мной впечатлениями от концерта и, в разговоре, глубинами своих несравненных познаний учёного, занимающегося Шубертом. Лейф Оле Андснес, чудесный пианист и человек, нашёл время для гастролей и записи цикла со мной в качестве вокалиста, благодаря Мицуко Учида я также смог исполнить «Зимний путь» на особенных площадках. Вервен Ду, молодой, но отнюдь не наивной исполнительнице, её свежему подходу я в недавнее время стал обязан новым взглядом на знакомую музыку. Завершая эту книгу, я готовлюсь к туру с «Зимним путём» вместе с композитором Томасом Адесом, уже успевшим высказать неожиданные идеи касательно цикла. Репетиции и выступления вместе с Адесом в то время, когда книга достигла стадии правки, напомнили мне спасительным, но и болезненным образом, что мои описания этой многосторонней музыки, в лучшем случае, довольно случайны, а в худшем – совершенно неадекватны. Заслуживает отдельной благодарности Ин Чанг, первый пианист, с которым я работал над исполнением «Зимнего пути», прекрасный историк и музыкант-любитель. В Faber & Faber и в Knopf у меня было два замечательных редактора, Белинда Мэтьюз и Кэрол Джейнвэй, чьи уверенность и ободрение поддерживали меня в этой затее с книгой. Их первоклассная команда нуждается в большем, чем следующее простое алфавитное перечисление: Питер Андерсен, Лайза Бейкер, Кейт Бертон, Лиззи Бишоп, Кевин Бурк, Брона Вудс, Джозефин Кэлз, Элинор Кроу, Джошуа Ламорэ, Питер Мендельзунд, Педро Нельсон, Кейт Уорд, Мэгги Хайндерс, Энди Хьюз, Ромео Энрикес.
Питер Блор, Филиппа Коул, Адам Гопник, Лисль Кундерт, Роберт Рэттрей, Тамсин Шоу, Кэролайн Вудфилд – благодарю вас всех! И хочу признать ошибки перед дорогим другом Александром Бердом, который оказался прав: Шуберт и впрямь – лучший. Наконец, я благодарен своей семье: матери, которая первая дала мне книгу с шубертовскими песнями, покойному отцу, которому доводилось во время долгих автомобильных поездок петь вместе со мной, а в особенности моим детям, Оливеру и Оттили за то, что прощают мне длительные отлучки и спасают от отчуждения, которым проникнут «Зимний путь». Я посвящаю книгу любимой жене и лучшему из всех друзей, Лукасте Миллер. Ей принадлежит идея композиции этой книги, а её неисчерпаемое знание 1820‐х годов подразумевает, что многие из самых удачных находок и мыслей в этой книге принадлежат ей. Все стало возможным благодаря ее любви и участию.
ПРИМЕЧАНИЕ О ПЕРЕВОДАХ
Я переводил стихотворения Мюллера по мере того, как писал книгу, и сам процесс перевода служил импульсом при написании каждой главы. Плод моих усилий в этом отношении кажется мне слегка грубоватым, у меня не было единого подхода к достижению равновесия между точностью и поэтичностью. Каждая глава и каждое стихотворение потребовали особенного соотношения того и другого. Подобным образом, я иногда в составе самих глав даю несколько иные варианты перевода отдельных строк, чтобы подчеркнуть тот или иной смысловой нюанс в словах Мюллера. Когда я писал книгу, во мне росло восхищение Мюллером как умелым, одаренным поэтом, сложность и красоту чьих стихов трудно вполне передать.
Спокойно спи
Gute Nacht

Fremd bin ich eingezogen,
Чужак, сюда пришёл я,
Fremd zieh ich wieder aus.
Чужак, и ухожу.
Der Mai war mir gewogen
Был добрым май ко мне,
Mit manchem Blumenstrauß.
И много – цветочных венков
Das Mädchen sprach von Liebe,
Девушка – та говорила о любви,
Die Mutter gar von Eh’ –
Мать – даже о женитьбе,
Nun ist die Welt so trübe,
А ныне мир так тёмен,
Der Weg gehüllt in Schnee.
Путь снегом занесен.
Ich kann zu meiner Reisen
Мне не приходится час выбирать
Nicht wählen mit der Zeit:
Для отправления в путь,
Muß selbst den Weg mir weisen
Должен я найти себе дорогу
In dieser Dunkelheit.
В темноте.
Es zieht ein Mondenschatten
Движется лунный луч,
Als mein Gefährte mit,
Как мой попутчик,
Und auf den weißen Matten
И на белых лугах
Such’ ich des Wildes Tritt.
Я ищу следы зверей.
Чужим пришёл сюда я,
Чужим покинул край;
Из роз венки сплетая,
Был весел щедрый май.
Любовь сулила счастье,
Уж речь о свадьбе шла.
Теперь кругом ненастье,
От снега даль бела.
Нельзя мне медлить доле,
Я должен в путь идти,
Дорогу в тёмном поле
Я должен сам найти.
За мною вслед тоскливо
Лишь тень бредёт моя.
В снегу ищу пытливо
Следов звериных я.
Was soll ich länger weilen,
Зачем мне медлить дальше,
Daß man mich trieb’ hinaus?
Пока меня не вышвырнут вон?
Laß irre Hunde heulen
Пусть воют приблудные псы
Vor ihres Herren Haus!
Перед домом господ.
Die Liebe liebt das Wandern, –
Любовь скитаться любит,
Gott hat sie so gemacht –
Такой её создал Бог,
Von einem zu dem andern,
От одного дома к другому,
Fein Liebchen, gute Nacht!
Доброй ночи, любимая!
Will dich im Traum nicht stören,
Я не потревожу твой сон –
Wär’ schad’ um deine Ruh’,
Стыдно было бы мешать твоему покою.
Sollst meinen Tritt nicht hören –
Не нужно слышать тебе моих шагов,
Sacht, sacht die Türe zu!
Тихо-тихо закрывается дверь!
Schreib’ im Vorübergehen
Я напишу на воротах,
An’s Tor dir gute Nacht,
Проходя их, «доброй ночи»,
Damit du mögest sehen,
И ты увидишь:
An dich hab’ ich gedacht.
Я думал о тебе.
Здесь больше ждать не стоит,
Не то прогонят прочь,
Пускай собаки воют
У входа в дом всю ночь.
Кто любит, тот блуждает,
Таков закон судьбы;
Приюта он не знает,
Таков закон судьбы.
Кто любит, тот блуждает,
А ты спокойно спи!
Приюта он не знает,
А ты спокойно спи!
К чему мешать покою,
Будить тебя к чему?
Я тихо дверь закрою,
Уйду в ночную тьму.
Пишу тебе над дверью:
«Мой друг, спокойно спи», –
То знак, о чём теперь я
Грущу, бродя в степи.
«Доброй ночи, спокойно спи» – похоже на конец истории, верно? Так говорят ребёнку, когда сказка на ночь уже рассказана. В этих словах звучит нежность, и песня Шуберта нежная. На репетициях и концертах мне казалось, что «Спокойно спи» – одновременно и завершение чего-то, и прелюдия ко всему циклу «Зимний путь». У песни замедленный темп, она приглушенная, как если бы скиталец тихо переступил порог дома, где когда-то любил и что-то утратил. Тут лишь намеки отчужденности и сильных эмоций, которые последуют в других песнях. И все же эти намеки слышатся вполне отчетливо.
Мне случалось испытывать страх перед исполнением этой песни, когда я только начинал путешествие по «Зимнему пути», точнее сказать, я чувствовал большое облегчение, когда доводил «Спокойно спи» до конца. Я боялся, что из-за неопытности, из-за недостатка эмоциональной вовлечённости и доверия к замыслу композитора я только утомлюсь сам и, что намного хуже, наскучу публике.
Gute Nacht длиннее, чем любая другая песня Шуберта, особенно если учесть, что у неё размеренный, хотя и не медленный темп. Её основное качество – повторы, и, возможно, в идеале она должна звучать совершенно ровно. Когда мы слышим в третьем куплете о лае приблудных собак, появляется искушение как-то динамически выделить эти строки: петь громче, подчеркивать слова, подражая лаю, о котором идет речь. Но такому искушению нужно противостоять, хотя напряжение, возникающее при противостоянии, без сомнения, должно ощущаться.
Изобилующая повторами спокойная мелодия, тщательно выстроенная Шубертом, необходима здесь для важнейшего шубертовского приёма: в последней строфе происходит магическая смена минорного ключа на мажорный. У Шуберта мажор часто звучит печальнее минора, что противоречит общему представлению, мифологизированному Коулом Портером в Ev’ry Time We Say Goodbye («и странна эта смена мажора минором»). Грусть мажора здесь, в Gute Nacht, отчасти объясняется его зыбкостью: светлая мысль о девушке, спящей и видящей сны, – сама по себе лишь сон. Грёзы о счастье, выраженные в мажорном ключе и оттого ещё более щемящие, – характерная черта этого песенного цикла.
Это такая песня, что с самых первых звуков кажется, будто ты слушаешь ее уже целую вечность. Возвращающиеся, сдержанные вибрации голоса следуют друг за другом на нотной странице и через всю песню безостановочно, сперва в сочетании с противонаправленными меланхолическими спадами, которые прерываются одиночными аккордами, а такие одиночные аккорды у Шуберта всегда означают боль.
В той же рукописи Шуберт обозначил темп песни как mässig, in gehender Bewegung, то есть «сдержанно, прогулочным шагом», буквально «идущим», и такое движение, будто зарядил дождь, – главная тема песни.
Зимнее путешествие – нечто большее, чем путь с несколькими остановками. Это прежде всего попытка убежать от себя, стремление удалиться, странствовать в одиночестве. Прием не нов: скитающийся во времени Вечный Жид, несущийся в пространстве «Летучий голландец» из XIX века передают эстафету дорогам Керуака и 61‐му шоссе Дерека в веке двадцатом.
Шуберт уже использовал этот прием в довольно мрачном произведении – одной из песен арфиста «Кто одиноким хочет быть» на стихи Гёте; он мог держать в голове и 26‐ю фортепьянную сонату Бетховена, так называемую «Прощальную» (Les Adieux). Музыкальный мотив ее первой части Бетховен обозначил словом Lebenwohl, «сердечное прощание». А средняя часть называется Abwesenheit («Отсутствие») с темпом andante espressivo (in gehender Bewengung, doch mit viel Ausdruck) – «идущее» движение, «но с большой выразительностью».
Почему герой песенного цикла «Зимний путь» отправляется в путь в полном одиночестве? Традиционно считается, что его отвергла возлюбленная, и он в тоске отправляется в бесцельное странствие. Нам сообщается – давайте вспомним, что девушка говорила о любви, а мать – даже о свадьбе. На этих словах мелодия поднимается, усиливается, нагнетая ожидания, а затем падает как в пропасть, возникает гнетущая пауза, знаменующая конец надежд, поворот от домашнего тепла в прошлом к унылому пейзажу, где мы находимся сейчас: «А ныне мир так темен, путь снегом занесен». Так и неясно, что погнало его в дорогу. Он ее бросил? Она его отвергла? Была ли свадьба, о которой говорила мать, вселявшим надежду миражом или кошмарным видением странника, не желающего никаких обязательств? Поступал ли он так всю жизнь? Почему он здесь, в этом доме, в этом городе? Он остановился здесь по пути куда-то, приехал к кому-то в гости, забрел случайно?
Однако время позднее, все уснули.
Отчасти ключ к пониманию всего этого лежит в глубоком интересе поэта Вильгельма Мюллера к творчеству Байрона (в 1820‐е годы он опубликовал на немецком большие эссе, посвященные «Чайльд Гарольду» и «Дон Жуану») и к тому, что можно назвать байроновской манерой отрешения, в свою очередь позаимствованной у Вальтера Скотта, автора поэмы «Мармион» и множества исторических романов.
Персонаж Мюллера, как байронический герой, окутан тайной («Чужим сюда пришел я, чужим и ухожу» – так он говорит о себе); причина трудной ситуации, в которую попал герой цикла, до конца не ясна. Позднее, когда поэтическая неопределенность уже передана слушателю, он говорит, как будто насмехаясь над байроновской моделью: Habe ja doch nichts begangen, daß ich Menschen sollte scheu’n. – «Я не сделал ничего такого, чтобы избегать общества людей». Это как бы вопрос: «Сделал ли? Ответьте мне…»
Загадка была в самой сути культа Байрона, культа, питавшего поэзию. «Он понимал людей такого типа, – писала в 1814 году одна из читательниц, Аннабелла Милбэнк, через год ставшая женой Байрона, – благодаря лишь собственным рефлексиям». Байрон претворял в жизнь мифологию собственной поэзии. Как и герой «Зимнего пути» он был изгнанником, скитальцем, отщепенцем из-за какого-то темного, окутанного тайной преступления (десятилетия спустя выяснилось, что это был инцест со сводной сестрой).
Но в «Зимнем пути» нет и намека на какое-то жуткое преступление: наш странник не Манфред и не старый мореход[1]. И нет оснований думать, что Вильгельм Мюллер, который был счастлив в браке, когда писал цикл, разделял опыт своего героя, хотя более раннее увлечение в Брюсселе в конце войны с Наполеоном и могло дать ему нужный материал.
Ранние годы Мюллера, впрочем, как и самого Шуберта, – совершенно другая история. А стихи этого цикла, возможно, всего лишь своеобразная аллегория политического отчуждения в постнаполеоновскую эпоху, во время правления Меттерниха, и толчок к ним был дан обстоятельствами жизни Мюллера. Эта версия едва ли правдоподобна как основное объяснение, почему были написаны стихотворения «Зимнего путешествия», но мы рассмотрим ее ниже.
На самом деле речь идет о внутренних метаниях личности, переживающей экзистенциальную тревогу, которые нашли отражение в бидермейеровской эпохе, уже далекой от мелодрамы «Мармиона» или байроновского «Манфреда». Вот почему стихи Мюллера нравились великому противнику романтических гипербол Генриху Гейне. Приземленность, вне всяких сомнений, источник оригинальности цикла и его художественной силы. Навеянное Байроном отсутствие четкого сюжета в песнях «Зимнего пути», скудость какой бы то ни было точной информации – важнейшие характеристики поэтического строя. Судьба главного героя, движения его души, стремящейся выговориться, за которыми мы наблюдаем, сродни ментальному эксгибиционизму, но при этом детали от нас скрыты. Но тогда имеет смысл вспомнить обстоятельства нашей собственной жизни – и протагонист становится нашим зеркалом. В то же время у довлеющей субъектности в стихах Мюллера нет никакого подспорья, ей не задают рамок ни сюжет, ни характер персонажа (в обывательском смысле мы слишком мало знаем об этом человеке), она бездонна – вот почему из всех современников Шуберта именно Мюллер так стремился к тому, чтобы его стихи были положены на музыку: «Я не умею ни петь, ни играть на музыкальных инструментах, но когда я пишу стихи, я все же пою и играю. Если бы я мог создавать музыку, мои песни встретили бы лучший прием, чем теперь. Но ободрись! Возможно, где-то есть родственная душа, которая услышит мелодии под покровом слов и вернет их мне». Он записал это в дневнике в 1815 году, на свой двадцать первый день рожденья. Когда в 1822‐м композитор Бернхард Йозеф Клейн опубликовал песни на шесть стихотворений Мюллера, тот поблагодарил его и добавил: «Ведь мои стихи лишь наполовину существуют, оставаясь на бумаге в черно-белом цвете, пока музыка не вдохнет в них жизнь или, по крайней мере, не окликнет и не пробудит ее, если она спит в них».
Ирония заключается в том, что Мюллер никогда не слышал шубертовских произведений на тексты своего раннего поэтического цикла, равно как «Прекрасную мельничиху» и «Зимний путь», хотя знал, что его стихи кладут на музыку другие, не столь знаменитые композиторы.
Первые шедевры Шуберта в песенном жанре написаны за четырнадцать лет до «Зимнего пути» на стихи величайшего немецкого автора тех, а, может быть, и любых времен, Иоганна Вольфганга Гете. «Лесной царь» (Erlkönig) и «Гретхен за прялкой», или «Маргарита за прялкой» (Gretchen am Spinnrade), на первый взгляд, в эмоциональном плане совершенно другие, чем произведения на тексты Мюллера. Но метод, которым пользовался Шуберт – абсолютно новый при создании песен, – в «Лесном царе» и «Гретхен», по существу, тот же, что он использовал и потом. В первом из этих стихотворений Гете отец везет на коне через лес мальчика, и того пугают демонические нашептывания волшебного Лесного царя. Отец пытается успокоить и отвлечь ребенка, но в последней строке, как и в финале песни, оказывается, что ребенок мертв. Гете написал это стихотворение, как балладу для открытия придворного музыкального спектакля о рыбаках, Singspiel, в Веймаре в 1782 году. Текст стремится, хотя бы внешне, к своеобразной безыскусности фольклора. Молодого Шуберта интриговала задача вытащить на свет психологическую глубину баллады. «Гретхен за прялкой», напротив, явный триумф реалистического психологизма и эротической напряженности, это часть самого знаменитого стихотворного произведения Гете – «Фауста». Сидя у вращающегося колеса прялки, Гретхен раскрывает свое влечение к Фаусту, описывая этого персонажа и собственные чувства, которые охватывают ее все сильнее, конец им может положить только смерть, желанная для нее: двойная смерть, как мы понимаем, – сексуальный экстаз и гибель.
«Лесной царь» и «Гретхен за прялкой» были и остаются известнейшими произведениями в немецком литературном каноне. Шуберт изобрел для них – и это вышло у него настолько естественно, что кажется скорее находкой в прямом смысле слова, чем изобретением, – музыкальный язык, с такой мощью подхватывающий стихи и пронизывающий их, что, если мы хоть раз слышали шубертовские версии, уже трудно отделить от них стихотворения Гете.
- «Зимний путь» Шуберта: анатомия одержимости
- Рихтер и его время. Записки художника