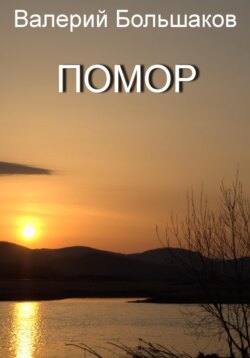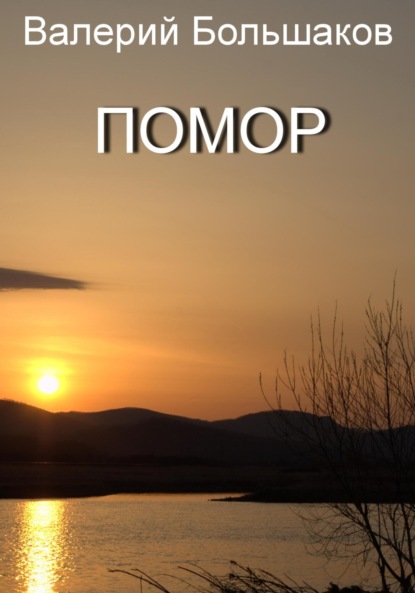Пролог
Россия, Шенкурский уезд Архангельской губернии.
Май 1867 года.
…Олёна преставилась на Рождество, и Фёдор Чуга овдовел.
Долго чахла Олёнка, с самого лета маялась непонятной хворью, всё мужа жалеючи – как же ему одному‑то, без неё? А к зиме слегла, да и не поднялась больше. Померла.
Уж как изводился Чуга – и к травницам обращался, и доктора из самого Архангельска заманивал, да всё без толку. Пользовали женку травами да медами, заговорами врачевали, мощи прикладывали, лекарь городской средство выписывал патентованное, а Господь всё одно прибрал душу Олёнкину, чистую и безгрешную.
Фёдор всё пытался свыкнуться с потерей своей, да не выходило у него. Вот же ж вчера только тепла была, дышала, молитву шептала, глядела на мужа скорбно, чисто ангелица, прости, Господи… А нынче нет её! Не стало. Вот уж и поминки справили, и день девятый минул, и сороковой отошёл…
Мела, мела зима лютая, завевала порошу. Жарко была печь натоплена, а на сердце – стужа.
…Похоронили Олёну на приходском кладбище, под сенью многовековых сосен и елей. В малолетстве Чуга пугался бывать здесь, за низким замшелым срубом бревенчатой ограды, где вера истинная будто и не обарывала идолища поганые.
У самого входа на кладбище простенькая часовенка стояла – три почерневшие иконки на полочке – вот и всё убранство. А сразу за резной калиткой густой зелёный полумрак нависал, из кружев густого подлеска срубцы выглядывали – низкие, в землю вросшие «избушки» в два‑три венца, кровлей в два ската крытые, – с коньками фигурными, с причалинами резными по торцам – всё как у живых людей, да только под срубцами мёртвые спали в гробах своих. И столбцы, столбцы вокруг – надмогильные знаки. Вехи в сажень,1 то круглые, то граненые, под остроугольными кровельками. Так и веяло от них капищем языческим да жутью всякой.
Отца‑то Фёдор схоронил далеко от этих мест, на пустынном берегу студёного моря, среди безлесных песчаных дюн. Огромный массивный крест в три роста человеческих отмечал могилу Труфана Чуги, сурового помора, не ведавшего страху, а вокруг – пустыня холодная, полуночная, где одни лишь волны рокочут без умолку да ветер свищет по голым пескам…
– Олёна… – выдавил Фёдор, но голос человеческий угас в зелёных кладбищенских потёмках, будто и не было последнего зова.
Вздохнув тяжко, Чуга погладил нежно крышу тесовую на Олёнином срубце, да и побрёл себе вон.
Смутно было на душе. Тоска неуёмная не покидала помора, скрываясь в закутках памяти: только припомнишь милое лицо, голосок любимый – и как иглою тебя всего пронижет, и больно до слёз. И вроде как иссохла влага горючая ещё в детские годы, а вот поди ж ты… Жжёт.
Чуга грузно сбежал к мелкой, каменистой Ваенге. На мосту он обернулся, перекрестился на церковь и пошагал на берег левый, где издревле стояла Харитоновка.
Деревня была велика – пятнадцать дворов – и жила не бедно. Все дома могучи, как терема, с крытыми дворами да со светёлками, с бревенчатыми взвозами до ворот вторых этажей,2 куда телеги въезжали пароконные или воловьи упряжки. Избою назвать такой‑то домище просто язык не поворачивался.
Все дома на «весёлое» место глядели – к реке были обращены. На косогоре мельница крылья раскинула, а журавли колодезные будто за нею тянулись, повыше задирая тощие шеи.
Палисадников с садочками и близко не видать – север. Огороды одни, а за ними лес дремучий вставал. На лужках коровки бродили пёстрые, колокольцами позванивали. Знатная порода, холмогорская. Хоть и мелкая скотинка, а молочка вдоволь даёт.
От пронырливых коровок и огороды, и всю деревню изгородями окружили из наискось поставленных жердей – не проберутся бурёнки.
«Терем» самого Фёдора с краю стоял – огромный домина, «кошелем» выстроен. Могучий сруб отливал свежей желтизной – и пяти лет не минуло с новоселья. Век простоит.
По гулким ступеням крыльца помор поднялся наверх. Миновал сени, перешагнул порог большой горницы, тихой и светлой. Ни одна из широких цельных плах, которые складывали пол, не скрипнула под ногой Чуги, человека рослого, сложения богатырского и весу немалого. Добротная построечка. Для Олёны срублена, для сынков и дочек. Наследника у Фёдора так и не появилось, а нынче и рожать‑то некому. И что ему делать теперь, когда в доме стыла тишина? Мёртвая тишина…
Чуга поклонился иконам в «красном углу», отливавшим тусклым золотом надраенных окладов, бездумно похлопал крепко сбитую печь. Еще недавно Олёнка в ней пироги пекла, хлеб ставила, камни калила, чтобы согреть пойло для скотины…
Фёдор бесцельно послонялся, кружа по горнице. То стены, гладко обтёсанные, рукою тронет, то на широкую лавку присядет, то вышитое полотенце зачем‑то пощупает, то в зеркальце глянет – на скуластое лицо с широковатым носом и плотно сжатыми губами, на зоркие серые глаза, таящие пустоту, на хмурый лоб и чёлку соломенного цвета. Добрый молодец…
Выйдя на балкон, Чуга долго смотрел на тот берег сверкающей на солнце Ваенги, на горку, где крепко сидела деревянная приходская церковь Св. Николая – мощный четверик, а на нём восьмерик3 с высоким шатром, утянутым вверх и увенчанным изящной главкой, крытой узорным лемехом.
«Совсем обветшала церквушка, – подумал Фёдор, – стара больно. И крест покосился…»
Храм примыкал к ограде кладбища, словно охраняя покой умерших, и горе снова угнездилось в сердце помора. Чуга вернулся в горницу и сел за стол, уложив на белую скатерть свои сильные руки. Ладони – сплошная мозоль…
Эти руки и дом ладили, и дикий лес сводили, выгадывая место под полюшко, и паруса ставили, и зверя добывали… И оглаживали прелести красавицы‑жены.
Фёдор со стоном вцепился в волосы, затряс головой, отгоняя пленительные видения. Да и разве одно тело женино было ему любо? Грудей он нащупался вдоволь, но только в Олёне нашёл заботу и ласку, ощутил покой и то, невыразимое словами, что не от красы плотской нарождается, но западает в душу и греет пуще всякого очага.
Чуга стиснул кулаки. Силы в нём немерено. Дух, правда, ослаб, но минут тяжкие дни – и он укрепится. Но что делать‑то? Как ему дальше жить? Для чего и для кого силушку прикладывать?
Фёдор усмехнулся неласково. Для кого… А ты помни, да живи! Вот тебе и весь сказ.
С крыльца донеслись тяжёлые шаги, звякнул засов на отворяемой двери, но помор даже головы не поднял, будто и не в его дом пожаловал гость – коренастый, основательный мужичина виду значительного, хоть и с порчинкой – чёрные волосы блестят от бриллиантина, усики нафабрены в две запятые. Купец Окладников, дальняя родня Чуги.
– Здорово, Фёдор, – сказал купчина внушительно, подсаживаясь к столу.
Хозяин помалкивал сперва, а после буркнул:
– Принёс?
– А то! – бодро откликнулся Окладников.
Он выложил на стол брякнувший сверток, развернул плотную ткань.
– Глянь‑кось. «Смит‑вессон» прозываются.
Фёдор без интереса поднял глаза, осматривая пару револьверов 44‑го калибра с рукоятками, отделанными ореховым деревом. Потом взял один, взвесил в руке приятственную тяжесть, проверил баланс.
– Новьё?
– А то! – солидно отозвался Окладников.
– Врёшь, поди…
– Как можно? Пистоль‑то американский, а производства нашенского, все хвалят.4 Вот и патроны, – купец выложил кожаный мешочек. – Говорят, в Америке этой все с ими ходят да палят друг в дружку беспрестанно, кажный божий день…
– Ну‑к, што ж, вот и я оружный буду.
– Оберегайся только, а то и до беды недолго… Пульнёшь, да не в того! Знаешь, чай, где в ём дуло?
– Да уж дал Бог памяти…
Чуга откинул барабан «смит‑вессона» и зарядил пустые каморы пятью патронами. Шестую оставил пустовать – в неё‑то и упёрся боёк. Так спокойнее будет, а то мало ли…
– Не передумал ли землю родную покидать? – стал уважливо допытываться Окладников. – Всё ж таки дедовские места, и Олёна…
Тут он смолк, ругая себя за лишнее, но Фёдор не осерчал, головою только мотнул.
– Нету боле Олёны, – глухо проговорил Чуга, – а то, что схоронено, – не она вовсе, а прах её, тлен, червям пожива. В раю моя девонька. А небеса – они везде, равно для всех. Олёнка с облацех повсюду меня углядит – и в Расее, и в Америке.
– Ох и далёко ж ты собрался… – завздыхал купец. – Шибко далёко… Што и говорить, беда у тебя, да ведь избывная. Молодой ты ещё, голову на плечах имеешь и не лодырь, вечно в деле. На печи лёжа, кроме пролежней, мало что нажить можно, а уж ты‑то, ежели с морем игру затеешь, умеючи да опасливо, внакладе не будешь. Нам, поморам, в плаваньях не учиться стать!
– В толк не возьму, – проворчал Фёдор, подозрительно взглядывая на Окладникова, – к чему ты клонишь… А, Еремей Панфилыч? Али опять на палубу зовёшь?
– Опять, Фёдор Труфанович! А ты думал? Коли всё ладно будет, я тебе и пароход доверю. Ей‑бо, пра!
Нахмурился Чуга и покачал головой.
– Невмоготу мне здесь, – сказал он, – давит всё… На чужбине мне полегче будет, хоть речи родной не услышу. Про дом‑то мы как, сговорились?
– А то! Половину себе забираю, половину сестрёнице твоей. Честное купеческое!
– Ин ладно, бери…
Поднявшись, Фёдор задвигался по горнице, кидая пожитки в кожаный мешок. Куртку уложил овчинную и носки тёплые, Олёной вязанные, пару рубах байковых, шапку меховую – вдруг зима американская сурова? Поглубже запихал револьверы с патронами. Сам‑то Чуга собран был с утра самого – сапоги яловые, с блеском, в них портки заправлены, сверху жилет‑безрукавка накинут, а под ним рубаха простая, с напуском, у ворота Олёной вышитая. Первый парень на деревне…
Натянув картуз, Фёдор вздохнул шумно и присел, держа мешок между колен.
– Посидим на дорожку…
Еремей Панфилыч пригорюнился сидючи. Всё ж справного морехода теряет. Молодые‑то, что в форменках щеголяют, по механизмам смыслят кой‑чего, в башках у них знания набито, как селёдки в бочках. А моря не знают.
– Ну бывай здоров, пойду.
Фёдор Чуга забросил мешок за спину, схватясь за лямку, и покинул свой дом. Навсегда.
Глава 1
СЕВЕР
Архангельск встретил Фёдора нудной моросью, но к полудню развиднелось. Хмурное небо прояснилось, и только дали расплывались в дымке.
Город будто заснул – прохожие выглядели вялыми, движения особого не заметишь. Лошади, и те не катили бодро коляски, а влачили их по улицам, клоня понуро гривастые шеи. Да и чему удивляться? Ровно пять лет тому назад «высочайшим повелением» архангельский порт упразднили. Ни к чему‑де нам гавань на севере, коли к петербургским причалам суда не заманишь. В общем, прижали поморов окончательно.
А началось всё ещё при Петре, великом разорителе Поморья. Император ничего лучшего не придумал, чем отобрать у Архангельска морскую торговлю, переведя её на Санкт‑Петербург. Окладников, когда поддавал хорошенько, ёдко прохаживался насчёт монаршей дурости. «Што есть море Балтийское? – вопрошал купец и сам же ответ давал: – Лужа. Пруд мелкий. Захочет немец запереть нас, не дать ходу кораблям – и перекроет проливы. И всё! Запрудит – ни войти ни выйти. А Чёрное чем лучше? Всей разницы, што там вся власть у турка – чуть што не по нему, он – раз! – и свои проливы на чепь! Не‑е, одно лишь море Студёное – наше, вот уж где морская дорога истинно Божья. Плыви куда хошь…»
А кто запретил поморам кочи строить, повелев бриги да шняки иноземные на воду спускать? Он же, Пётр Алексеевич. Шибко не любил император родную землю, всё в Европу окошки тужился распахивать, а думать не поспевал.
Как Баренц‑то на бриге во льды затесался, не знал царь разве? Льдины тот бриг как скорлупку раздавили, в щепочки, а вот лодье поморской или кочу никакие торосы не страшны. Днище‑то у них кругляшом сделано – сойдутся ежели льдины, то выдавят коч наверх, не сомнут, оцарапают разве чуток, а после снова опустят в разводье. Как же можно было лучший корабль для вод северных худым посчитать?
И после всех этих горестей и бедствий, отпущенных поморам по «высочайшему повелению», сами же архангелогородцы памятник Петру затеяли ставить!5
Фёдор покривился – ниже пасть в угодничестве своём да верноподданичестве не смогли, видать. Уж лучше Ивану Грозному чего воздвигли бы, основателю Архангельска. Суров был Иоанн Васильевич, зато дело знал туго – ведал, где Руси ворота морские отворять… Не то что нынешний царь‑император. Это ж додуматься надо было – Аляску по дешёвке продать!6 Хватило ж ума…
Выйдя к порту, Чуга только головой покачал – пустота на рейде. Одни карбасы рыбацкие качаются у причалов, ловя ленивую двинскую волну, да белый пароход с высокой чёрной трубой колёсами вертит, копотные клубы дыма распуская над зелёной водой.
Не судьба, вздохнул Фёдор. Видать, придётся ему с этим пароходом до Вологды плыть, а после к Питеру подаваться али в Либаву7 – оттуда только и доберёшься до страны Америки.
Приглядевшись, помор рассмотрел у дальнего причала большую шхуну – пока к самой пристани не выйдешь, не увидишь парусника, амбаром скрыт соляным.
Чуга решительно двинулся туда и на полдороге различил флаг американский, полоскавшийся под слабым южным ветерком‑обедником. Повеселев, Фёдор прибавил шагу.
Корабль был старой постройки, но добротным – двухмачтовая гафельная шхуна.8 Ржавый низ, чёрные борта, невысокая надстройка белым крашена. Названа шхуна по‑английски, «Одинокой звездой».9 На палубу вёл широкий трап со сбитыми поперечинами; череда краснорожих подвыпивших грузчиков‑амбалов таскала тюки с паклей, загружая трюм. Рядом, на литом кнехте, восседал толстяк‑здоровяк с обширной плешью и попыхивал трубкой. Облачённый в безразмерный свитер, плоховато скрывавший объёмистое чрево, он сидел, широко расставив ноги в парусиновых брюках и уперев руки в колени. Лицо его было цвета седельной кожи, под сенью лохматых, выгоревших на солнце бровей прятались хитрые голубенькие глазки, а сломанный нос озвучивал каждый вдох и выдох, издавая громкое сипение.
– По‑русски говоришь али как? – спросил его Фёдор.
Голубые бусинки блеснули разумением, но толстяк‑здоровяк не вымолвил и полслова. Чуга поднапрягся, складывая знакомые английские слова, осевшие в памяти за время плаваний. Тогда‑то он сносно говорил на «инглише», но времени сколько минуло… Фёдор осведомился:
– В Америку ходить?
Толстяк прогнусавил:
– Ходить.
– Кто шкипер?
– Я.
– До Нью‑Йорка не подбросишь?
Шкипер вынул трубку и гулко расхохотался, обдавая помора запахом крепкого табака и виски. Утерев выступившие слёзы, он сказал:
– Пассажиры у меня уже есть, а тебя, так и быть, подброшу, если матросом пойдёшь.
– Один только этот рейс? – уточнил Фёдор.
– Конечно! – вылупил шкипер глазки. – А ты что подумал?
– Подумал, – проворчал Чуга. – Вдруг ты мой… меня «зашанхаить»10 решил. На год‑другой.
Толстяк‑здоровяк с укором посмотрел на помора.
– Плавал хоть?
– Было дело. На аглицком клипере «Тайпин» в Китай хаживал за чаем. С корветом «Гридень» ходил во Владивосток.
– Вот это я понимаю! – воскликнул шкипер. – Кончаем погрузку и выходим. Идём в Лондон, оттуда в Нью‑Йорк. Плачу двадцать пять долларов в месяц, расчёт в порту прибытия. По рукам?
– По рукам!
Скрепив сделку извечно мужским жестом, толстяк‑здоровяк крикнул:
– Сай! – Повернувшись к Фёдору, он объяснил: – Это помощник мой, Сайлас Монаган. Проходимец, каких мало, но штурман отменный.
– Тебя‑то как звать‑величать?
– Я – Вэнкаутер Фокс, капитан и владелец этой лоханки, – важно сказал толстяк‑здоровяк. – Ещё вопросы есть?
– Будут, – пообещал Чуга. – Потом.
– О’кей, парень, – ухмыльнулся шкипер. – Ты мне нравишься! Сайлас! Якорь тебе в глотку…
– Тут я, Вэн, – перегнулся через перила длинный как жердь Монаган, узкоплечий и тонкошеий. Острое лицо и хрящеватый нос помощника лишь подчеркивали общую худобу. Близко посаженные зелёные глаза Сайласа светились недобрым огоньком.
Оглядев Фёдора, он сказал:
– Не понимаю, мастер, зачем нам ещё один матрос? Деньги девать больше некуда?
– Поговори мне ещё… – проворчал Фокс. Повернувшись к Фёдору, капитан резко спросил: – Пьёшь?
– Что? – спокойно поинтересовался помор.
– Водку! Виски! Джин!
– В рот не беру.
– Слыхал, Сайлас? Где Айкен?
– Отсыпается…
– Скажи Мануэлю, пускай выволакивает этого пьянчугу и скатывает на причал. Пинков надаю лично!
Монаган хмуро кивнул и пропал из поля зрения.
– Мануэль Бака – это наш боцман, – сказал Вэнкаутер. – В паре штатов его разыскивают за убийства, так что лучше с ним не задирайся, понял? А то знаю я вас, русских…
Вскоре показалась удалая тройка – уже знакомый Чуге Сайлас и плотный человек с чёрными усами, смуглый и темноглазый, видать тот самый Мануэль Бака, вели, вернее сказать, тащили третьего – нескладного и лохматого, с большими ногами и руками, в рваной матросской робе.
По трапу ведомый спустился сам, пару раз споткнувшись, но каким‑то чудом удержав равновесие. Пошатываясь, он устремил мутный взор на шкипера и промычал:
– З‑звали?
– Погуляй, Айкен, – ласково сказал шкипер и сунул ему целковый, – погуляй.
Обрадованный неожиданной добротой, матрос тут же устремился в город, на поиски ближайшего трактира.
– Занимаешь его место, – распорядился Фокс, – и ждёшь отплытия.
– Да, сэр, – пробасил Фёдор, ступая на трап.
На палубе его ждал Бака. Боцман щеголял в просторной тужурке и коротких, широких штанах. Волосатые ноги его были обуты в самодельные туфли, плетённые из кожаных ремешков, – очень удобные в штормящем море, когда волны, бывает, и палубу окатывают. Такая обувка не скользит.
– Пошли, – буркнул Мануэль, теребя сразу оба символа боцманской власти – посеребренную дудку, свешивавшуюся с немытой шеи на цепочке, и плётку‑линёк с железками‑утяжелениями для пущей убойности.
– Пошли, – согласился Чуга.
Боцман отвёл новичка в сырой, вонючий кубрик и молча удалился, многозначительно вертя линьком.
В кубрике было грязно и душно, на нижней койке сидели два матроса и резались в карты. Ещё двое дремали на верхних местах. Лежбище для пятого обнаружилось возле пыльного иллюминатора – продавленная плетёная койка, которую по утрам полагалось сворачивать и подвешивать к переборке. Конечно, не кровать с балдахином, но на «Гридне» Фёдор и вовсе в гамаке‑«авоське» спал.
Грязь и вонь отозвались в Чуге воспоминанием об Олёне. Для неё чистота и порядок были символами веры, она постоянно мыла, чистила, скребла, стирала, тёрла, подметала…
Не здороваясь, Фёдор с трудом раздраил иллюминатор.
– Ты чего делаешь? – раздражённо повернулись картёжники.
– Проветриваю помещение, – коротко ответствовал помор и осмотрелся. – Развели срач…
– Ты кто такой, а? – С верхней полки спрыгнул мускулистый детина с волосами, выгоревшими добела. – Или жить устал?
Детина лениво почесал мощную шею, и в руке его возник, будто из воздуха, длинный и тонкий кинжал – «арканзасская зубочистка».
Такие, случается, носят в потайных ножнах на спине, подвешивая шнурком к шее.
– Как звать? – спросил Чуга хладнокровно.
– Коттон Тэй, – осклабился детина, поигрывая кинжалом.
– А я – Фёдор. По‑вашему если – Теодор. Так вот, Котт, или как там тебя… Сейчас ты спрятать… спрячешь свою ковырялку – и бегом за шваброй.
– А если не сбегаю? – промурлыкал Коттон.
Помор не стал тратить слова на объяснения – молниеносным движением перехватив руку с кинжалом, он заломил её, отбирая «зубочистку», и так крутанул Тэя, что того пронесло по всему кубрику и крепко приложило к трапу.
Не глядя на распластанного детину, Чуга показал пальцем на другого «отдыхающего», с интересом следившего за развитием событий с верхней койки.
– Ведро принести с водой, – велел помор. – Ополоснуть не забудь. Вам тоже зря не сидеть, – перевёл он взгляд на картежников. – Искать тряпки.
Матрос, занимавший место наверху, задумчиво почесал широкую грудину, размалёванную русалками, достал из‑под матраца свинчатку и мягко спрыгнул на заплёванный пол. Оба картежника одинаково ощерились, вооружаясь кастетами.
…В следующую секунду шкипер со своим помощником наблюдали забавную сцену – сначала четверо матросов, с придушенными воплями, были по очереди вышвырнуты на палубу, а потом по ступенькам поднялся Чуга – могучий, равнодушный, холодный – и спокойно повторил приказ:
– Швабра. Ведро. Тряпки.
Капитан тихонько захихикал, качая головой, и сказал в сторону Мануэля, словно размышляя:
– Может, мне и боцмана послать следом за Айкеном? Этого русского хватит, чтобы заменить обоих!
Сайлас Монаган кисло улыбнулся, а боцман сжал рукою свою дудку, словно опасаясь, что её вот‑вот отнимут. Костяшки его пальцев побелели.
Половины часа хватило, чтобы навести порядок в кубрике, – пол сиял белым деревом, иллюминатор, протёртый до невидимости, пускал «солнечные зайчики» на чистые одеяла, а медный штормовой фонарь под потолком горел надраенным металлом ярче, чем в те редкие моменты, когда его зажигали.
Матросы и сами поразились перемене. Они стояли в проходе, неуверенно переминаясь, поглядывая то друг на друга, то на помора.
– Вот так живут люди, – веско сказал Чуга. – Запомнить? И чтоб больше не путать кубрик со свинарником.
Он оглядел их всех – здоровенного Коттона Тэя; худого, но жилистого Эфроима Таггарта; кряжистого и кривоногого, схожего с крабом Табата Стовела; долговязого Хэта Монагана – то ли брата, то ли свата Сайласа. Нормальные, в общем‑то, парни. Не без мути в головах, конечно, так ведь все такие. Цельные да ладные натуры, где вы? Ау!
– И последнее, – сказал Фёдор, усаживаясь на тяжёлую табуретку, принайтованную11 к полу. – В мешке у меня тёплая одежда, денег там нет. Замечу, что лазал кто, – руки повыдёргиваю.
Матросы ему поверили.
Двумя часами позже Чугу привлёк шум на пристани. Холодное безразличие, поселившееся в нём с похорон Олёны, мешало позывам божьего мира найти отклик в душе, но остатки былого любопытства живы были – надо ж кругом‑то посматривать, для здоровья полезно. Помор поднялся на палубу. Трюм был полон, грузчики, получив свои медяки, удалились шумной ватагой. Прибыли пассажиры.
На причале стояла пролётка, двое – белый мужчина в мягкой фланелевой рубашке, в потёртых «ливайсах»,12 которые неплохо сочетались с ношеным сюртуком, и настоящий негр в коротких, не по росту, штанах и кургузой курточке – выгружали кожаные саквояжи и шляпные коробки, а по трапу поднималась молодая девушка в модном платье из джерси. Оно весьма выгодно облегало девичью грудь, подчёркивало крутизну бёдер и узину талии. Девушка шла уверенно, без ойканья, изящно придерживая подол. Когда она повернула голову в капоре и посмотрела в сторону Фёдора, Чуга увидел прелестное личико девочки‑ангелочка, обрамлённое локонами приятного каштанового оттенка.
Встретившись с твёрдым взглядом помора, голубые глаза пассажирки расширились, словно дивясь увиденному. Пухленькие губки девушки приоткрылись – вот‑вот с них сорвётся слово, но нет, длинные трепещущие ресницы опустились, пригашивая синие огонёчки.
– Пожалуйте, мисс Дитишэм, – суетился шкипер, – каюта готова, всё в лучшем виде, так сказать, а наш кок обещал нынче угостить настоящей русской ухой – из стерляди!
– Должно быть, это вкусно, – рассеянно произнесла мисс, с любопытством оглядываясь вокруг – и словно не замечая бросаемых на неё жадных взглядов. – Зеб, – обратилась она к негру, – занеси вещи в каюту, я потом их разберу.
– Да, мэ‑эм, – сказал тот на южный манер – с мягким выговором, и осклабился, сверкая идеальными зубами.
Белый мужчина, до сей поры не издавший ни звука, отпустил извозчика и поднял на борт последний, весьма укладистый баул.
– Познакомьтесь, господа, – сказала мисс Дитишэм, представляя его, – это Флэган Бойд. Он сопровождает меня повсюду, оберегая от всяческих напастей.
Флэган молча поклонился. Полы его сюртука слегка откинулись, демонстрируя ремень с двумя кобурами, из которых торчали рукоятки револьверов с костяными щёчками. Воронёная сталь блестела потёртостями, из чего Фёдор заключил – револьверы Бойд носил явно не для красоты.
После обеда стало теплее, свинцовое небо посветлело. Затрепетали листья берез, лёгкой рябью покрылась двинская вода – словно мурашки прошли по реке.
– Отдать носовой! – гаркнул повеселевший шкипер. – Отдать кормовой!
Чуга, находившийся ближе всех к полубаку,13 сноровисто ухватился за лохматый канат и перекинул его на пристань.
Рывками, с громким шуршанием, фок‑мачта оделась парусами. Набиравший силу ветер с юга выдул полотнище фока‑гафеля, белённое солнцем, и разгладил все складки. С протяжным скрипом описал дугу гик, переброшенный на правый борт, – шхуну заметно повлекло вперед, заплескала вода, рассекаемая форштевнем.
Архангельск отдалился, приблизилось двинское устье, рассечённое на рукава песчаными островами, намытыми рекой. Шхуна втянулась в одно из русел.
Постепенно рукав делался полноводнее, берега словно отходили в стороны. Вот и последний островок, покрытый высокой травой, остался за кормой. Низкий берег, окрашенный солнцем в лиловые тона, медленно тонул в белёсом тихом море. У горизонта волны загорелись, зарозовели, отражая огненно‑багровое небо. И в небе, и на море застыли сиреневые облака.
Задул шелоник,14 шкипером Вэнкаутером зовомый зюйд‑вестом. Ветер нагнал тучи, солнце едва просвечивало сквозь них и казалось бледным мохнатым шаром. Потемнело. Море заугрюмело. С грязного, низкого неба просеялась холодная морось.
Вэнкаутер приказал поднять все паруса, и «Одинокая звезда» побежала шибче.
«По пятнадцати вёрст15 парусит, – подумал Фёдор. – Хорошо поспевает».
Капризная погода снова переменилась. Шелоник дул по‑прежнему и угнал тучи за предел небес. Тепла не прибавилось, зато перестало моросить.
Чуга стоял у борта, держась за ванты, и провожал глазами родные края. «Вот тебе и весь сказ…» – мелькнуло у него. Может, и не придётся более глазами шарить по скучным песчаным берегам Двины, заваленным плавником, по беспорядочно скученным избушкам, чернеющим на золотом песке.
Не доведется видеть, как рдеет по болотистым местам морошка, как бурые мишки топчутся по ягоде, объедаясь на зиму. Как стелется вокруг ровная тундра, бугристая да ямистая, а белые совы сидят на кочках, похожие на пятна не сошедшего снега…
Может статься, что никогда более не услыхать ему благовеста, доносящегося с островерхих деревянных церквей, прилепившихся на угорьях…
Никогда?.. Ну зарекаться – тоже не дело. Кто ж судьбу свою ведает? Судьба непостоянна и переменчива, как женщина. Ни с того ни с сего так взбрыкнуть может, что только диву даёшься.
Тут на палубу вышла мисс Дитишэм. Оставаясь в прежнем платье, она сменила капор на шляпку. Не успела девушка сделать и пары шагов, как резкий порыв ветра сорвал с её головки кокетливый головной убор.
– Ах!
Фёдор мгновенным движением поймал шляпу и с поклоном передал пассажирке.
– Благодарю вас, – чопорно сказала девушка, надевая потерю и подвязывая ленту под остреньким подбородочком. – Вы норвежец?
– Русский, мэм.
– О! – Бровки мисс Дитишэм взметнулись, изображая удивление. Она продолжила на родной речи помора: – А как вас зовут?
– Фёдором кличут. А фамилие моё – Чуга.
– А я – Марион.
«Марьяна», – перевел для себя Фёдор, а вслух сделал комплимент:
– Хорошо вы по‑нашему говорите.
– А я всегда стараюсь выучиться языку той страны, где обитаю, пусть даже временно. Когда мы жили во Франции, я брала уроки французского, а потом мы переехали в Россию… Мой отец работает в американском посольстве. – Марион запнулась и договорила тише: – Работал…
Поймав вопросительный взгляд Фёдора, девушка объяснила:
– Отец… Он умер в начале весны.
Чуга покивал хмуро и вдруг, неожиданно для себя, сделал признание:
– А я жену схоронил, Олёнку…
– Ой…
Поглядев на помрачневшего Чугу, Марион осторожно спросила:
– Вы так назвали её… ласково. Любили, да?
– Любил.
Они замолчали, но общее горе словно сблизило их, размывая обычное отчуждение между случайными попутчиками.
– Мне было пятнадцать лет, – негромко заговорила мисс Дитишэм, – когда мы покинули Штаты. Тогда шла война, северяне наступали, а нас они объявили врагами. Мой отец был плантатором, у него работало много чёрных невольников, но мы никогда их не обижали, во всей округе царил мир и покой. Я помню нашу усадьбу – белую‑белую, с колоннами, и парк, и как съезжались гости – мужчины в чёрном, а дамы в длинных платьях… Как звучала музыка, и все танцевали, и смеялись, и звенели бокалами… А потом пришли «мешочники»‑северяне. Пролилась кровь. Усадьбу нашу сожгли, а маму мы похоронили на семейном кладбище…
– Чай, отец ваш за южан воевал?
– Отец вообще не воевал! – резко ответила Марион. – Даже оружия в руки не брал. «За кого мне идти в бой? – говорил он. – За этого выскочку Девиса? Не желаю. Переметнуться к „Честному Эйбу“?16 Нет уж, увольте. Я не рвусь в герои, но и предателем стать не спешу!» Мы с папой и верным Зебони бежали в Новый Орлеан, оттуда добрались до Нью‑Йорка. Там живёт мой дед, он из тех, кого называют «старыми деньгами». Дед всю жизнь работал, он честным путем нажил своё состояние. А теперь пришли иные времена, времена новых богатеев – Моргана, Гулда, Вандербильта. Это люди жестокие и бесчестные. Их бог – это доллар, нажива – их цель, а в купле‑продаже кроется смысл жизни.
Отец просто не смог бы устроиться в Нью‑Йорке, этом «Вавилоне‑на‑Гудзоне». Он был истинным джентльменом с Юга, и волчьи нравы Уолл‑стрит были писаны не для него. Отцу повезло – его старый знакомый, Кассиус Клей, был назначен послом в Россию. Он взял нас с собой… Отец работал в посольстве, а я «украшала приёмную», как шутил дядя Кассиус. И вот я совсем одна…
– Теперь что ж, изо всей родни один дед остался?
– Дед и тётя Элспет, его вторая жена. Ещё у меня есть дядя Джубал, но он живёт далеко на Западе, в Калифорнии. У него там ранчо.
Фёдор Чуга кивал, хотя многие слова слышал впервые. Вроде и по‑русски с ним говорили, а вот поди ж ты… И где там Север, где Юг в этой Америке? Чего южане с северянами не поделили?17 А Запад тут при чём?
Помор покосился на девушку. Хороша… И молода совсем. Годков осьмнадцать ей. Или все двадцать. Глядел он на неё с удовольствием, но ретивое да игривое не шло на ум – душа будто смёрзлась и оттаивала медленно, по капле. Хорошеньких девиц Чуга завсегда примечал, да и он им гож был, однако, как женился, ни с кем не путался – Олёны было довольно. Мыслимо ли это – ещё за кем‑то ухлёстывать, когда душа полна до краю? Идёшь, бывало, по лесу, вспомнишь Олёнку – и улыбаешься… Никогда прежде не верил Фёдор, что женщина способна так круто жизнь его поменять, а вот поди ж ты… Главное, смысл появился. Раньше‑то, когда Чуга в море уходил или зверя промышлял, то цель в уме держал простую – лишний целковый заиметь к вящей пользе, чтобы, значит, на хозяйство пустить. А после женитьбы он понял своё предназначение, знал, ради кого пушнину добывает, ради кого старается. Это было так здорово – жить с толком! И вот снова ни пользы, ни смысла… Ну цель‑то у него есть, хоть и смутная, а там, глядишь, и смысл обрести удастся…