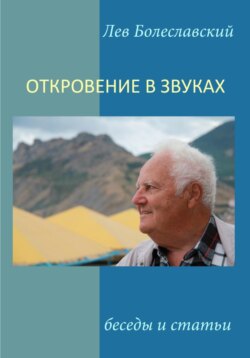Космически настрой свой разум,
Как скрипку музыкант! И сразу
На струны ляжет тайный звук,
Пришедший из вселенской бездны,
Неслышный на Земле железной, —
И высший мир проступит вдруг!

Семь Слов Христа
Здесь от всего, что творю, веет концом.
Скоро Я дверь отворю, встречусь с Отцом.
Что Я, на землю пришед, людям принёс?
Свет! Отчего же сей свет в них не возрос?
Зреет вражда меж людьми. Разве поднесь
Мало давал им любви, дара Небес?
С вечною болью в душе вижу Я: тьмы
Войско покуда сильней, правит людьми.
Я ухожу. Но люблю, слабых, их всех.
С Неба любовь им пошлю, милость навек.
Плоти отброшен покров. Рвусь из колец.
Много ли нужно Мне слов? Семь, наконец!
Тихо скажу на краю грешной земли:
«Отче, Мой дух предаю в руки Твои!»
В далёкой юности меня поразил рассказ моего приятеля о распятом Спасителе и Его словах с креста: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают». Иисус (а я, ещё не пришедший к вере, видел в Нём лишь простого смертного) просит в молитве не за Себя, а за других. Больше того – за тех, кто распинает Его. Христос даже пытается смягчить их вину – они не верили, что предают казни подлинного Мессию, не ведали всей меры своего злодеяния. Молитва Христа полна безмерного сострадания и Божьей милости. Эти мысли пришли ко мне, только когда я начал обретать веру, и слова Господа, произнесённые с креста, стали наполняться для меня великой духовной силой.
Так же с годами я стал воспринимать и другие Его слова, сказанные на Голгофе в предсмертные мгновенья. Собранные вместе, они и образовали те самые Семь Слов нашего Спасителя на кресте.
Их последовательность красноречива. После молитвы за врагов Иисус обращается к Матери: «Жено! Се, сын Твой». Потом говорит ученику: «Се, Матерь твоя!» Третье Слово обращено к раскаявшемуся разбойнику, висящему на кресте рядом с Христом: «Истинно говорю тебе: ныне же будешь со Мною в раю». Иисус даёт утешение и надежду другим и только в четвёртом Слове вспоминает о Себе: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил!»
Пятое Слово – «Жажду!». Шестое – «Свершилось». И, наконец, седьмое: «Отче! в руки Твои предаю дух Мой».
Все вместе, Семь Слов Христа на кресте звучат как псалом, исполненный трагической силы.
Ко многим псалмам композиторы разных веков подбирали свои мелодии, стремясь выразить мудрость и духовную мощь Священного Писания. Это и Генри Пёрселл в Англии («Старинный псалом» ля мажор), и Генрих Шюц в Германии с его многохоровыми концертами-псалмами. Вдохновлялись ими и русские музыканты Дмитрий Бортнянский, Максим Березовский, Василий Титов, Степан Дегтярёв, Александр Архангельский, Павел Чесноков. Особенно я люблю «Семь псалмов царя Давида» – песенный цикл Михаила Ипполитова-Иванова, а в нём – «Бог нам прибежище и сила». Целую «Симфонию псалмов» создал Игорь Стравинский.
Итак, многие псалмы: и Давида, и сынов Кореевых, и Моисея – положены на музыку. А как же этот – как я думаю, величайший – псалом Божий, Семь Слов Христа? Тем более, в псалмах многое перекликается со словами Господа на кресте или с тем, что за ними следует. «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий» (Пс 22[21]. 19); «И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом» (Пс 69[68]. 22). А вот дословные совпадения с Евангелием: «Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня?» (Пс 22[21]. 2 и Мф 27. 46); «В Твою руку предаю дух мой» (Пс 30[29]. 6 и Лк 23. 46). ц3
Безусловно, в своих пассионах (Страстях) мастера музыкальных гармоний не могли пройти мимо самых драматических эпизодов и, следовательно, тех слов, что звучали на Голгофе. У молодого Георга Фридриха Генделя в «Страстях по Иоанну» (1704 год; маэстро всего 19 лет) слышим: «Weib, siehe, das ist dein Sohn» («Жено, смотри, вот сын Твой») – второе Слово; затем «Siehe, das ist deine Mutter» («Смотри, вот Матерь твоя»); «Mich duerstet!» («Жажду!»). Шестое Слово баритон поёт трижды: «Es ist vollbracht» («Свершилось»).
Ничего этого нет в знаменитой оратории Генделя «Мессия». Здесь композитор не раскрывает трагической картины страданий на Голгофе. Нет развёрнутых образов, музыкального изображения крестных мук, восклицаний и вздохов, обращений с креста. Нет и погребального обряда, и пьеты (оплакивания). У Генделя другая задача, наиболее ярко выраженная в гениальном «Аллилуйя».
Совсем иначе построил свою ораторию «Der Tod Jesu» («Смерть Иисуса») друг Генделя и Баха, 74-летний Георг Филипп Телеман. В финале её бас сообщает о последних мгновениях жизни Иисуса и Его словах: «Er ruft: Mein Gott, mein Gott! Wie hast du mich verlassen!.. Nun seufzet er: Mich duerstet!» («Он взывает: Мой Бог, Мой Бог! Для чего Ты Меня оставил! Затем стонет: Жажду!») И в завершение речитатива: «Свершилось! Прими, о Отец, Мою душу! – И склонил голову на грудь». Можно упомянуть в этом ряду и знаменитую ораторию Карла Грауна «Смерть Иисуса». Но все эти произведения отступают перед Страстями Иоганна Себастьяна Баха, его «Высокой Мессой» и духовными кантатами – столь велики их трагическая выразительность и глубина.
Большая часть речитативов в пассионах Баха приходится на долю евангелиста, но самые существенные слова произносит Иисус. Краткие речитативы спокойны и значительны: Ему не пристало выражать волнение или страх. Вопросы страже, ответы Пилату звучат как бы над тревожной, грозной действительностью. Лишь однажды в Его партии появляется мелодическое расширение. Предсмертный возглас Иисуса «Свершилось!» (шестое Слово) ложится в основу следующей за ним арии – проникновенного лирического отклика на свершившееся («Страсти по Иоанну»).
Особенность «Страстей по Матфею» – в том, что трагической вершиной пассиона становятся слова на кресте (четвёртое Слово): «Eli, Eli, lama sabаthani». При этом выразительная, веская в каждом звуке мелодия Иисуса повторяется (но выше на кварту) евангелистом, и общий колорит звучания блекнет. С последними словами Господа умолкают голоса струнных инструментов. Это и есть тихая кульминация Страстей. Затем в тишину вторгаются взволнованные реплики хора, хорал растёт, и разворачивается звуковая картина землетрясения. Этот контраст поражает. Бах удивительно точно и тонко продумал музыкальную драматургию пассиона. В его ариозо, ариях, хорах музыка несколько раз достигает высочайшего драматического напряжения и даже трагической силы. Это нарастание мастер снимает ради проникновенной негромкой фразы – четвёртого Слова, которое приобретает сверхсильную эстетическую власть. К этому приёму задолго до Баха прибегал и Генрих Шюц. Бах, опираясь на давнюю традицию, обогащает её.
У Шюца тоже есть пассионы, название которых звучит так: «История страданий и смерти нашего Господа Иисуса Христа из Евангелия святого Матфея (Луки, Иоанна)». Он также приводит то одно, то два обращения (Слова) Христа на кресте, а в 1645 году соединяет все Семь Слов в одном опусе. Кантата перерастает в ораторию «Die Sieben Worte unseres lieben Erloesers und Seeligmachers Jesu Christi», опус 478. Сокращённо – «Семь Слов».
Это глубоко драматическое произведение. Все образы в нём отмечены чертами психологической достоверности. Мастер сосредоточивает своё внимание на душевной драме личности, но не ограничивается этим. Сила «Семи Слов», как, впрочем, и других опусов Шюца (пассионов, магнификата, духовных концертов, священных симфоний), – в ощущении трагизма земного бытия вообще и трагизма эпохи (это время Тридцатилетней войны).
В «Семи Словах» и «Страстях» Голгофа осмысляется как всечеловеческая трагедия, но безутешное горе, скорбь, смертные муки переданы у Шюца с суровой сдержанностью.
Каждое из четырёх действующих лиц отмечено в оратории своим мелодическим стилем (партию Иисуса поёт тенор, Первого Разбойника – альт, Второго Разбойника – бас, Евангелиста – различные голоса попеременно). Партия страдающего Иисуса представляет собой ярчайший пример стиля lamento, что значит «жалобно, скорбно». Она словно соткана из кратких вздохов и стонов, и даже долгий звук в репликах Христа воспринимается как болезненный вскрик. В ином ключе («возбуждённом») выдержана партия Первого Разбойника, распятого по левую руку от Христа: он богохульствует, искушает Иисуса. Партия Второго Разбойника также отмечена особым мелодическим стилем.
Композиция оратории проста и строга: история смерти Христа дана в торжественном обрамлении скорбных хоров и «симфоний». Сдержанная манера музыкального рассказа напоминает скорее чтение евангельского текста, чем его драматическое воспроизведение, словно искусство отступает перед подлинностью и значимостью этого события для человеческой истории. Повествование ведётся скупыми средствами мелодических речитативов в сопровождении органа. От лица евангелистов поют то сопрано, то альт, то тенор, но на словах Иисуса «Господи, для чего Ты Меня оставил!» (четвёртое Слово) и при описании смерти Христа все партии объединяются в ансамбль. Партия Иисуса на всём её протяжении сопровождается дуэтом скрипок. Вступительный хор и симфония вводят нас в атмосферу событий, а заключительная симфония и хор оставляют слушателя в состоянии светлой и торжественной печали.
Кто же он, выдающийся предшественник великого Иоганна Себастьяна?
Один из наиболее ярких представителей европейского музыкального барокко, Шюц родился ровно за сто лет до Баха – в 1585 году. Мальчиком пел в придворной капелле в Касселе. Получив образование на юридическом факультете Марбургского университета (где учились Ломоносов и Пастернак), Шюц уехал в Италию, четыре года жил в Венеции и учился музыке у композитора Джованни Габриели. Он вернулся в Германию только после смерти учителя, работал придворным органистом в Касселе, затем – придворным капельмейстером в Дрездене. Годы Тридцатилетней войны (1618–1648) привели к почти полному роспуску дрезденской капеллы. Шюц уезжает в Копенгаген, живёт попеременно в Ганновере, Гамбурге, Амстердаме. Лишь восстановление капеллы приводит его обратно в Дрезден, где он работает до конца жизни (1672).
Современники называли Шюца отцом новой немецкой музыки. Он автор первой национальной оперы («Дафна»), первого немецкого балета («Орфей и Эвридика»), первой оратории («Рождественской»). У него был редкий дар сплавлять стилистически разный материал и глубоко индивидуальную манеру. Значительность музыкальных высказываний, страстность тона проявились в его «священных симфониях», «маленьких духовных концертах», мотетах, ариях и особенно в «Семи Словах Христа на кресте». Много лет спустя после смерти Шюца стало очевидно, что его путь был магистральным для всего периода барокко в Германии; кульминации же он достиг в кантатноораториальном творчестве Баха.
Пример Генриха Шюца в музыкальном претворении Семи Слов через 140 лет вдохновил другого мастера, великого австрийского композитора Йозефа Гайдна. Но эту тему он решил иначе. Об истории создания этого сочинения Гайдн рассказал сам в предисловии к вышедшему в 1801 году изданию ораториальной версии «Семи Слов»: «Прошло примерно 15 лет с тех пор, как один каноник из Кадиса обратился ко мне с просьбой сочинить инструментальную музыку на Семь Слов Иисуса на кресте. В те времена в главном соборе Кадиса каждый год в Великий пост исполняли ораторию… В полдень все двери запирали, и тогда звучала музыка. Поднявшись на кафедру, епископ после подходящего к случаю вступления произносил одно из Семи Слов и принимался толковать его. Закончив, он спускался с кафедры… Паузу заполняла музыка. Затем епископ вновь поднимался на кафедру и снова покидал её – и всякий раз по окончании его речи звучал оркестр. Этому действу и должна была соответствовать моя композиция. Задача дать подряд семь адажио, каждое из которых должно длиться около 10 минут и при этом не утомить слушателя, оказалась не из лёгких, и я скоро обнаружил, что не могу связать себя предписанным временем».
Гайдн создал цикл для оркестра из семи медленных частей с интродукцией и эпилогом («Землетрясение»). Цикл впервые был исполнен на Страстной неделе 1786 года в Кадисе, в церкви Санта Куэва, и опубликован в следующем году. Сочинение приобрело широкую известность. Гайдн вскоре сделал переложение «Семи слов» для струнного квартета, а следом – для фортепиано.
В 1792 году Йозеф Фриберт, капельмейстер епископа Пассау, написал к музыке текст. Правда, Гайдн был не вполне доволен им. «Вокальные партии я, пожалуй, сделал бы лучше», – сказал маэстро и сделал свой ораториальный вариант «Семи Слов». Так в 1801 году мир получил великую ораторию венского мастера.
И всё-таки в наши дни наиболее популярным и исполняемым является квартетный вариант (опус 51 в старом собрании). Квартетная версия из девяти частей, правда, не столь впечатляюща, как оркестровая, тем более – вокально-симфоническая, и всё же красота и величие этого опуса Гайдна поражают. Скорбно-трагическая и просветлённо-лирическая сферы уравновешивают друг друга и во всём произведении, и внутри каждой части. Вслушайтесь в чудесную мелодику этой вещи. Вот во второй сонате страстная мольба о милосердии, а в третьей – призыв к Матери. Суровый пафос человеческого страдания мы ощущаем в шестой сонате. Седьмая соната передаёт свет надежды. Отсюда уже недалеко до высших созданий позднего Гайдна, его ораторий «Сотворение мира» и «Времена года».
«Семь Слов» венчает грандиозная картина разбушевавшихся стихий, выразительная и экспрессивная, несмотря на её лаконизм. Она по праву может быть причислена к лучшим образцам творчества австрийского мастера.
А что же российские композиторы? Чрезвычайно самобытно решила тему Семи Слов наша современница София Губайдулина, создав в 1982 году семичастную партиту для виолончели, баяна и струнного оркестра. Продолжая духовно-культурную традицию, она обратилась к тому же сюжету, который вдохновил Генриха Шюца и Йозефа Гайдна. Особенно близкой оказалась для Софии Губайдулиной оратория «Семь Слов» Шюца. С ней связан приём многоголосного просветляющего ответа на одноголосные реплики «крестного» повествования, из него заимствована пятитактовая цитата на слово «Жажду!». Поразительно: сам текст не произносится, но, слушая музыку, мы слышим его.
По мысли композитора, произведение не должно быть прямой иллюстрацией евангельского текста. Однако остро-напряжённая инструментальная драма вызывает ассоциации с каноническим сюжетом, а инструменты выступают в качестве «героев», «персонажей». Вслушайтесь в «мученическую» тему, которую ведёт виолончель. С ней связано движение скрытого сюжета этой «оркестровой драмы». Вторая тема связана с партией баяна – то приказывающие, то гневные созвучия, то тяжкие вздохи мехов. Третью тему, с интонациями древнерусского знаменного распева, ведёт певучий хор струнных: просветляющую, вселяющую надежду и вместе с тем надмирную. К ней примыкают цитата из Шюца (в 1-й, 3-й и 5-й частях) и нежная мелодия солирующей виолончели.
Партита развивается с непрерывным нарастанием: в первой части «мученическая» тема виолончели уступает надмирному звучанию цитаты из Шюца и хора струнных; во второй обе линии усиливаются, в третьей к ним добавляются суровые восклицания баяна. В четвёртой части особенно экспрессивно растёт тема мученичества – виолончель с поддержкой баяна. В пятой – «распятие» передаёт баян, а в конце тихо и искажённо идёт цитата «Жажду!». В шестой части все три основные темы звучат в напряжённой одновременности, приходя в конце к трагическому срыву. Наконец седьмая часть – эпилог трагедии, переход в сферу духовного созерцания. В противовес всем земным мукам блистают лучи надежды – грядущего Воскресения, и мир словно трепещет солнечными бликами. Софии Губайдулиной удалось создать произведение поистине высокого духа.
И всё-таки после трагических «Семи Слов» душа тянется к победной музыке Воскресения – к «Мессии» Генделя, к «Высокой Мессе» Баха, к мощным юбиляциям, к «Аллилуйя!». Как захватывает душу Санктус – мажорная вершина баховской Мессы! Едва ли найдётся другое произведение, с таким совершенством передающее величие и торжество Воскресения Христа, который «смертию смерть попрал». Будто за Семью Словами трагедии встаёт ещё одно, восьмое Слово – ВОСКРЕС, и выше, прекрасней этой музыки нет. Ибо Автор её – Бог.
Евангелие от Баха

Прошло немало лет после смерти великого Себастьяна, прежде чем музыковеды начали разбирать и изучать его рукописи. И странное дело до сего дня не утихают споры, где его почерк, а где – его жены Анны Магдалены. Сохранилось немало опусов композитора, переписанных, её рукой. А ведь у неё и без того дел хватало: на ней держался дом. Анна Магдалена была матерью четырнадцати детей и ещё воспитывала шестерых от первой, умершей жены Себастьяна. Но неделя подходила к концу, а партии новой кантаты не были переписаны. И Анна Магдалена отрывалась от домашней работы и бралась за перо. А когда муж исполнял в церкви св. Фомы свои кантаты, она вместе с кем-нибудь из детей торопилась послушать, говоря её словами, «главную музыку». Многие произведения знала наизусть задолго до их исполнения в Лейпцигском храме или городском саду, а то и в кофейне (в публичных местах звучали светские кантаты, такие как «Кофейная», «Крестьянская» или «Состязание Феба и Пана»).
Вы можете удивиться, почему я начал свои размышления о величайшем музыкальном гении, со слов признательности Анне Магдалене. Да потому, что каждого художника должен кто-то вдохновлять! Дело не в том, что она была помощницей и создавала мужу условия для работы, и даже не в том, что порой пела в церковном хоре его кантаты и хоралы, а в том, что их связывала Любовь. Анна Магдалена настолько прониклась духом творчества Себастьяна, настолько они стали едины во всём, что со временем это отразилось и на почерке.
Лаура и Петрарка, Беатриче и Данте… Примеры, насколько классические, настолько и условные. Вдохновляет – идеал, представление об идеале. За человеком стоит нечто большее. Главное. И это знал и чувствовал Бах.
Главным вдохновителем его творчества был Творец. Именно Ему посвящены почти все произведения композитора как благодарность за ниспосланный дар. И никакого тебе «дионисийского», оргиастически-буйного, или «аполлонического», созерцательного и односторонне-интеллектуального начала, о котором писал Ф. Ницше в «Рождении трагедии из духа музыки», видя идеал в достижении равновесия между этими полярными началами.
Равновесие – в неколебимой вере. В любви к Господу. И этим держится всё величие музыки Баха.
Нет, не успеет. Не готов
К воскресной службе. Запоздало
Он спохватился. Средь миров
Ещё кантата Себастьяна.
Она у Господа ещё;
Меж тем, как он впустую тратил
Часы и бился горячо
За лишний гульден в магистрате.
Вязанкой дров и мерой ржи
Хотели обделить. Доплатой
Заполнен день. А для души,
Для песнопенья, для кантаты –
Лишь ночь. Трепещет на губах
Молчанье. «Помоги мне, Боже.
Не успеваю, – шепчет Бах. –
Не успеваю… Ты поможешь?
Меня заботит не успех,
Не славы ласковые цепи
Мне б только, Господи, успеть
К воскресной службе в нашей Церкви.
Я не завидую другим
Живу Твоею благодатью.
Не знаю, кто диктует им,
Но мне диктует мой Создатель.
Не надобно иного мне –
Нет осияннее и выше
Отрады, чем, наедине
С Тобой Тебя, мой Боже, слышать!
И тяготы не тяжелы,
Когда ловлю, под небом, стоя,
Струящийся из тишины
Хорал, отпущенный Тобою!
Раскрой же, Господи, скорей
Свои объятия – и свято
Приму из вечности Твоей
Ко мне летящую кантату!»
Тот же Фридрих Ницше сказал однажды, что музыка Баха – это музыка отрицания желания. Не думаю. Разве что в какой-то мере это может касаться мирских желаний. Но «Страсти», «Месса си минор», хоральные прелюдии, десятки кантат – это жаркое желание единения с Богом, жажда найти лучшие, вдохновенные темы и мелодии для прославления Творца.
В изумительной по красоте и проникновенности 106-й кантате Actus tragicus («Трагическое действо») – заметьте, юношеской! – старозаветному страху смерти композитор противопоставил радостное ожидание её. Текст сочинения полностью составлен из библейских цитат. Это сделал сам Бах, не прибегая к помощи либреттистов. Вот мы слышим слова из книги пророка Исайи: «Сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрёшь». Вступает хор, подтверждающий: «Ибо от века – определение: смертью умрёшь». Если бы на этом кантата окончилась, её можно было бы счесть заупокойной, трагическим действом, музыкой отрицания желания. Но вот будто кто-то перевернул страницу Ветхого Завета, и чистым женским голосом, словно это ангелы с небес явились, провозглашается иное. Сопрано поёт: «Гряди, Иисусе!» Открывается Новый Завет, а в нём – слова из Откровения Иоанна. В оркестре не утихает хорал: «Я поручил себя Богу!»…
Бах соединяет стихи из разных мест Евангелия, и везде – желание единения с Господом. Вот виднеется Голгофский крест, слышатся слова: «В руки Твои предаю дух мой». И тут же – ответ: «Ныне же будешь со Мною в раю». Душа – душа Себастьяна! – в спокойной мелодии повторяет: «С миром и радостью я отхожу». Земные страдания позади. «И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло…» Вот что слышится в кантате – слова из Откровения Иоанна.
Невольно вспоминается знаменитый сонет Шекспира с начальной строкой «Зову Я смерть…» Но там – бегство от лжи, коварства, несправедливости. У Баха же экстатическое желание нового неба и новой земли вырастает не из чувства отрицания, но из ожидания высшего единства и спасения. Такова его вера – вера протестанта и творца, для которого «осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11: 1) явлены в звуках.
Жизнь, сотню лезвий обнажи,
Но и тогда взойду и выстою –
Не потому, что мало лжи,
А потому, что знаю истину.
Взойду – избавлю дух и плоть
От низкого преуспеяния.
Моя твердыня – мой Господь,
Моя дорога осиянная.
Весь мир приму и обниму,
Утешусь в самой малой малости
И радуюсь не потому,
Что мало горести в дому,
А потому, что много радости!
К слову: вот пример гения – нормального человека. Пример, опровергающий расхожую мысль о том, что гениальность – непременно отклонение от нормы.
Гёте заметил: «Музыка Баха – это музыка пути к Богу, а Моцарт – это гармонии, которые звучат уже в раю». Не знаю, как для кого, но для меня и в краю небесном шюблеровские хоралы, например, или органные прелюдии были бы к месту и ко времени (вернее к вечности). Да и Моцарт – не только райские напевы. Но о нём в другой раз.
Когда меня просят свидетельствовать о вере, спрашивают, как я пришёл к Богу, я с благодарностью вспоминаю Музыку, и, прежде всего Баха – патриарха духовной гармонии. Мне было уже за тридцать, когда я впервые услышал его. Работал я в Харькове, в трамвайно-троллейбусном управлении, в редакции многотиражки «Харькiвський електротранспорт». Редакция располагалась на четвёртом этаже, а на первом, в бухгалтерии, трудился мой товарищ, замечательный поэт Борис Чичибабин. В перерыв мы встречались, читали друг другу последние стихи, обменивались впечатлениями не только о поэзии, но и о жизни, в которой тогда так мало было музыки, гармонии… Мы оба чувствовали: недостаёт чего-то. Главного. И мне, и ему.
В тот день перерыв кончился, Борис возвратился к дебету и кредиту, а я всё продолжал думать о душевном балансе, о равновесии, которого мне так не хватало. Я не спешил к пишущей машинке: газету потом доделаю. Вышел на улицу и вдруг услышал необыкновенную музыку, которая лилась из репродуктора, прибитого к столбу. И голос! Точно с неба сошло всё это ко мне: ведь на земле такой музыки не бывает. В душе вспыхнуло: Бах! Наверное, Бах. Потом я узнал, что это была ария Петра «Сжалься» («Erbarme dich») из «Страстей по Матфею». Вернее – плач, плач раскаяния. Удивительно, но поет его альт, точно это голос не самого Петра, а рыдания его души.
Мандельштам спрашивал, обращаясь через века к Баху: «Высокий спорщик, неужели… опору духа в самом деле ты в доказательстве искал?» Какое уж тут доказательство, когда сердце Себастьяна было переполнено любовью к распятому Христу! Опора – только в любви.
«Господь – надёжный наш оплот» – так называется его 80-я, Реформационная кантата. Как «твердыня» проводится в вокальных голосах энергичная мелодия хорала, следом – в оркестровом tutti, но затем и рядом – возникает умиротворённый ритм сицилианы: «Приди в сердечный дом мой» (или «в дом моего сердца»). Это – обращение к Христу.
Теперь странно думать, что было время, когда я, услышав баховский хорал, говорил: непонятно, слишком сложно для меня. Была привычка к легко узнаваемому, к тому, что сегодня называют «попсой». Музыка Баха никак не вписывалась в мой мирской быт. Но, ещё мало что понимая, я чувствовал, как, словно независимо от меня, душа моя идёт, летит за этой странной музыкой, стремясь к вечной гармонии. Только спустя годы мне открылась её красота. Нет, самонадеянно говорить «открылась». Открывается! Земные и небесные гармонии помогли мне ощутить и понять: есть нечто выше моей, нашей земной жизни. Есть Творец!
Кто-то возразит: эта музыка несовременна. Так могут утверждать только глухие, ещё не слышащие, не вслушавшиеся. Нет, эта музыка удивительно современна, как вечна и современна вера. И надежда. И любовь. Как всегда современно Небо. И река. И берёзовая роща. Поразительно: она, эта музыка, была создана, когда мир был совсем иным. Когда передвигались на лошадях, стреляли из мушкетов, секли шпицрутенами. Фортепиано было в диковинку. Посмотрите на портрет Баха: парик с буклями, чёрный кафтан, белый шейный платок. Но главное – глаза! Твёрдо сомкнутые губы. Упрямость видна в волевом подбородке. Впереди – испытания судьбы, но и Божья благодать! Но и величайший дар, полученный от Господа. «И всё, чего ни попросите в молитве с верою, получите», – говорил Иисус. Бах щедро распоряжался этим даром на протяжении 65 лет своей жизни. Столь же гениальный, но в поэзии, Борис Пастернак сознавал, обращаясь к Создателю: «Ты больше, чем просят, даёшь». А в Бахе не иссякал дар раздаривать! Молитва и вера укрепляли его сердце, помогая преодолевать мирские заботы, непонимание…
Иногда мне кажется, что музыкант жил не в XVIII веке, а во времена Иисуса Христа, ходил с Его учениками, видел и слышал. Слышал – и слушал. О земном пути Господа нам рассказали евангелисты в слове глубоком и ярком – не зря строки Евангелия зовут стихами. А вот музыкальное воплощение жизни Христа глубже и проникновеннее других совершил Бах. Слово упало на добрую землю. Умерло в тишине – воскресло в музыке. «Рождественская оратория», пассионы «Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну», «Месса си минор». А ещё – «Пасхальная оратория», мотеты и кантаты. Свыше двухсот духовных кантат! И всё это – о Христе. Поистине, эти гармонии – евангелие от Баха.
Если Георг Фридрих Гендель был сосредоточен в основном на Ветхом Завете (оратории «Эсфирь», «Саул», «Израиль в Египте», «Иосиф и его братья» и другие), то Бах – певец Завета Нового. Правда, и обращение Генделя к евангельской тематике дало прекрасные плоды: именно его «Страсти по Брокесу» вдохновили Баха на работу над его «Страстями».
«Приди, Иисус!» – восклицает Себастьян в одном из мотетов. «Иисус моя радость!» – слышим в другом. В течение одного церковного года кантор должен был написать 59 кантат, к каждой воскресной службе, не считая произведений на случай. За свою жизнь композитор сочинил пять годичных циклов духовных кантат, по одной к каждому воскресенью и празднику, – уникальное собрание христианской музыки, созданной в соответствии с требованиями лютеранства. Нередко он обращался к знакомым мелодиям и текстам великого наследия протестантских хоралов, и это помогало молящимся в храме воспринимать его музыку как богослужебную, хотя сами они не участвовали в её исполнении. Бах служил в церкви, регулярно создавая новые произведения. Казалось, это ремесло. Но Бах сумел поднять ремесло на уровень боговдохновенности.
Живу ремесленником Божьим
И каждый день в тетрадь мою
Записываю то, что прожил,
И прихожанам отдаю.
Не ведаю сует тщеславья,
Не знаю спешки и возни.
Есть ремесло. На нём расплавлю
Без примеси часы и дни.
Живу, приготовляя звуки.
Господь, я знаю ремесло.
Но как протягиваю руки
В ночи, пока не рассвело,
Туда, за дальние созвездья,
Среди громов, среди ветров –
И слышу радостно известья
О музыке иных миров!
Кажется, нет такой главы Евангелия, такого стиха псалма, которые небыли бы любовно, бережно перенесены в хорал, арию, синфонию (во времена Баха писалось так) Себастьяна. В кантате № 77 слышу, постигаю вдохновлённую словами Христа мысль о том, что в заповеди любви содержится весь Закон. Бах выражает заповедь любви музыкально: оркестр исполняет кантус фирмус хорала, то есть ведущую мелодию, проводимую неоднократно в неизменном виде – «Вот десять святых заповедей», – а хор сообщает новую заповедь. Христос получает новую заповедь любви из старого Закона – и композитор образует тему хорала из начальных интервалов старого хорала.
61-я кантата озарена словами Христа: «Се стою у двери и стучу». В 37-й бас поёт: «Вера даёт душе крылья». А в первом хоре 47-й кантаты, которую я особенно люблю, воплощены слова Иисуса: «Кто сам себя возвышает, тот должен унижен быть, и кто сам себя унижает, тот должен возвышен быть». 121-я – Рождественская. Об Утешителе, Святом Духе, рассказ в 108-й кантате. А вот Господь является после Своего воскресения ученикам (67-я кантата)… Хочется подпевать хору в 145-й кантате: «Ибо если устами своими будешь исповедовать Иисуса и сердцем своим веровать, то спасёшься». Прямо в душу проникает мольба в изумительно красивой 21-й кантате: «Приди, мой Иисус, утешь меня». И как бы в ответ звучит 4-я, на Пасху: «Иисус, Сын Божий, пришёл к нам!»…