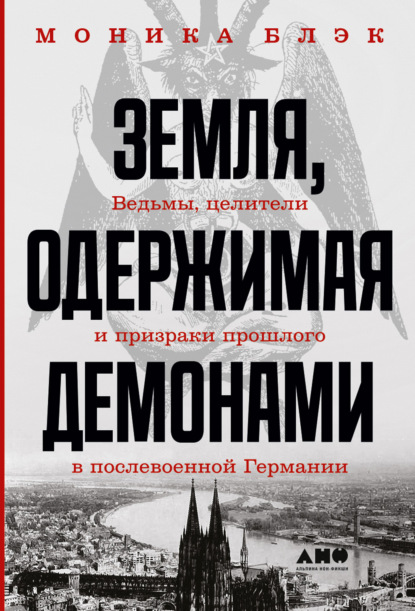Земля, одержимая демонами. Ведьмы, целители и призраки прошлого в послевоенной Германии
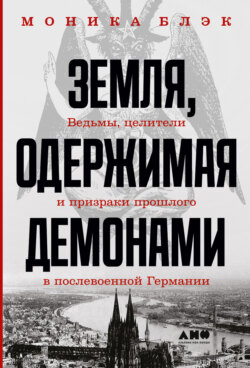
000
ОтложитьЧитал
Посвящается Никки, моей сестре
В замкнутой области дискурса о дьявольской силе тревога, месть и ненависть действительно получают полную свободу… Но самое главное, они вытесняются, скрываются… их маскируют, ими манипулируют.
Мишель де Серто. Одержимость в Лудёне
Monika Black
A DEMON-HAUNTEND LAND
Witches, Wonder Doctors, and the Ghosts of the Past in Post-WWII Germany
© Monica Black, 2020
Published by arrangement with Metropolitan Books, an imprint of Henry Holt and Company, New York
© Издание на русском языке, перевод. ООО «Альпина нон-фикшн», 2022
Введение
Фрау Н., как и вся ее семья, жила во Франконии, что в Южной Германии. Ее отец слыл браухером – человеком, наделенным целительским даром. Местные жители часто прибегали к помощи целителей, однако в сельских общинах вроде той, где росла фрау Н., отношение к ним было двойственным, даже настороженным. В конце концов, почему бы тому, кто способен прогнать болезнь с помощью магии, не уметь и наслать ее? После мучительной смерти отца фрау Н. многие соседи утвердились в подозрениях, что он якшался с темными силами, и эта тень пала на его дочь. Поговаривали также, что она держится наособицу, вечно «плывет против течения» и слишком уж тянется к «сливкам общества».
Впрочем, настоящие проблемы в жизни фрау Н. начались с приездом в деревню герра К. Он объявил себя целителем, способным устанавливать причины болезни по знакам – крошкам хлеба, крупинкам древесного угля и соломинкам, плавающим в воде. Он развернул активную деятельность, проводя магические ритуалы, утверждал, что владеет симпатической магией и управляет магнетизмом. Наконец, К. принялся распускать слухи об Н. – будто бы он видел ее в окне читающей книгу, полную заклинаний и заговоров. Значит, она служит дьяволу, объявил К., тогда как сам он – Богу.
Герр К. выпивал, почти не работал и не заботился о своей большой семье. В деревне о нем держались невысокого мнения. Тем не менее после внезапной смерти двух пожилых односельчан слухи, и без того вившиеся вокруг фрау Н., приняли скверный характер. Ее заподозрили в причастности к этим смертям. Ребенок пастора вдруг потерял аппетит? Это проделки Н. Сдохла свинья? То же самое! К. пустился пророчествовать, что дети в семье, лишившейся свиньи, тоже заболеют и станут калеками. Чтобы избегнуть злой судьбы, он велел их матери собрать мочу ребятишек – он-де обрызгает ею дом Н. для противодействия ее козням. Он также предупредил семейство, что Н. трижды явится к ним в дом, чтобы одолжить ту или иную вещь, – ни в коем случае нельзя ей ничего давать! Если скрупулезно выполнить его указания, наставлял К., Н. лишится своей власти над ними.
Семейство отвергло помощь герра К., но пребывало в большой тревоге. Ему удалось создать в деревне атмосферу давящего страха. В любой мелочи люди стали усматривать ведьмовство. Детям запретили есть все, чем бы ни угостила их фрау Н., или принимать от нее подарки. Если она приносила на свадьбу букет, его выбрасывали. Если дарила растение в горшке – выдергивали из земли и уничтожали.
Кончилось тем, что фрау Н. была вынуждена подать на К. в суд. Его признали виновным в клевете и приговорили к короткому тюремному заключению. После этого об Н. если и судачили, то шепотом, а не в открытую[1].
* * *
Впервые читая об Н. и К., я полагала – вплоть до неожиданного финала, – что эта история могла произойти в Европе в период раннего Нового времени. Как вдруг этот резкий поворот: гонимая и ошельмованная фрау Н. обращается в суд, чтобы положить конец травле. Клеветник герр К. осужден и посажен в тюрьму. Подобный исход был едва ли возможен, скажем, в XVI или XVII в., когда одного лишь доноса по поводу колдовства было достаточно, чтобы началось масштабное судебное и церковное разбирательство. Пытки подозреваемых часто оборачивались появлением новых ведьм. Как правило, эти процессы заканчивались казнями и сожжениями.
Однако история фрау Н. и герра К. случилась не в XVI или XVII в. Она произошла вскоре после Второй мировой войны в только что образованной Федеративной Республике Германия. Складывалось впечатление, что после ужасов Третьего рейха, после холокоста и самого кровавого и циничного конфликта в истории человечества на этой земле вовсю разгулялись колдуны и ведьмы – мужчины и женщины, считавшиеся воплощением и олицетворением зла. Примерно с 1947 по 1965 г. по всей стране, от католической Баварии на юге до протестантской земли Шлезвиг-Гольштейн на севере, имели место многочисленные случаи «охоты на ведьм» – как окрестили происходящее журналисты. Суды шли не только в сельской глубинке наподобие деревни, где жила фрау Н., но и в маленьких и больших городах.
Формально обвинение в колдовстве в послевоенной Германии означало то, что подозреваемым вменялись в вину тайное лиходейство и скрытая злонамеренность. Судя по всему, проблема зла владела мыслями и довлела над послевоенной жизнью многих рядовых граждан, повидавших нацизм, и вера в ведьм стала лишь одним из многих проявлений этой одержимости. В архивах я обнаружила описания случаев, когда люди утверждали, будто их одолевают бесы, и приглашали экзорцистов. Я узнала об очень популярном целителе, утверждавшем, будто он способен различать добрых и злых людей, излечивать первых и изгонять дьявола из вторых. Я держала в руках судебные и полицейские протоколы с описанием молитвенных кружков, члены которых собирались для того, чтобы бороться с демоническим проникновением. Я читала о массовых паломничествах в святые места в поисках духовного исцеления и искупления грехов. В подшивках газет сохранились кривотолки о конце света, пророчествующие погибель грешникам и спасение невинным.
Чтобы оценить, насколько способствует пониманию Западной Германии в первые годы ее существования тема колдовства и других фантастических представлений о зле, нужно взглянуть на этот вопрос с непривычного ракурса. В отличие от страхов перед ведьмами в XVI и XVII вв., в послевоенных обвинениях в колдовстве уже отсутствовал секс с дьяволом, ночные полеты на метле, левитация или способность скатиться по лестнице без единой травмы. В ведьмовских историях уже не было ни суккубов с инкубами, ни шабашей[2]. История Н. и К., как и множество ей подобных, была весьма земной и прозаической. Хотя ведьмам вменялось в вину магическое лиходейство, в основе нападок лежали банальные подозрительность, ревность и недоверие. Однако эти обвинения, ничтожные на сторонний взгляд, были убийственно серьезны – серьезны с экзистенциальной точки зрения, поскольку касались добра и зла, болезни и здоровья.
Верования в ведьм, демонов и магическое целительство не пережитки «досовременного» мира, статичного и вневременного, сохраняемого в неизменном виде от поколения к поколению. Этим верованиям соответствуют уникальные культуры и истории, меняющиеся с течением времени. Есть, однако, у них и общие черты, не зависящие от эпохи и мест, где это происходит. Например, почти каждый, кто жил в 1980-е гг. в Соединенных Штатах, вспомнит всеобщую одержимость американцев якобы существующими сатанинскими сектами, похищающими детей в ритуальных целях. Отличающаяся почти всей своей конкретикой от примеров данной книги, эта одержимость тем не менее имеет с ними нечто общее. Обвинения обычно вспыхивают в ближнем круге, у членов семьи, опекунов и соседей. В немалой степени они диктуются не только заурядным личным конфликтом, но и социокультурными неблагополучием и тревогой. Так же и выдумки о ведьмах в Германии после Второй мировой войны помогают нам понять общество, которое ими болело. Почему страх перед тайными злодеяниями, духовной порчей и возможностью вселенской кары вспыхнул именно тогда? Какие выводы можно сделать из того факта, что определенные формы зла словно бы активизировались после эпохи нацизма?
* * *
В каждом моменте времени присутствует непостижимо огромный калейдоскопический набор переменных, непредсказуемым образом влияющих на направление и характер исторического развития. В этом смысле утверждение, что каждый исторический момент неповторим, является трюизмом. Однако период непосредственно после Второй мировой был уникален в главном. Эта война до сих пор потрясает нас до немоты. Колоссальные масштабы бедствия, в которое ввергла мир нацистская Германия, не поддаются объяснению и заставляют все переосмыслить[3]. Эта война, превратившая в ничто как бытовые, обыденные формы знания, так и мудрость профессионалов, явилась антропологическим шоком – шоком для всего человечества – и поставила под сомнение общую познаваемость мира[4]. Изобретательность в разрушении и жестокости, продемонстрированная во Второй мировой войне, вынудила полностью пересмотреть представления о том, что казалось очевидным или постижимым в человеческом поведении, вдохновив социологов нескольких последующих десятилетий на исследования[5]. Сами средства, которыми велась война, – геноцид, массовое истребление гражданских лиц, масштабные перемещения населения, эскадроны смерти и лагеря смерти, медицинские эксперименты-пытки, массовые изнасилования, голод военнопленных, бомбардировки, применение атомного оружия – покончили с очевидными различиями не только между солдатами и мирными жителями, тылом и фронтом, но и между реальным и непостижимым. Кто мог бы поверить, пока нацисты их не создали, в возможность существования промышленных комплексов, разработанных с единственной целью – производство и уничтожение трупов?[6]
В начале XX в. самолеты еще не были изобретены. В те времена лишь немногие могли предвидеть, что через несколько десятков лет можно будет с воздуха сровнять с землей огромные города. Немногие были способны представить, что единственной бомбой можно уничтожить все живое в большом городе, оставив лишь призрачные следы некогда живых созданий, – или сделать людей «ни живыми, ни мертвыми», «подобием ходячих привидений», как это произошло в Хиросиме[7]. Научная фантастика стала реальностью. Немецкий философ, психолог и психиатр Карл Ясперс, противник нацизма, надеялся, что наука сможет искупить грехи после войны, после атомной бомбы и нацистских медицинских экспериментов. Однако даже он признал в 1950 г., что «положение человека на протяжении тысячелетий оставалось относительно стабильным по сравнению со стремительным движением, подхватившим человечество в настоящее время вследствие развития науки и технологий и влекущим его неведомо куда»[8].
В побежденной Германии проблема познания мира стояла особенно остро. Страна даже не вышла из войны единым государством, если под «государством» понимается суверенный субъект с собственным правительством, чиновничьим аппаратом и армией, собственной национальной экономикой, международными договорами и торговыми соглашениями. Германия больше не имела права печатать валюту и даже устанавливать уличные указатели[9]. Многие традиционные институты власти – армия, пресса, университеты, медицинские учреждения – были глубоко скомпрометированы в нравственном отношении или ликвидированы армиями союзников, оккупировавшими страну. Великобритания, Франция, Советский Союз и США разделили бывшую Германию на четыре оккупационные зоны. Британцы и американцы объединили свои зоны и создали Бизонию, это решение вступило в силу в январе 1947 г. В 1949 г., когда к ним присоединилась Франция, возникла Тризония. У территории был даже неофициальный гимн «Мы – жители Тризонии», очень популярный на праздниках, поскольку (как и немецкое правительство, и армия) гимн Германии был запрещен[10]. Союзники активно обсуждали возможность полного демонтажа промышленного оборудования страны, закрытия шахт и уничтожения тяжелой индустрии, источника ее колоссальной военной мощи[11]. Считалось, что Германии можно без опаски позволить выпускать часы, игрушки и пиво, но не пушки.
Общее чувство неопределенности висело над бывшим немецким государством – и не только потому, что его правительство было обезглавлено, мощная экономика сведена к бартеру, а управление жизнью общества почти полностью контролировалось иностранными армиями. Изменилось все то, что еще более непосредственно воздействовало на людей в их повседневном существовании. Слова и идеи, символы и формы приветствия, даже жесты, которыми немцы свободно пользовались вчера, стали запретными сегодня. Почти буквально из-под ног каждого ушла земля: летом 1945 г. союзники собрались в Потсдаме и договорились перечертить карту Европы, лишив Германию ее территорий к востоку от Одера и Нейсе. В последующем вихре событий от 12 до 14 млн немцев из разных частей Восточной Европы, в том числе из общин, существовавших со времен Средневековья, бежали или были изгнаны, иногда с большой жестокостью: люди уходили из своих городков и деревень и оставались без крова[12]. Фольклорист Вилль-Эрих Пойкерт беженцем покинул родную Силезию. После разгрома страны и опыта бегства он понял, что «рациональное и причинно-следственное мышление… уже несостоятельно» в его научной деятельности. Он задавался вопросом, чем это вызвано: возможно, тем, что «наша империя раздроблена и мы стоим, увязнув во тьме, и ничто больше не имеет значения, кроме одного – собрать урожай зерновых»[13].
Миллионы погибли. Миллионы сгинули и пропали, так и не вернувшись домой. Миллионы оставались заключенными в лагерях для военнопленных по всему миру. Миллионы лишились всего ради дела, о собственной поддержке которого, похоже, даже не помнили. «Нам вдруг пришлось признать, – вспоминал один человек, – что все, что мы совершали, зачастую с большим энтузиазмом или из чувства долга, – все это было напрасно»[14]. Разгром, оккупация и утраты лишь усугубили потребность в ответах. Что стало причиной поражения? Кто виноват?
Социальное отчуждение и дезориентация стали обостряться еще до окончания войны. В 1945 г. в отчете СД (Sicherheitsdienst, подразделение контрразведки Schutzstaffel, или СС)[15] описывались охватившие людей чувства «скорби, подавленности, ожесточения и растущей ярости», порождаемые «глубочайшим разочарованием из-за того, что доверие было оказано недостойным». Эти ощущения были особенно выраженными, отмечалось в отчете, «у тех, кому эта война не принесла ничего, кроме самопожертвования и труда»[16]. В последние месяцы боевых действий немцы сражались не только с армиями союзников на родной земле, но иногда и друг с другом. Около 300 000 или больше неевреев, жителей Германии, были казнены правящим режимом за государственную измену, дезертирство или пораженческие настроения. Решившие выйти из схватки порой оканчивали жизнь в петле с висящей на шее табличкой «Трус»[17]. Подобные акты «местного правосудия», особенно в небольших селениях и пригородах, едва ли могли быть забыты после войны, даже если негодованию трудно было найти выход[18].
Представьте, что вы живете в маленьком городке, где вашим семейным врачом после войны является тот самый доктор, который рекомендовал нацистскому государству вас стерилизовать. Подобные счеты свести невозможно; такие утраты остаются невосполнимыми[19]. Повседневную жизнь многих людей отравляли обман и предательство. Лежа ночами без сна, люди гадали, что случилось с их близкими, пропавшими во время войны. Некоторые вспоминали, как у них на глазах уводили соседей-евреев, и даже если тогда они не вполне понимали, что происходит, то поняли потом. Некоторые семьи в войну усыновили детей, сирот, как им было сказано, возможно, из Польши или Чехословакии. Однако некоторые, безусловно, спрашивали себя в мрачные моменты, кто были родители их ребенка и что с ними сталось. Во время войны люди покупали товары на сельских рынках под открытым небом, вещи, украденные у евреев, обреченных на смерть в Восточной Европе: столовые приборы, книги, пальто, мебель. Немцы ели и пили из фарфора и хрусталя, принадлежавших соседям, носили их одежду и сидели за их обеденными столами[20].
Немецкий язык славится лексической выразительностью. Schicksalsgemeinschaft[21] – этим словом в войну описывалось товарищество, предположительно объединенное общей судьбой. Сегодня историки сходятся на том, что этот термин был, в общем, изобретением нацистской пропаганды[22]. Безусловно, после 1945 г. немецкое общество демонстрировало никоим образом не единое чувство общинного и взаимного опыта, а разрушенное доверие и распад нравственных скреп. В Третьем рейхе доносительство было образом жизни. Государство поощряло граждан стучать на любого, подозреваемого в малейшей нелояльности, и отправляло многих в концентрационные лагеря, зачастую на смерть[23]. О человеке могли донести в гестапо за такую вроде бы мелочь, как прослушивание иностранного радио. Память о таком опыте и у предавшего, и у преданного не могла быстро развеяться. Александр Мичерлих, врач-психиатр, ставший впоследствии одним из самых видных и уважаемых общественных критиков Федеративной Республики Германия, описывал необъяснимый «холодок, пронизавший отношения между людьми» – «космического масштаба», сопоставимого с «глобальным изменением климата»[24]. В ходе опроса общественного мнения 1949 г. немцев спросили, можно ли доверять большинству людей. Девять из десяти ответили «нет»[25].
Очень многое из того, что мы знаем о мире, приходит к нам из вторых рук: от родителей, друзей, учителей, из СМИ; в значительной мере мы принимаем это на веру. Например, по словам историка науки Стивена Шейпина, мы можем «знать» состав ДНК, не проверив эту информацию лично. В этом смысле знание и доверие связаны. Чтобы «что-то знать», нужно доверять другим людям как коллективному свидетелю общей реальности, а также институтам, поставляющим данные, которые обусловливают повседневное существование. Общество как таковое можно уверенно описать как систему широко распространенных взглядов на то, как функционирует мир; взглядов, которые подводят фундамент под повседневную жизнь, придают ей смысл и преемственность[26]. Однако доверие не данность и не аксиома: оно исторически специфично, а значит, по-разному формируется в разных обстоятельствах[27].
В Германии после Второй мировой войны даже основные факты повседневности не всегда поддавались простому или однозначному объяснению. По крайней мере до 1948 г. преобладал черный рынок и еда часто оказывалась фальсифицированной[28]. Что это – кофе или цикорий? Мука или крахмал? Даже в простейших вопросах все было не вполне тем, чем казалось. Многие годы после войны существовали официальные документы, по-прежнему упоминавшие «Германский рейх» или составленные людьми, казалось сомневающимися, входят ли еще в «империю» части страны, отошедшие Польше[29]. Нравственная сумятица побуждала «трактовать факты так, словно это не более чем мнения»[30]. Как размышлял немецкий прозаик В. Г. Зебальд, «молчаливое соглашение, в равной мере обязательное для каждого», попросту сделало запретным обсуждение «подлинного масштаба материального и нравственного крушения, в котором оказалась страна»[31].
Некоторые основные истины были слишком токсичны, чтобы хотя бы признать их, тем более обсуждать. Философ Ханс Йонас молодым человеком бежал в 1933 г. из нацистской Германии в Палестину, где вступил в Еврейскую бригаду. Его мать осталась в Мёнхенгладбахе, родном городе семейства, в Рейнской демилитаризованной зоне. Она была убита в Аушвице. Вернувшись в 1945 г., Йонас посетил родной дом на Моцартштрассе, поговорил с новым владельцем. «Как ваша мать?» – спросил тот. Йонас ответил, что ее убили. «Убили? Кому понадобилось убивать ее? – засомневался мужчина. – Никто не поступил бы так со старушкой». «Ее убили в Аушвице», – сказал ему Йонас. «Нет, не может быть, – ответил домовладелец. – Бросьте! Нельзя же верить любому слуху!» Он обнял Йонаса: «То, что вы рассказываете об убийствах и газовых камерах, – это лишь отвратительные россказни». Затем мужчина заметил, что Йонас смотрит на красивое бюро, принадлежавшее его отцу: «Хотите его? Хотите его забрать?» Йонас был возмущен. Он ответил «нет» и быстро ушел[32].
Для некоторых людей переживания военной поры оказались настолько невыносимы, что они не могли поделиться своими мыслями и чувствами даже с единомышленниками. Романист Ганс Эрих Носсак в 1943 г. пережил бомбежку родного Гамбурга, устроенную союзниками. Позже он выяснил, что «люди, жившие вместе в одном доме и евшие за одним столом, дышали воздухом совершенно отдельных миров… Они говорили на одном языке, но то, что они подразумевали под своими словами, представляло собой совершенно разные реальности»[33]. Генрих Бёлль в романе 1953 г. «И не сказал ни единого слова…» представил героя по имени Фред Богнер, почти неспособного контактировать ни с кем из своей довоенной, досолдатской жизни. Он настолько уничтожен нищетой и неспособностью с ней справиться, что уходит из дома, где жил с женой Кете и детьми. Дни Богнер проводит за выпивкой и посещением кладбищ, находя успокоение среди мертвых и слушая заупокойные службы по людям, которых не знал. Иногда его приглашают поужинать родственники покойных, и с ними ему оказывается говорить проще, чем едва ли не с любым своим знакомым[34].
* * *
По окончании Второй мировой войны Германия лежала в руинах. Целые города были уничтожены бомбардировками и артиллерийскими обстрелами, большие пространства, где все деревья, до единого, были вырублены на топливо, превратились в пустоши, а некоторые части страны фактически исчезли. Однако более затяжным, чем физическое опустошение, и даже более тяжким, чем позор разгрома и оккупации, было нравственное крушение. Германия в 1945 г. была парией для всего мира, ответственной за невообразимые преступления. Тем не менее оккупированная Тризония в короткий срок стала Федеративной Республикой Германия, или Западной Германией. Она была интегрирована в альянс западных стран эпохи холодной войны, ее экономика не имела себе равных в Европе, а уничтоженные бомбардировками города быстро отстроились заново для процветания с точки зрения общества изобилия. История, движение которой часто мыслится очень медленным, хранит в своих анналах немного столь резких изменений к лучшему. В этой радикальной трансформации коренятся вопросы сколь глубокие, столь и тревожные.
Довольно долго ученые представляли развитие Федеративной Республики как историю успеха[35]. Они описывали ее основополагающий консерватизм, но и ее стабильность, а также учреждение конституционной республики под мудрым руководством канцлера Конрада Аденауэра. Историки делали акцент на «экономическом чуде» 1950-х и 1960-х гг. и подчеркивали сочетание полноценного капиталистического предпринимательства и мощного социального государства – «социальной рыночной экономики», обеспечившей гражданам Западной Германии почти беспрецедентный потребительский достаток. Историография подчеркивала интеграцию страны в западный мир эпохи холодной войны, повествуя о тяжелой работе по восстановлению и постепенному обретению экономической мощи и «нормализации» после бедствий войны. Этот нарратив всегда присутствует в неявном виде в описаниях послевоенных лет. «С каждым следующим годом, – отмечает один историк, – Германия становится на шажок ближе… к стабильности и предсказуемости мирной жизни»[36].
Эта история подкупает. Именно в ней многие жители Западной Германии желали находиться после войны, после травмы поражения и иностранной оккупации. В первые десятилетия существования Федеративной Республики Германия формировалось новое национальное самосознание, опиравшееся уже не на выдумки о расовом превосходстве и непобедимом военном искусстве, а на техническую подкованность, дисциплину и тяжелый труд. Этот нарратив был обнадеживающим, без сомнения, еще и потому, что его конкретность, упорядоченность и рациональность резко контрастировали с магическим мышлением Третьего рейха. Ушел мифологизированный культ вождя, мистицизм крови и почвы.
Такие национальные идеи обеспечивают единство и целостность, сглаживают противоречия. Вдумчивые критики заметили, что молодая Федеративная Республика Германия несколько напоминала фильм в жанре нуар, получившем широкую популярность в Голливуде в 1930–40-х гг., но восходившем в своей эстетике к немецкому экспрессионизму. Нуар играет с глубинными и поверхностными явлениями, тенью и светом, подчеркивая: то, что необходимо знать, не всегда исчерпывается видимостью, а глянцевая личина может скрывать нечто гораздо менее привлекательное. Под глянцем Западной Германии, совсем близко к поверхности, таилась и не давала покоя неистребимая память о войне и преступлениях, которые, собственно, и привели к созданию государства[37]. Более того, сюрреалистически резкий переход – от кровавой диктатуры к демократии, от широкомасштабного присвоения имущества и массовых убийств к «нормальной жизни» – в огромной мере обусловливался интеграцией нацистских преступников в общество. По большей части спасенные от судебного преследования, многие из них обнаружили в гуще изменившихся экономических и политических реалий новые многообещающие сферы деятельности. Во многих профессиях (от государственного управления, юриспруденции и полиции до медицины и образования) все места были заняты бывшими нацистами.
Диссонирующие противоречия этого перехода невозможно объяснить сухой статистикой безработицы и ВВП[38]. Чтобы оценить мрачные стороны первых лет Западной Германии, нужна открытость к другим реалиям. По замечанию одного ученого, литература этого периода повествует о «волшебных очках, хромых пророках, игрушках на тему войны, об играх и спорте, мощных моторах, роботах и водородных бомбах, абортах, самоубийствах, геноциде и смерти Бога»[39]. Такие явления и артефакты невозможно ровненько уложить в рядок – острые края обязательно будут торчать. Газеты того периода предлагают также противоречивые материалы: реклама хозяйственного мыла, представляющая домохозяйку с идеальной укладкой и осиной талией, в хрустящем белоснежном переднике, соседствует с заметкой о безымянных массовых захоронениях, только что обнаруженных в местном парке.
Даже самые объективные наблюдатели после Второй мировой войны поражались, сколь мало изменила немцев их недавняя история. Наиболее известным из этих толкователей была Ханна Арендт, немецкий философ еврейского происхождения, бежавшая с родины в 1933 г., но приехавшая посетить ее из своего нового дома, Соединенных Штатов, в 1949-м. Казалось, страна продолжает жить так, словно ничего особенного не произошло. Нигде больше в разоренной Европе ужас недавних лет «не ощущался и не обсуждался меньше, чем в Германии», писала Арендт. Она поведала об индифферентном населении, невозмутимо обменивавшемся почтовыми открытками с изображением уничтоженного и исчезнувшего прошлого, исторических мест и национальных богатств, снесенных бомбами с лица земли. Она задавалась вопросом, свидетельствует ли послевоенное немецкое «бессердечие» о «полубессознательном отказе предаваться скорби или врожденной неспособности чувствовать»[40]. Складывалось впечатление, что по окончании войны немцы просто смахнули с себя пыль, принялись, камень за камнем, разбирать руины и начали восстановление. Чувства и мысли (если таковые были) большинства людей о совсем недавних событиях – гибели страны в военном разгроме, оккупации иностранными армиями, собственном участии или соучастии в самых чудовищных преступлениях – оставались как будто погруженными в туман, окутанными молчанием. Если о собственных потерях в войне немцы говорили, и довольно одержимо, то другие вещи они попросту не обсуждали, по крайней мере публично: верность прежнему режиму, участие в антисемитских гонениях и грабежах, геноцид, военные преступления.
Немецкому философу Герману Люббе принадлежит знаменитое (спорное) утверждение, что молчание о нацистских преступлениях было важнейшим условием для созидания новой страны, «необходимым в социально-психологическом и политическом отношениях средством превращения нашего послевоенного населения в граждан Федеративной Республики Германия»[41]. Именно молчание позволило обществу, раздираемому сознанием, что в нем присутствуют люди всех мастей – действовавшие в поддержку нацистов, активно противостоявшие им и занимавшие промежуточные позиции, – воссоединить страну. Люди хранили молчание ради реинтеграции[42].
Звучит довольно складно. Но все было не так, утверждаю я в этой книге. Молчание о том, для чего нашелся расхожий эвфемизм «самое недавнее прошлое», было повсеместным, но далеко не абсолютным. Никто не забыл демонов, выпущенных нацизмом: о них просто не говорили или говорили чрезвычайно закодированным, ритуализированным языком[43]. Прошлое часто проскальзывало как призрак, желающий напомнить живым, что его дело на земле не закончено.
* * *
Молчание – даже неабсолютное – осложняет историкам жизнь. Наша работа в огромной мере опирается на слова, в идеале – на слова, тщательно собранные и доступные. Однако огромная часть человеческого опыта обнаруживается за рамками слов или остается незаписанной. В некоторых случаях молчание само по себе становится разновидностью доказательства. Пусть разговоры об эпохе нацизма ограничивались неявными кодами и ни особо тяжкие преступления, ни мелкие проступки не обсуждались сколько-нибудь подробно, прошлое могло просачиваться и просачивалось на поверхность в выходящих из ряда вон условиях и неожиданных формах. Даже когда жизнь как будто наладилась и стала «опрятной», как накрахмаленный белый передник, прошлое вновь и вновь пробивалось сквозь настоящее.
В конечном счете эта книга рассказывает историю общества, потерпевшего нравственный и материальный крах и затем начавшего создавать себя заново. Старые ценности, собственно и сделавшие возможным национал-социализм, стали внешне табуированными, но не исчезли. Культура – воспринимаемая здесь как комплекс идей, налагаемых группами людей на общество и формирующих глубокую структуру понимания ими устройства мира, – трансформируется медленно. Должны измениться обстоятельства, а новым идеям нужно время, чтобы устояться: тогда появятся новые способы жизни, существования и действия, новые нравы и моральные устои, даже новые методы взращивания будущих поколений[44]. По крайней мере вначале немецкая реконструкция во многих своих ипостасях осуществлялась под властным приглядом чужаков, союзников-победителей, сыгравших значительную роль в формировании дискурса и распространении новых способов мышления, не говоря уже обо всех видах управления основными повседневными процедурами. В то же время многие функционеры прежнего режима быстро вернулись на должности, дававшие власть и влияние. Старые ценности никуда не ушли. В их контексте нужно было создавать новый мир.
- Вторая мировая война
- Миф о красоте. Стереотипы против женщин
- Воля и самоконтроль: Как гены и мозг мешают нам бороться с соблазнами
- Как быть стоиком: Античная философия и современная жизнь
- Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев
- Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки
- Хлопок одной ладонью: Как неживая природа породила человеческий разум
- Невидимые женщины: Почему мы живем в мире, удобном только для мужчин. Неравноправие, основанное на данных
- Математика с дурацкими рисунками. Идеи, которые формируют нашу реальность
- Лучшее в нас: Почему насилия в мире стало меньше
- Пить или не пить? Новая наука об алкоголе и вашем здоровье
- Краткая история Европы
- Земля, одержимая демонами. Ведьмы, целители и призраки прошлого в послевоенной Германии
- Уравнение Бога. В поисках теории всего
- Форма жизни № 4: Как остаться человеком в эпоху расцвета искусственного интеллекта
- В саду чудовищ. Любовь и террор в гитлеровском Берлине
- Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной от космических орбит до квантовых полей
- Маленькая всемирная история