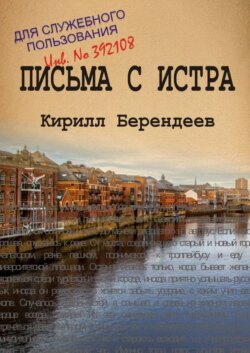Корректор Игорь Харичев
Корректор Светлана Тулина
© Кирилл Берендеев, 2018
ISBN 978-5-4490-5293-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие автора

Человек существо коллективное, как писал Грэм Грин. И в то же время всякий индивидуальность, недаром пишут, что в нем запрятана целая вселенная. Странный парадокс, но именно он движет человеком, когда тот стремится остаться наедине со всеми. И это не красивые слова, это реальность, в которой оказывался, наверное, каждый из нас. С появлением интернета таких возможностей – быть на виду и одновременно оставаться в полном одиночестве – стало куда больше. Форумы, социальные сети, группы единомышленников, разные клубы и прочие сообщества: выбирай на свой вкус. И главное достоинство всемирной паутины – обществ много, и каждый в нем может предстать, кем угодно, по собственному желанию. Прячась за маской почти полной анонимности (особо, если включить анонимайзер), можно смело говорить, соглашаться, возражать, спорить, горячо поддерживать или окатывать презрением.
Вроде бы, так и получается. Подобные сетевые сообщества похожи на собрания в реальности, вот только едва ли не каждый их участник уходить из оной не спешит. Ведь он приходит в совершенно другой мир, из которого подчас, очень трудно, да и не всегда хочется выбираться. Тем более, в том случае, когда снаружи человека окружают лишь бетонные стены квартирной коробки – и ничего более: ни реальных, а не цифровых, друзей, ни родичей, ни приятелей. Поневоле начнешь тем больше ненавидеть реальность, чем ярче, лучше, приветливей мир зазеркалья матрицы. Он манит, от него трудно отказаться, да и зачем, когда все те, кого человек знает, уже там – пускай даже это и есть друзья, соседи, близкие и родные, мужья и жены. Бывали случаи когда даже самым близким проще всего было общаться именно через социальные сети, а не лично, хотя они и живут в одной квартире или ходят в один офис или ежедневно встречаются просто по пути на работу. Реальность иногда пугает, отталкивает, с реальностью порой трудно сжиться. А убежать от нее кажется так просто.
Правда, и в сети приходится соблюдать знакомые с детства правила поведения. В тех же группах действует закон стаи – все, что говорит вожак, все, о чем думает большинство, есть непреложная истина, и всякий, кто усомнится в ней, подвергнется обструкции – и это в лучшем случае. Или будет изгнан, навеки заклеймен позором. И никогда не вернется. Разве что под другим псевдонимом, и куда более осторожный, с охотой дующий на воду и держащий нос по ветру.
Нам всем это хорошо знакомо – нам, нашим детям, нашим родителями и родителям их родителей. Через это прошли поколения, но в жизни, что реальной, что виртуальной, мало что переменилось за прошедшие века. И там, и там правят бал посредственности, серое большинство, главный признак которого – отсутствие всяких признаков: собственных мыслей, мнений, решений. Даже возможность поспорить и посоперничать в группе выдается отдельным его членам либо с разрешения свыше, либо по общему молчаливому согласию. Ох, это молчание толпы – о нем писал еще Пушкин. Толпа может безмолвствовать, но она никогда не прекращает мыслить – одна за всех. И ее мысли становятся мыслями каждого из нее. И в жизни привыкший сгибать выю и молчать по согласию человек, и в виртуальном обществе так же старается быть незаметным или, не отличаясь выдержанностью, стремится быть деятельным – в рамках дозволенного. А порой, если не получается, старается сам установить свои рамки, если к тому есть предпосылки лидера, если есть умение, возможность, да просто желание действовать самому, подмять под себя группу или создать ту, где все равны, но один, ее создатель, ее гуру – особенно.
А вы говорите, партии, фракции, сообщества, компании – в сети ровно тоже самое, но в иных, более мелких масштабах. Или в более крупных, гипертрофированных. К примеру, даже на митинге в поддержку или против чего-то требуется завести собравшихся, вернее, сперва их собрать, а потом напичкав фальшью, вперемешку с полуправдой, завести заставив орать нужные лозунги. Хотя компания собирается именно за этим, не всякий оратор ей люб, на сцене надо понимать и кого приглашать и как выступать. В сети все проще – достаточно подняться лидеру, достаточно взять слово агрессивно настроенному меньшинству, которого все устраивает в этой жизни, ну разве что кроме вот этого, этого и еще того – и прочие, повинуясь генетически заложенной программе, примут сторону, продолжат ор и хай, да так споро и ловко, что не отличишь от настоящих чувств. Больше того, многие будут думать, что это и есть их собственное мировоззрение. Ведь их личность давно растворилась в общности, и группа поглотила индивида напрочь. Ну не возвращаться же в реальность, к бетонным стенам, в самом деле.
Я немного утрирую, но только потому, что и сам прошел через подобное. Сам кричал «долой!» и «да здравствует!», сам восхищался кумирами и ниспровергал идолов. В каждом классе, верно, существует человек, который – в силу разных на то причин – является изгоем, общаться с которым табу. Был такой и в классе, где я учился, к сожалению, фамилия его выветрилась из памяти, а причина, как мне рассказывали, тоже исчезла, хотя я помню, что говорившие упирали на ее важность, а так же на тяжесть проступка изгоя. Все может быть, но я тоже сторонился его, до самого восьмого класса, покуда он не покинул нас; до сих пор удивляюсь, что не раньше. Не то хватило решимости получить заветную корочку о среднем образовании, наплевав на всех, плюющих, не то не хватило смелости уйти раньше, убедив родителей перевести его в соседнее образовательное учреждение – благо, недостатка в них в Москве, даже в те годы, не было.
Мои рассказы, собранные в «Письмах с Истра» как раз и повествуют о драме между личным и общественным, между индивидом и толпой, между гражданином и государством: все увеличиваясь, круги растут, ширятся, пока не достигают последнего своего рубежа – глобуса.
Беженцев в нашем мире становится все больше, с каждым годом. И все они разные и причины, по которым они стали таковыми, тоже различны. Да и само их несчастье, оно как у Толстого в «Анне Карениной» – свое собственное. Кто-то заперся в себе, кто-то решил покончить со всем разом, и со всеми, уйдя в свой мирок, или из любого мира вовсе, пытаясь, если в силах, свести счеты с жизнью, играя и с ней и с собой в странную игру, суть которой проста и жестока – мне не так страшен уход, как те, кто пытаются меня уйти. Кто-то бежит из города, области, страны, жаждая найти на чужбине хотя бы отражение счастья, покоя, благодати. Ну а кто-то становится философом, и такое тоже бывает.
Мои рассказы, собиравшиеся на протяжении почти двадцати лет – обо всех них. И о каждом в отдельности. Об ушедших по доброй воле или по принуждению, вынужденных бежать или остаться и молчать, кивая всякий раз, когда велит долг и общество. Обо всех, кто пытается выжить, успешно или нет, сознательно брезгуя роскошью мира или пытаясь собрать все купюры своей страны по номерам. Кто будучи на вершине, чувствует себя в космическом вакууме, или стоя у подножия исполина, испытывает те же ощущения. Обо всех, кто пытается быть иным. Отчасти и о себе тоже.
С искренним признанием,
Кирилл Берендеев

Господин «До свидания»
В лиссабонской «Портеле» я встретился с Альваро Луишем Гомешем, моим старым знакомцем, а, начиная с сегодня и до конца недели, переводчиком нашей депутации, арендовавшей в Португалии инженеров для возведения новых эстакад в Подмосковье. После кризиса специалисты резко упали в цене, чем наше начальство не преминуло воспользоваться.
Пока мы стояли в пробке на подъезде в город, Альваро неожиданно встрепенулся:
– Совсем забыл рассказать. Господин «До свидания» умер. – в ответ на мой удивленный взгляд, он немного смутился: – Ну как же, когда ты приезжал в прошлый раз, я рассказывал. Наша достопримечательность, как-никак. Хотел еще сводить показать, да он в те дни приболел немного. А вот теперь… – лицо моего знакомца отобразило искреннюю печаль, но, к сожалению, я никак не мог вспомнить, о чем он говорит. Потому, немного смущаясь, попросил рассказать поподробнее.
– Жаль, ты его так и не увидел. Удивительный человек, его звали… ах да, Жоао Мануэль Серра, но все, понятное дело, именовали не иначе как господин «До свидания». Понимаешь, какая история…
История, действительно, странная. Человек из респектабельной семьи, принадлежащей сливкам общества, он вырос, подобно орхидее, в стеклянном колпаке, взращенной нежной родительской заботой. Отец рано оставил семью, так что центр вселенной юного Жоао немедля переместился на мать. В силу своей обособленности друзей и подруг ему не надобно было, вдвоем и только вдвоем они жили, общались, путешествовали. Существовали слитно, не желая ничего иного. Пока мать не оставила его, десять лет назад, – тогда Жоао исполнилось семьдесят.
Именно в этот момент его настигло прежде неведомое, неощущаемое одиночество; ядовитым газом влилось оно в душу и заполонило всю, без остатка, тем самым сделав невозможным существование ни в семейном доме, ни в Лиссабоне, ни где бы то ни было на нашем маленьком глобусе. У него не было ни друзей, ни знакомых, ни любимой, ни детей. Ни работы, ни цели, ни смысла. Один в целом мире, он денно и нощно бродил по пустым улицам, окруженный лишь неоном фонарей да потоками железных ящиков, сердито урчащих на светофорах. Словно попал в другой мир, в котором оказался единственным человеком в цивилизации машин.
Посещали его мысли о суициде? – кто знает, наверное, как и всякого потерявшегося. И кто знает, на скольких мостах он останавливался тогда, заглядывая в мутные воды Тежу или проходя по бесконечной полосе пляжей, там, где зов океана заглушает прочие звуки и манит в свои неизведанные глубины с необоримой силой.
Но он не решился. Вместо этого отважился на другое. Однажды вечером гуляя по площади Салданья, это буквально в десяти минутах езды от вашего отеля, он решился наладить контакт с теми, кто ныне заселил хорошо знакомые улицы Лиссабона. И неожиданно для самого себя помахал рукой проезжавшему авто. Возможно, этим бы все и кончилось, но водитель легковушки приостановил бег механического коня, помахал в ответ. И улыбнулся.
И в этот момент одиночество, казалось, потопившее его душу, стало отступать. Следующим вечером Жоао снова пришел на площадь и махал уже всем подряд, получая в ответ улыбки, гудки клаксонов, приветственные крики. Город, прежде безмолвный и безнадежный, вдруг ожил, ровно по мановению волшебного жезла. Не в силах поверить свершившемуся, Жоао приходил и приходил на прежнее место и продолжал приветственно махать проезжающим; на душе его теплело, а сердце бешено стучало в ритмах зажигательной фолии.
Вскоре площадь трудно было представить без этого странного человека, лиссабонцы столь привыкли к нему, ежевечерне выходящему приветствовать железные потоки, разрезающие Салданью, что день без господина «До свиданья» уже считался несчастливым. Когда же вездесущие репортеры разузнали, кто этот удивительный старик, в элегантном пальто, с тщательно уложенными волосами и неизменными темными очками на бледном лице, – на Жоао обрушилась настоящая слава: его приглашали на радио, телевидение, брали интервью, просили дать совет, поделиться мнением. Господин «До свидания» обожал кино, и его приглашали на предпремьерные показы фильмов и потом с удовольствием выслушивали или читали рецензии. Рядом с ним постоянно крутились туристы, снимавшие каждый взмах руки на камеры, но он никогда не обижался, даже самым надоедливым, охотно позировал или снимался с любой компанией, ибо был рад любой.
А неделю назад его не стало.
– Жаль, – медленно произнес я, машина приближалась к гостинице, как раз, будто по привычке, сделав петлю до Салданьи. Железный поток на площади казался разрежен против обычного, машины проносились стремительно, водители будто боялись затормозить, чтобы оглянуться по сторонам, и не увидеть старика, к которому так привыкли за эти десять лет.
– Перед тем, как похоронить, его провезли через Салданью, и собравшиеся на площади люди махали катафалку и кричали приветственно. Знаешь, – перебивая самого себя, заметил Альваро, – что говорить, я сам, когда на душе становилось тошно, частенько ехал к сеньору ду Адеос, махал ему, он махал мне в ответ, и становилось легче. Теплее.
– Вы были знакомы? – Альваро как-то странно на меня посмотрел. Потом покачал головой. Машина вывернула с Салданьи и, стремительно набирая ход, помчалась к отелю.
– Только вот так, жестом приветствия. Да многие ездили к нему на площадь, чтобы помахать и получить взмах руки в ответ. Знаешь, я думаю, этим он спас не только себя, но и очень многих, ведь в наш суматошный век…
– Когда он уже ходил на площадь, у него много друзей появилось?
– О, да. В «Фейсбуке»…
– Альваро, я говорю о жизни. Понимаю, каждый вечер выходил на площадь, чтобы развеять тоску, но ведь кто-то у него возникнул за время десятилетнего махания всем подряд? Хотя… что я спрашиваю, если бы появился, верно бы не ходил.
– Нет, ну как ты говоришь. Сеньор ду Адеос не раз говорил, что это его вахта, его ежевечерняя обязанность, он просто не мог иначе. И всегда сожалел, что по причине слабого здоровья в последние годы пропускал порой по нескольку дней кряду, особенно зимой, когда…
Альваро замолчал неожиданно, будто остановившаяся на перекрестке машина разом оборвала ход его мыслей. И произнес едва слышно:
– Знаешь, я не подумал. Ты прав. За десять лет… Он ведь говорил, что жаждет избавиться от одиночества, что оно чуть не утопило его, да это его подлинные слова в одном из последних интервью, что эта вахта ему жизненно необходима.
– Значит, к нему никто не подошел? За десять лет – никто? – Альваро едва заметно кивнул в ответ. И подпер голову ладонью, уперевшись в подлокотник, разом ссутулившись.
– Как глупо. Как просто и как глупо, – донеслось до меня. – Ведь он жаждал этого как никто другой, он говорил об этом во всех интервью, в письмах… да где угодно. Помню, когда он приболел в последнюю зиму, его постоянно навещала девушка из муниципалитета, как же она удивилась, когда получила большую часть его немаленького состояния. Ведь она только оказывала помощь, делала уколы, массаж, готовила еду. Он разговаривал с ней, но… она не слышала старика. Никто не слышал. Как будто он изначально был памятником… Да-да, ведь мы собираемся поставить ему памятник, бронзовый господин «До свидания» по-прежнему станет махать нам рукой, как будто ничего не изменилось, как будто он сам, Жоао Мануэл Серра вернулся из небытия, ну разве что чуть изменившись. В лучшую сторону – ведь он никогда более не заговорит о своем одиночестве. И мы забудем, как забываем обо всем неприятном, что был когда-то человек, так нуждавшийся в нас, что десять лет пытался достучаться до наших сердец, бескорыстно даря нам себя и в ответ получая лишь робкую надежду на следующий вечер на Салданье, – он выдохнул и поднял голову, автомобиль как раз подруливал к стоянке отеля. И произнес чужим голосом: – Нет, не забудем. Ведь мы так и не поняли.
Машина остановилась, я открыл дверь. Альваро выбрался с трудом, смотря себе под ноги, будто разглядывая брусчатку тротуара.
– Наверное, будет еще возможность. Ты сам говорил, суматошный век… – в ответ он резко покачал головой:
– Наверное, одной возможности, растянувшейся на десять лет, было предостаточно.
Я хотел ответить, но Альваро все тем же обесцветившимся голосом напомнил о сегодняшних переговорах. И первым вошел в двери отеля.
Суходрев – Москва Киевская
– До Москвы и обратно, – получив билет и три монетки по десять рублей сдачи, я вышел на перрон. В лицо пахнуло морозцем наступающей осени; еще темно, фонари освещали только заалевший восток. Поежившись, поднял ворот пиджака, прошел к началу перрона.
Вроде и пришел рано, за полчаса, но народу уже собралось порядком – большая часть добиралась пешком, как и я, не надеясь на первый автобус. Огни появились с небольшим опозданием, ярко высветившись из-за поворота; миг, и электричка, распугав задремавших голубей, со скрежетом остановилась.
Свободные места были, и, все же, я прошел вагон, прежде, чем сесть: в том, куда заскочил, разбито стекло, да и воняло из тамбура порядком. Кому не останется выбора, придется несладко ехать час с лишним. Сел на теневую сторону и прикорнул у окна, но волнение, не дававшее спокойно поспать сегодняшнюю ночь, и ныне не отпускало. Рядом со мной, привычные к поездке в два с половиной часа в один конец, уже дремали работники контор и складов, уборщики и продавщицы, официантки и разнорабочие. Все те, кто наполнял в половину девятого вокзалы столицы, с тем, чтобы, рассосавшись в метро, начать трудовой день – от рассвета и до заката, от двенадцати до двадцати тысяч рублей. Мне предложили двадцать пять, если пройду дополнительное собеседование, верно, поэтому еще почти не спал, да и сейчас трепыхался внутренне, прокручивая в голове возможные вопросы и мои бодрые верные ответы.
– Тоже бессонница мучает? – я обернулся. Немолодой мужчина, под шестьдесят, седой как лунь, в мышиного цвета костюме и полосатой рубашке без галстука, пытался гадать кроссворд. Света в электричке почти не было, еле горевшие лампы только усиливали серую муть предрассветного часа. Бросив привычное занятие, он подыскивал недреманного собеседника. Вагон давно видел сны, мы проехали две остановки, на которых почти никто не вошел и не вышел; следующая крупная, Обнинск, еще не скоро.
– Первый раз до Москвы, – ответил я так же полушепотом, чувствуя желание выговориться и уж этим заглушить тревожные мысли, не дававшие покоя с пятничного звонка. – Устраиваюсь.
– Ну дай бог, дай бог. Небось и получать порядком будешь, не то, что у нас, в Детове.
– Я в Калуге работал, в книжном.
– Неужто в Калуге еще книги читают? – в ответ я улыбнулся.
– Нет, у нас печати-штампы. Все равно закрылись, даже поддельные никому не нужны, – это вырвалось невольно, желание рассказать о себе случайному попутчику было тем больше, чем дольше продолжался разговор. – А книги, разве что в электричке.
– Да кого ж ты здесь видишь читающим? Это для москвичей, им забава читать в поездах, – и пристально взглянув в глаза, я невольно поежился, – первый раз такую ранищу, да?
– Да. До этого в Москву ездил разве что, когда курьером работал. Два года назад, в той же Калуге.
– До Первой или Второй?
– До Второй оба раза.
– Ну это полчаса всего, впятеро меньше. А больше в Калуге работы не сыскалось, стало быть? – я кивнул. – Ну да, ну да, я вот тоже, сперва в Детове пытался устроиться, потом в Медыни, Юхнове, Алексине. А там и до Москвы семь верст киселя хлебать, – и не останавливаясь. – Ведь почему все в нерезиновую прутся? Думаешь, медом там мазано или зарплата выше? Выше, конечно, но… Вот скажи, тебе будут платить за проезд в этом поезде?
– Как жителю другой области не положено.
– Значит, три с половиной тыщи в месяц выкидываем только на это. Плюс тыща триста на метро, ведь ты им тоже будешь пользоваться.
– Все равно, куда выгодней моей прежней работы. Не уговаривайте, все прутся за деньгами, как бы далеко ни приходилось ехать.
– Да не только. Вот смотри, ты в родном Детове много знаешь печатей-штампов? Наверное, одна контора. В Калуге от силы пяток. А в столице – даже если только по ним работать, до конца жизни занятие сыщется. Потому и прутся, что выбор такой, в России-матушке не старайся, не сыщешь. Вот и весь сказ. – Я кивнул, соглашаясь. – И такой перекос никакими судьбами не выправить, всегда будет в столице надежней устроиться. А заодно, – он как-то странно на меня глянул, – можно и себя устроить. Или напротив. Это уж как получится.
– Что получится? – не понял я про судьбу.
– Да вот как со мной получилось. Я ведь этой электричкой двадцать лет с малыми перерывами езжу. Сперва на Варварке работал, потом на «Динамо», затем у Выхина. Еще где-то. А вот когда тут прямо, у самого вокзала белорусскими игрушками торговал, тогда со мною и приключилось. Семь лет назад. Я тогда уже успел бессонницу подхватить. А она на новое место устраивалась, тоже нервничала. С Калуги как раз. Цветы продавала в киоске у станции метро «Смоленская», говорила, очень хлебное место, с трудом получила. Ну это потом, когда мы с ней познакомились, – он помолчал немного, электричка остановилась у Малоярославца. Двери с шипением хлопнули, впустив трех-четырех человек. Здесь, незадолго перед нашим поездом, от станции ушел первый на Москву. Со всеми, на первопрестольную работающими.
– И вот, что странно. Мне тогда пятьдесят стукнуло, как раз девятины после дня рождения, – он даже не улыбнулся, как-то неприятно оскалил зубы, – ей же и тридцати не было. Совсем молодка. А вот…
Солнце пробилось сквозь набежавшие ниоткуда низкие тучи, ярко высветило салон. Кто-то забормотал в полузабытьи, кто-то лишь отвернулся от косых пока лучей, еще тепло-желтых, только набиравших силу.
– Дальше проще, – осмотрев дремлющих на солнечной стороне, он повернулся: – В октябре уже мы солнца в дороге не увидим. А вот летом ездить морока сущая, – он снова неприятно оскалился и замолчав враз, добавил: – На себе узнаешь. Все на себе, когда год, второй, третий в Москву гонять станешь. Жизнь сразу переменится.
– Дай бог, – произнес я невольно подумав о собеседовании. И тут же, почувствовав морозец, произнес, пытаясь переменить тему: – Вы сразу сошлись, значит, – он покачал головой. Воспоминания не то, чтобы неприятны, но задевали; вроде и говорить не хотелось, и не говорить не мог.
– Нет, конечно. Оба уже повидавшие на своем веку, она… ей тоже досталось. Она в Калуге жила, у вокзала, раз встретились в электричке, проговорили до самой Москвы, второй – наверное уже не случайно я именно в тот вагон сел и ее выискивал взглядом. Конечно, не случайно, она тоже приподнялась, когда до Суходрева электричка добралась. Обратные пути у нас разные, но в тот, второй раз, уж договорились друг друга встречать. Я пустой, она с сестрой и ее дочерью жила, так что, на час позже выезжать даже в охотку. А там и ее электричку отменили, она сказала, судьба. Через полгода ко мне переехала. Вроде бы зажили. Ведь как хорошо получалось – мы вместе и дома и большую часть пути на работу и в выходные все. Иногда нам не давали отпуска в один месяц, но выкручивались как-то. Вместе ведь.
Я улыбнулся невольно. Сам выезжал на каждые выходные и праздники в Калугу, когда еще в печатях работал. К той, что заказы в нашей конторе принимала. Люди приходили потертые, с бегающими глазками, все больше молчаливые, брали самые дешевые печати, но подушечку заказывали самую дорогую – и микротекст, и рисунок сложный, порой весь день просидишь, пока один в один сделаешь. Работали почти всегда по оттиску, а уж откуда он брался, лучше не спрашивать.
– Я сам, когда в Калуге работал… – но меня не слушали. Мужчина погрузился целиком в свои думы, казалось, он нашел лучшего собеседника, и толкует уже с ним.
– Четыре года так и прожили, как один день. Четыре года и один месяц, – он вздохнул. – А потом опять судьба вмешалась, как она говорила. Вроде поначалу хорошее показала, ей повышение оклада вышло, какие-никакие, а премии выдавать стали. У меня дела ни к черту, так она выручала. Нехорошо это, не по мне, но молчал, сам понимаешь, что портить себе счастье. Да оно само спортилось.
– Вы ее заревновали?
– К чему, вернее к кому? Она работящая и верная, да и чувствовал я, не бросит, вот где-то нутром ощущал. Оба друг за дружку цеплялись, к чему нам другие были. И она во мне утешенье находила, а уж я и подавно.
– Тогда что же? – он снова усмехнулся неприятно. И тут же сбросил улыбку с лица, как маску, разом обнажившую потерянное лицо не ушедшего от судьбы человека. Двери снова распахнулись, впуская шумную толпу – Обнинск, город мирного атома, отправлял своих резервистов.
– Расписание, вот что. Расписание у нас изменилось. Работу с игрушками я потерял, надо снова в Москву, искать, устраиваться. Тут как назло подработка одна в Малоярославце случилась. Ездить позже, а возвращаться раньше. Вот так и началось. – он видел мои недоумевающие глаза, долго молчал, не зная, что и сказать-то, но затем произнес: – Да просто все. Что у нас друг для дружки оставалось – часов семь от силы. Она возвращалась в девять, а пять уже уходила. И до нового вечера. И так каждый день, кроме воскресенья, да, в субботу она раньше возвращалась на два часа. В воскресенье, понятно, отсыпалась, не железная же, хоть и молодая. Вот и что оставалось? Встречались вечером, быстро ужинали, засыпали в обнимку, а утром я уже холодную постель щупал. Год протянули, а там… не смогли больше. Она первая это поняла, объяснила, высказала. Затем к сестре вернулась. Через полгода, может, поболее, я снова работу в Москве нашел, да только не вернулась она. Ни к чему ни себя, ни меня новым испытанием мучить. Сняла комнату в Наре, я узнавал от сестры, там и живет. Из цветов ее прогнали в кризис, нашла новую, в супермаркете. Вроде все ничего, да только одна.
– Вы уверены?
– Я видел, – тускло произнес он. – Да подойти не решился. Так и ушел.
В душном молчании поезд добрался до Нары. Вошло еще сколько смогло войти, кто-то попросил открыть окно, ему не ответили.
– Не дотерпели, – произнес я, разглядывая искоса своего собеседника. Он, давно уже не глядя в мою сторону, головой покачал.
– Не поверили. Это куда хуже. И не в разнице возрастов дело, в том, что внутри. Она потому и говорила, не прошли испытания, а я… почему-то не посмел возразить, настоять на своем. Столько раз били, вот и показалось, этот крайний. Но и крайний защитить надо, хотя бы и от нас самих, – снова та же полуулыбка. – Для меня это до сих пор как сон в электричке. Не то было, не то не было. Нет, было но… мы часто напротив сидели и улыбались, как блажные, – он умолкнул снова. Бекасово. В вагон втиснулись еще, но дальше тамбура пролезть не смогли. Нагретые солнцем клозетные миазмы поползли по салону, кто-то тяжело, устало раскашлялся, разбудив на мгновение соседей, и снова погрузился в тяжелую дремоту, длиться которой осталось минут сорок, если поезд не сбавит темпа, пытаясь нагнать расписание.
Сосед напротив зашевелился, кажется, привиделось что-то, закрылся от всего ладонью и снова погрузился в рваный, как перестук колес, сон. Мужчина поглядел на него.
– Не привык, видать, мало ездит. Ничего. Все привыкнут. Куда ж деваться. Это по первым порам непривычно вставать ранищу, в поезде рассвет и закат встречать, приходить невесть когда, наскоро завтракать на бегу или ужинать в вагоне, чтоб времени на сон побольше урвать. Как в армии, – он усмехнулся. – Тебе тоже придется.
– Дай бог, – машинально ответствовал я.
– Дай бог, что я рассказал, или вообще? Впрочем, лучше не отвечай, если что придет, тогда разберешься, – и помолчав с две остановки, добавил: – Одно только: моих ошибок не делай.
– Так и у вас тоже не все еще позади…
– Вот и я говорю, не делай, – и замолчал окончательно. Объявили Внуково, еще двадцать минут, и электричка доберется до Киевского вокзала. Я некоторое время поглядывал на собеседника, но тот не открывал глаз, делая вид, что спит или, в самом деле, задремал. Наконец, и я закрыл глаза, попытавшись отвлечься от всего шумного, нервного, тошно пахнущего. Некоторое время огненные круги не давали покоя, вынуждая постоянно вздрагивать. Наконец, объявили Москву Сортировочную. Поезд еще немного потрясся по разошедшимся стыкам, будя разоспавшихся, люди окончательно расходились, поднимаясь с мест, собирая пожитки, готовясь к выходу. Мой сосед тоже поднялся, потянувшись за сумкой, повешенной над моей головой.
И странное дело, в тот момент, когда поезд уже выбрав себе платформу, неторопливо въезжал на нее, я провалился в мгновенный сон, не оставивший после себя следа, лишь воспоминание о секундах, проведенных в забытьи.
Я вскочил, поднял упавшую на пол папку и поспешил к выходу.