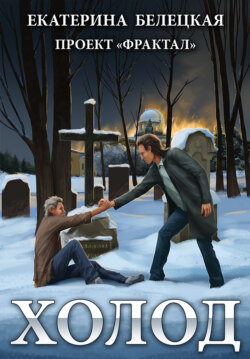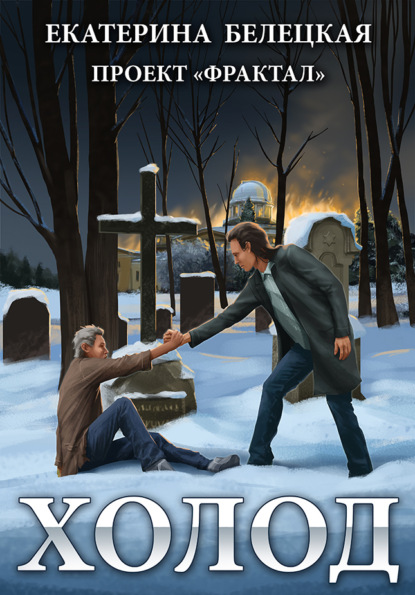Посвящается Светлане Прокопчик,
побежденной, но не сдавшейся.
Мы всегда будем помнить тебя,
Свет.
Часть I
Ирреальность
1. Лузер
Сидя в коморке, он лихорадочно рассовывал по карманам свои богатства. В правый карман кофты – засаленный шелковый мешочек с перетянутыми завязками, который достался от мамы. В левый – дыхалку, в которой на донышке плескалось немножко раствора. В верхний карман жилетки – последние очки, потому что за очки было особенно страшно, а очки сейчас могут сгоряча и кокнуть. Ашур такой, запросто у него это. В нижний карман жилетки сунул было по привычке ключ, но, подумав, вытащил, и положил на табуретку. Так, теперь шарф на шею. И как же хорошо, что ботинки без завязок, потому что сейчас он ни за что в жизни бы не справился с завязками. Теперь пальто, которое не застегивалось, и… да, пожалуй, и всё.
Кили встал, последний раз окинул взглядом коморку, и побрел в коридор. Шел он сейчас в сторону большой общей комнаты, из которой доносились голоса, и с каждым шагом шел всё медленнее. Потому что отлично слышал, о чем там говорили.
– Ворует он жратву. Вот как пить дать, всеми святыми клянусь, ворует! Вон какое брюхо нажрал, аж пальто не сходится! Все типа худой, худой, а жрет-то в три горла!..
Это Генка, точно.
Кили был готов поклясться, что именно Генка на самом деле и ворует, но Генка – человек, потому он у Ашура на хорошем счету, и, конечно, в любом споре Ашур понятно за кого выступит.
– Да, брюхо преизрядное, – согласился второй голос. Жирный, густой, маслянистый. Как раз Ашур и есть. – Ну и пошел он куда подальше. Вон, слышишь, за дверью торчит? Иди, иди, сука, разговор к тебе будет! Давай, жопой шевели!
Кили покорно вдвинулся в комнату, и остановился на пороге.
– Чё нарядился-то? – ехидно спросил Генка. – Собрался что ли куда?
– Срок прошел… – промямлил Кили. – Мне бы… карточку…
– Решил нас покинуть-кинуть? – прищурился Ашур. – За всю нашу доброту? А что ж еще на пару лет осесть не хочешь? Или мы слишком плохи для тебя?
Он, конечно, издевался. Он, Ашур, был из чистокровных. И двое его младших гермо тоже были из чистокровных. И их три жены – тоже. Такие семьи у властей на хорошем счету. Им даже прикорм-прислугу выделяют. Того же Генку, например. И Кили. И еще кое-кого. Особенно если учесть, чем эта семья занимается.
А занималась семья тем, что работала выживалами. Если кто задолжал, то долг перекупался, и оставшихся с жилой площади выживали Ашуровы гермо, их жены, и почти десяток детей – сам Ашур, ясное дело, не работал, дома сидел.
Из Кили выживалы не получилось. Слишком он был для этого совестлив, застенчив, и робок. Поэтому его держали при доме – подай, убери, принеси, сходи, отвали. В чистые комнаты, к женам, его, конечно, никто не пускал, еще не хватало. Хотя какие они чистые? Те же вши, те же полы земляные. Ну, может, подметено слегка, и занавески разноцветные. Ну и теплее там. А так – тот же клоповник, как и всё Ашурово жилище.
– Не плохи, нет… – забормотал Кили. – Это я плох… Ашур, я правда еду не тащил! А живот – он у меня болит, не знаю, как это так вышло…
– Когда живот болит, он не растет, – наставительно сообщил Ашур. – Живот растет или от детей, или от жратвы. Ты не баба, детей у тебя нет. Значит, жрешь. Так… давай, двигай отсюда. И поживее. А то у меня гости придут, а ты тут ошиваешься не по закону. Пошел вон!
– Можно карточку мне… – начал Кили, но Ашур его тут же перебил:
– Хера тебе, а не карточку! Вон пошел, сказал! Карточка нам самим пригодится!.. Обойдешься, зажраха! Ворюха! Вали, чтобы духу твоего тут не видел! Гена, а ну дай ему по брюху палкой, авось жратва наша вернется из этой жирности!..
Повторять Ашуру не пришлось – Кили как ветром сдуло из большой комнаты. Он опрометью рванул к двери, слыша за спиной смех Генки; уже на выходе мимо его уха просвистело полено, одно из тех, которым топили плоскую печь, лучшую часть которой занимал, разумеется, Ашур.
– Чего пригибаешься? – Генка уже ржал в голос. – Ишь, забегал, как таракан по плите!.. Вали, вали, сказали! Паааскуда!
Кили дернулся вправо, потом влево – без очков, в полутьме он не сразу нашел дверь – выскочил наружу, и кинулся прочь.
* * *
Вот так он и знал, что так получится. Вот так и знал! Конечно, не привыкать ему было к невезеньям и несчастьям, но сейчас Кили понимал, что теперь – точно конец. Пропал. Совсем пропал. Ладно бы просто выгнали, но карточка…
Карточка – это было всё.
Это была месячная норма еды, на которой можно хоть как-то продержаться, пусть и полуголодным. Это была возможность ночевать под крышей, в относительном тепле – после сорока пяти лет незанятым полукровкам разрешалось приходить в приют. Это был шанс разжиться одеждой, старой, драной, но лучше драная, чем вообще никакой. Это была возможность попасть приживалой-прислугой в следующую семью, если такая отыщется. Это была возможность дотянуть до лета, до тепла. Как говорили раньше – дотянешь до тепла, всё и образуется.
Ничего не образуется теперь.
Пропала карточка.
А всё из-за еды. Точно из-за еды, потому что Ашуровы отпрыски постоянно жрать хотят, да и Генка тырит всё, что плохо лежит. Их вообще много, и еды вечно не хватает, а по его карточке они и пять кило крупы получат, и рыбные консервы, и пол литра масла, и желтых шкаликов три штуки… сволочи, вот же сволочи, думал Кили, бредя по улице. Убили ведь меня за три шкалика, мерзавцы. За водку убили.
На улице было холодно, но сейчас утро, и днем – Кили это точно знал – должно немного распогодиться, так что до вечера он нормально дотянет. Вопрос – что ночью делать? Куда податься? Вечером захолодает. А замерз он уже сейчас. Как же хочется согреться, ведь пальто на этом чертовом животе не застегнешь теперь, поэтому под пальто задувает северный ветер, и вытягивает из тощего тела остатки тепла.
С животом вообще получилось странно и скверно. Кили считал, что он сам виноват, и считал небезосновательно. Да, сам виноват, а еще Генка, сученыш, виноват, потому что именно Генка поволок его тогда подбухнуть в какую-ту свою компанию, а он, Кили, дурак, нет бы отказался – взял и пошел. Богатая оказалась компания, напились они там до беспамятства, и если бы только напились! Кто-то предложил подколоться, ну и… и Кили решил попробовать. Никогда за свои без малого пятьдесят лет не пробовал, а тут пробрало. Жизнь кончается, а он и не знает до сих пор, как это.
Это оказалось никак, он ничего не запомнил. А вот живот заболел уже буквально на следующий день. И мало что заболел, так еще и расти начал, как на дрожжах. И кожа скоро стала меняться. Раньше была нормальная, а превратилась в какую-то желтушную, как старая бумага. Даже белки глаз пожелтели слегка – Кили всегда пугался, когда ловил своё отражение в старом зеркале, висящем в простенке в коридоре. Иссохшее желтое лицо, запавшие глаза, превратившиеся в нитку губы – и огромный, непомерный живот, по сравнению с которым тощие ноги выглядят нелепо и комично.
Живот болел. С каждым днем всё сильнее. А еще Кили последний месяц постоянно тошнило. Даже если не ел ничего, всё равно тошнило – тягучей, омерзительной желчью. Какое там воровство еды!.. Уже две недели Кили перебивался с воды на сухарики, которые в свое время припас, никакая другая еда у него просто не шла, выворачивало наизнанку.
Отравили, наверное, думал вечерами Кили, сидя в своей коморке после очередного приступа рвоты. Что-то там было, в этом уколе, и я отравился. Это яд на меня так действует. Это от яда у меня так раздуло живот. Наверное, этот яд как-то подействовал на кишки, и они стали разрастаться.
Про смерть, однако, он не думал – по крайней мере, старался не думать. Он думал о другом: как бы продать кому-то запасной жилет и почти целые перчатки, и добраться до врача втихую от Ашура и его семейства. Врач в районе был ничего, нормальный. Драл, правда, втридорога, но зато помог получить по квоте очки. Те самые, которые Кили нацепил сейчас на нос. Хорошие очки, слабоватые, правда, но в них он хоть что-то видел, а вот без очков была полная беда. По сути, Кили, равно как и его основной отец, и мама, был полуслепым. Один глаз – минус семь с половиной, другой – минус восемь. Семейное, говорила мама. Это у нас семейное. Зато мы в близь видим хорошо. Кто-то видит вдаль, а мы в близь. Очки, которые сейчас носил Кили, были минус шесть. В них он тоже видел плохо, но хотя бы не настолько плохо, как без них. Например, в очках можно было разглядеть указатели, и не забрести в чистый человеческий квартал. Потому что, если туда забредешь, сработает следилка, тут же, откуда ни возьмись, объявится полиция. Словно специально сидит и караулит за углом. А если объявится, то точно – всё. Это будет совсем всё, у них крюки есть, и они не будут разбираться, чей ты, и есть ли у тебя карточка.
По слухам, полиция за неделю двоих-троих, да вылавливает. Крючок под челюсть, и пиши, пропало. Это у них прием такой, чтоб наверняка. Ломают шею сразу, рывком, если не доломали – ногой придержат, и доламывают.
Хорошо, что указатели большие, красные, да еще и подсвеченные – не перепутаешь. Вон, кстати, один торчит – значит, лучше повернуть в переулок на другой стороне дороги, а то, неровен час, «водолазы» вылезут. Ну их к шуту. «Водолазов» Кили боялся с детства. У него для того было много причин.
* * *
«Водолазы» – так называли регулярную полицию. Называли из-за шлемов с откидным стеклом, и костюмов, сверху покрытых броней с множеством сочленений. Как хитиновый панцирь у тараканов, думал Кили. Тараканов он боялся до омерзения, и это была ужасная беда, потому что тараканы были почти везде, потому что они и есть везде, где тепло и грязно.
А грязно тоже было везде.
Кили и забыл уже почти, что бывает – чисто. Нет, он помнил, что, когда они семьей, с мамой и отцами, жили в Москве, там было чисто. Квартиру помнил, не очень большую, но опрятную и милую, маму помнил, отцов помнил, которые и в нем, и в маме души не чаяли; какую-то тихую гордость даже помнил, потому что семья его и в самом деле была хорошая, умная, достойная, дружная. Только вот была она недолго – московское житье закончилось для Кили, когда ему стукнуло девять. Сорок лет назад это было. Поэтому если Кили что и помнил, то весьма и весьма смутно. Скорее ощущения, чем полноценные воспоминания. Обрывки и кусочки.
…Сначала старшего отца забрали – он был чистой крови, и младший отец с мамой всё никак не могли понять, почему так вышло. Потом младшего отца увезли – и неделю, или больше, мама и Кили сидели, что называется, на чемоданах, ждали, когда и за ними придут. Пришли. Еще бы не пришли! Но странно как-то пришли. Разрешили вещи взять, пару сумок; одеться разрешили в зимнее. Хорошо, что кошку мама успела отнести соседям, уговорила, чтобы оставили – все деньги, как потом выяснилось, она отдала, чтобы сохранили жизнь соседи их любимой черной Басеньке, все, до последней копейки… им самим мама ничего не оставила. И зря. Потому что тем, у кого деньги были, пришлось пусть и немного, но всё же лучше. А они…
Сперва им зачем-то обрили головы, а потом трое суток они сидели в холодном бараке, по крыше которого колотил осенний затяжной дождь, и ждали. Чего ждали – не знали сами. Те, у кого деньги были, ждали не в бараках, а в гостиницах. В переполненных, но это было всё же лучше, чем барак.
Как выяснилось, ждали они эшелона, отправки, и тут Кили с мамой повезло: не смотря на отсутствие денег. Потому что Кили не было десяти, а женщин с детьми сажали не в теплушки, а в старые плацкартные вагоны. Ну, как сажали. На мать с ребенком полагалась одна полка, и им снова повезло, потому что полка досталась нижняя. И не боковая. Весь вагон был забит такими же бритыми, ничего не понимающими женщинами и плачущими детьми. И только в вагоне прозвучало впервые слово «эпидемия». Эпидемия, эпидемия, перешептывались женщины, знаете, знаете… никто ничего не знал. Но два раза в сутки по вагону проходили «водолазы», проверяли всем головы, бесцеремонно вытаскивая в узкий коридор тех, кто вызывал хоть малейшее сомнение.
На второй день стало понятно, что именно они ищут – и в вагоне началась настоящая паника, потому что искали «водолазы», как выяснилось, крошечное, вроде бы неприметное пятнышко светло-коричневого цвета на темени. А если находили…
Первого зараженного обнаружили на третьи сутки, и тогда стало понятно, почему состав, считай, почти не двигается. «Водолазы» ждали, когда эпидемия станет проявляться. Обнаруженным стал мальчик немногим младше самого Кили, и сцена, которая разыгралась в вагоне, до сих пор стояла у него перед глазами – потому что такое забыть невозможно. Мать орала, рыдала, цеплялась за своего ребенка, а его буквально выдирали из ее рук «водолазы». И выдрали. И ударом приклада сшибли мать, отбрасывая с дороги. И вышвырнули мальчишку из вагона. И тут же захлопнули дверь.
А поезд остался стоять…
Этот мальчик (Кили видел его из окна) сначала бродил подле вагона, стучался в дверь, пытался что-то кричать. Это продолжалось почти час – начало темнеть, пошел снег, сначала редкий, слабый, но постепенно снегопад стал усиливаться. Кили, сидя в теплом вагоне рядом с мамой, украдкой смотрел в окно. На этого мальчика.
И увидел. Увидел то, что потом видел множество раз, но первый раз, он самый острый, так всегда бывает, со всеми, или почти со всеми.
Мальчик, до этого вроде бы совершенно нормальный, вдруг упал в снег – черная фигурка на белом фоне насыпи. Упал, и начал странно двигать ногами, словно пытался бежать лёжа. Или ехать на велосипеде – много позже Кили узнал, что «водолазы» эту последнюю судорогу так и называют, «велосипед». Он дергался так довольно долго, потом вдруг взметнулся над насыпью, словно хотел последним усилием перевернуться на грудь, и перевернулся, и упал, и затих – теперь уж навсегда. Он упал совсем близко от их окна, и Кили в еще не наступившей темноте вдруг заметил, что на бритой макушке мальчика происходит какое-то движение. Слабое, размеренное – словно из головы что-то толкалось наружу. От ужаса язык у него тогда словно прилип к гортани, и он, онемев, продолжал смотреть, как кожа на голове мальчика лопается, а из макушки выдвигается что-то, омерзительное, блестящее, склизкое… Это что-то выдвигалось, выдвигалось, и через какое-то время стало казаться, что из головы мальчика торчит длинная острая палка с утолщением на конце.
Не он один, конечно, смотрел на это – когда Кили словно очнулся, в вагоне кричали. Кричали женщины – но если раньше они кричали от негодования, то теперь они вопили от ужаса. Кого-то уже тащили в коридор, кому-то ощупывали макушку, кто-то вопил «мама, я об полку ударился, мама, не надо, мама!». Кили тогда забился в самый дальний угол их с мамой полки, а мама закрыла его собой, обняла, и так, обнявшись, они сидели, кажется, бесконечно…
Потом поезд еще несколько дней тащился по снежной равнине, останавливаясь на каждом пустом перегоне – и вокруг торчали из-под снега такие же палки. Длинные, почти в руку, с утолщениями на концах.
Их поезд был не первым.
Отнюдь не первым.
Но когда тебе девять лет, ты мало задаешься подобными вопросами.
* * *
Человеческая часть города осталась позади, сейчас Кили брел по той части, в которой прожил всю сознательную жизнь – в этой части жили и чистокровные, и такие, как он сам. Люди тоже тут встречались, но мало. В основном они приезжали сюда либо по делам, либо по работе. Или для развлечений, весьма специфических, в человеческой части города недоступных.
Холодно, думал Кили, бредя по улице. Холодно, холодно, холодно. Наконец, не выдержав, он приметил, что в одном из бараков, больших, общих, приоткрыта дверь. Эх, была, ни была! Озираясь, Кили добрел до барака, и проскользнул внутрь. Там, о чудо, тоже никого не было, зато в обшарпанном подъезде обнаружилась горячая батарея, когда-то покрашенная в зеленый цвет, облупившаяся и грязная – Кили тут же прижал к ней иззябшие ладони и долго стоял, наслаждаясь теплом, растекавшимся по телу. Слегка отогревшись, он пошарил за батареей, и нашел то, что рассчитывал найти: забычкованную сигарету. Спички, конечно, у него имелись свои. Закурил, и даже зажмурился от удовольствия. Сигарета была свежая, не лежалая, дым пах приятно… жалко только, что совсем короткая сигарета, но ничего, лучше так, чем никак. Тем более что курение притупляет чувство голода, да и тошнит поменьше, если покуришь. Кили стоял, прижавшись спиной к теплой батарее, и вспоминал – всё равно делать ему было совершенно нечего.
…Когда их с мамой привезли сюда, в Дно, их отправили тоже в барак – впрочем, за всю свою последующую жизнь Кили видел либо бараки, либо прислужьи каморки, типа той, в которой прожил последние два года. Тот барак, в который они тогда попали, был поделен на комнаты, по двадцать душ в каждой, и в нем было относительно тепло. Именно что относительно – печки стояли через комнату, и в комнате, где оказался Кили с матерью, печки не было. Двери постоянно держали открытыми, а если кто закрывал, доходило и до драк, потому что если дверь закрыть, то замерзнут все.
Первый месяц им запрещалось выходить на улицу, и месяц этот запомнился Кили, как месяц страха и томительного ожидания – что же дальше? Он маялся, другие маялись… только мама не маялась. Мама вязала. Как она сумела прихватить из дома несколько мотков красной шерсти, Кили так и не понял, но мама сидела, и вязала – когда у нее не было работы по бараку или по кухне.
Она вязала шарфы, один, большой, связала для Кили, другой, поменьше, для себя.
– А зачем такой длинный, мам? – удивился тогда Кили.
– Затем, что ты вырастешь, и будет в самый раз, – заверила мама. – Вот, смотри. Видишь? Собачки и кошки. Пришлось мою шапку чуть-чуть распустить…
Собачками мама называла вышивку, которая в семьях, подобных их семье, была очень распространенной в те годы. Два стежка вперед, два назад и чуть вверх – острая собачья мордочка. И два стежка покороче – ушки. Вот и вся собачка. Еще мама вышивала кошек – ромбик из четырех стежков, и ушки – тоже четыре коротких стежка. Так она и вышила шарф: кошка, собачка, кошка, собачка. Красный шарф с белой каемкой из стилизованных мордочек, которые за мордочки может принять только тот, кто знает, что это мордочки.
Потом, наконец, их выпустили, и даже дали жилье.
Кили с мамой достался угол в комнате, еще худшей, чем в бараке. Комната оказалась ледяной по зимам, и сырой летом. А у мамы оказались слишком слабые легкие.
Она умерла через два года, когда Кили исполнилось одиннадцать.
* * *
От теплой батареи его, конечно, прогнали – в том, что прогонят, Кили и не сомневался. Кое-как запахивая пальто, упорно не желавшее сходиться на животе, он вышел из подъезда, и побрел, куда глаза глядят. Ладно, хоть отогрелся, и то дело. Поесть бы что-то, хоть немножко. Вот если бы карточка… Кили горько вздохнул. Может, попробовать в социалку зайти? Может, хоть хлеба кусок дадут?
До социалки пришлось тащиться полчаса, не меньше. Кили там немного знали, поэтому, не смотря на отсутствие карточки, оделили двумя кусками хлеба и стаканом тепловатого жидкого чая. Оделяла, конечно, баб Нюра, человечиха, но добрая и сострадательная.
– Чего, выперли? – догадалась она, глядя, как Кили спешно пьет чай.
– Ага, – кивнул Кили. – Совсем.
– И карту зажали, – догадалась баб Нюра.
– Точно, – согласился Кили.
– Вот Ашур сученыш, – протянул баб Нюра. – Как припрутся, самого тухляка им наложу. Килька, ты давай, быстро жри, а то придет еще кто…
Кили понимающе закивал. Давясь, проглотил хлеб, второй кусок сунул в карман, потом залпом допил чай.
– На ночь куда? – спросила баб Нюра.
– Не знаю, – пожал плечами Кили.
– Под мост не ходи, – понизив голос, произнесла баб Нюра. Зыркнула глазами туда-сюда. – Тама трубы теплые, но ты не ходи!
– Почему? – спросил Кили.
– Потому что «водолазы» тама, – объяснила баб Нюра. – Закрючат тебя, и вся недолга.
– Ясно, – кивнул Кили.
Плохо. Про мост он думал. Именно про мост он и думал – потому что там действительно проходили какие-то коммуникации, неподалеку была котельная, и под мостом точно можно было бы переждать ночь.
– По знакомым пройдись, может, пустит кто, – посоветовала баб Нюра.
– Попробую, – убито кивнул Кили.
Не было у него никаких знакомых.
И быть не могло.
…Когда Кили ушел, баб Нюра села за ближайший стол и пригорюнилась. Из подсобки высунулся ее стародавний помощник, повар Геша, и поинтересовался:
– Килька, что ль?
– Он самай, – вздохнула баб Нюра. – Кажись, всё Килька наш. Жалко…
– Погодь. А сколько ему? – Геша нахмурился.
– Полтинник уже, вроде, – баб Нюра задумалась. – Прямо он чего-то совсем сдал. И кишки, видать, загнили, видал, живот какой?
– Не особо смотрел, тут их столько ходит, что не усмотришь. Полтинник? Так это еще много пожил, тю. Это ж он до сорока пяти отработал, считай, да потом приживалом мотался. Долго. Значит, срок ему.
– Сказала, чтобы под мост не ходил.
– Ну и дура, – фыркнул Геша. – Там хоть быстро они их. Всё лучше, чем замерзнуть.
– Может, знакомые пустят?..
– Нюр, окстись, а? – Геша рассердился. – Не бывает у них знакомых! Сама знаешь, как их за знакомства дрючат! Если до таких лет дотянул, то умный, а умные не знакомятся, так, только знаются, и всё. И вообще, чего жопу развесила? Пошли котлы мыть, скоро закладку делать, а она сидит, тут, понимаешь, царевна-несмеяна! Иди, иди, хватит жалость давить.
– Ну так живые же, – баб Нюра встала, зевнула. – Ай, ладно. Не он первый, не он последний…
* * *
Следующий шаг, который Кили решился предпринять, был шагом отчаяния – он отправился к Центру, чтобы рассказать про то, что у него отняли карточку, и попросить новую. По медальону, который он Ашуру не отдал, сохранил. РДИЦ, расчетный документооборотный информационный центр, находился в сорока минутах ходьбы, но для Кили эти сорок минут превратились в полтора часа, ходец из него был хуже, чем средний. Кили не шел, он семенил меленькими шажками, потому что проклятый живот снова начал разрываться от боли, а потом пришла и стародавняя спутница боли – рвота. Кили едва успел убраться с дороги в какой-то дворе, и пристроиться за мусорными ящиками. Рвало его долго, и, когда, наконец, отпустило, он понял с ужасом, что обессилел совершенно. Сердце колотилось, как бешенное, по лицу ручьями струился пот, в глазах двоилось. Кили долго сидел на снегу, приходя в себя, потом принялся приводить в порядок то, что испачкалось – кое-как оттер снегом одежду, лицо, руки. Захотелось пить, он пожевал немного снега. Вроде бы получше.
Знакомые, думал Кили.
Какие знакомые, какие друзья. А то он не знает, что бывало, когда кто-то еще осмеливался… хоть как-то…
…После смерти матери он снова оказался в бараке, но в этот раз барак был детдомовский, и таких, как Кили, в этом детдоме было больше трех сотен. Оборванных, грязных – грязь уже тогда превратилась в постоянную спутницу – никому не нужных. Учили их кое-как, через пень-колоду, по большей части производству и подсобным работам. Всё учение, собственно, и сводилось к работе, сначала полегче, потом потруднее. Они перебирали овощи на местной овощебазе, под сезон, их возили мыть цеха на два завода, стоявших на границе города, иногда их отправляли на лесопилку, паковать в бесчисленные мешки стружку и кору, изредка их, самых отличившихся, даже отвозили на вокзал, мыть туалеты. Вокзал и цеха все обожали, а овощебазу и лесопилку ненавидели. Самой хорошей считалась весенняя работа в человеческой части города, на посадке цветов в клумбы, но на такую работу брали только девочек постарше, а середняку, да еще и нечистокровному, как Кили, про цветы нечего было даже и думать.
В детдоме не разрешалось ничего, и строжайше каралось всё, что попадало в поле зрения воспитателей.
И в первую очередь каралась дружба.
После трёх порок Кили перестал пытаться сдружиться с кем-то, тем более, что его потенциального друга тоже выпороли, причем так, что он трое суток отлеживался. Кили тогда еще меньше досталось, ему повезло, что инициатором будущей дружбы был не он, а его приятель по классу.
Когда Кили стал старше, он узнал, что карается не только дружба. Любовь каралась еще более жестоко – на его глазах воспитатели забили насмерть во дворе сразу двоих. Парня из старшей группы, и гермо на группу младше. За то, что те, по слухам, сошлись, и даже хотели бежать. Ну и убежали, оба. На тот свет.
К выпуску Кили усвоил этот главный урок, и потом всю жизнь держал со всеми эту вечную дистанцию. «Дистанцию вытянутой руки», как ее называли.
Хотелось ли ему дружить, любить?
Дурацкий вопрос. Конечно, хотелось. По молодым годам он еще имел силы и желание мечтать – и мечтал. А кто не мечтал? Молодое тело, гормоны, желания – всё это действовало на него ровно так же, как и на всех других… но Кили был слишком умен, чтобы не осознавать в полной мере смертельную опасность, исходящую от подобных желаний.
Жить ему всё-таки хотелось больше.
* * *
Того, что произошло, он не ожидал.
То есть ожидал, но не столь быстро.
Он кое-как всё-таки добрался до РДИЦа, но на входе, прямо на входе в РДИЦ стоял «водолаз». При полном параде. В шлеме, в панцире, с оружием.
Кили замер на пороге – там, внутри, было тепло, и он даже видел край очереди, сидевшей к двери в первый кабинет. Он, что греха таить, рассчитывал час-другой еще и погреться в очереди, и «водолаз» на входе для него стал полной неожиданностью. С каких это пор они стали охранять РДИЦ? От кого? От таких, как Кили?
«Водолаз» сделал шаг вперед – Кили тут же сделал шаг назад. И еще один, совсем маленький шажок. Взгляд «водолаза» из-под каски буравил его, как осиное жало.
– Чего тебе? – глухо спросил «водолаз».
– Я… мне карточку вернуть… – пробормотал Кили, вытаскивая медальон с номером. – У меня карточку украли…
– Да ну, – протянул «водолаз». – И кто у тебя ее украл?
– Хозяин бывший, – ответил Кили. И снова отступил назад, к самой двери.
– Хозяин бывший, значит, – процедил «водолаз». – Сдается мне, ты гонишь. Давай я тебе те расскажу, чего ты сделал. Ты, сука жирная, проиграл карточку, да? А сюда приперся, чтобы норму вернуть. Потому что жрать ты привык в три глотки. Вон, пальто не застегивается.
– Я не играю… – начал Кили, но «водолаз» в этот момент вытащил из петли дубинку и Кили тут же оказался за дверью.
– Чтоб я тебя тут больше не видел, – рявкнул «водолаз». – Иди к хозяину, падаль, и извинись! На хозяина он накатывает! Пшел вон, кому сказал!
Уговаривать Кили не пришлось. Хорошо еще, что «водолаз» не поперся следом за ним на холодную улицу.
…После школы его по распределению отправили сначала на сборку паллет, и на паллетах он проработал два года. Но не потянул – слабоват оказался, чтобы таскать постоянно неподъемные деревяхи. Поэтому с паллет его перевели сначала на ненавистную лесопилку, а потом, к двадцати годам, он попал на ящики. Это был хороший цех, ящики в нем делали разные, от простых, под гайки или гвозди, до сложных – для химической посуды. Первые пятнадцать лет Кили провел «на деревяшках», а потом его, как отлично справляющегося, перевели на пресс, на пластик. Причем не только на сам пресс, но еще и на химию – то есть на пластиковый замес. Не самое полезное производство, но зато тепло, да и «химики», как называли его бригаду, были на хорошем счету. Им даже давали летнюю неделю, что-то типа отпуска, и разрешали ходить в город и на реку. На реку ходили только по теплу, конечно – хоть как-то помыться. Потому что с мытьем всегда был швах. Зимой один раз в месяц водили в общую душевую, летом в душевой горячей воды не было, поэтому оставался один выход. Река. Самый праздник получался, если удавалось достать мыло, правда, этот праздник случался нечасто.
Жизнь… Кили брел по ледяной улице, и думал. А ведь это всё и была его жизнь, на самом-то деле. Далекое, забытое детство, детдом, работа. И одиночество. Иногда им крутили какое-нибудь кино, но оно было сплошь патриотическое, про войны, про бои, про победы. Ни дружбы там не было, ни любви. Соратничество было, но не больше. Изредка удавалось достать тайком книжку – чтение не приветствовалось, ясное дело – и только в книжках он находил порой то, чего в жизни не было. И быть не могло.
Нет, он не думал, что жизнь может быть иной.
Он не мечтал о чем-то другом.
Конечно, иногда, особенно по молодым годам, он ощущал какие-то смутные душевные движения, но потом, отчасти благодаря изнуряющей тяжелой работе, отчасти возрасту, и отчасти постоянному страху, эти движения сошли постепенно на нет, и исчезли практически полностью.
Жизнь, если вдуматься, состояла в то время из распорядка и привычек. Ранний подъем, наскоро умыться заранее заготовленной водой из бутылки, поскрести голову старой бритвой (головы они все брили, потом он год привыкал, что можно не брить каждый день), и на построение. Завтрак в общей столовке, и строем в цех. Днем чаще всего давали перекус – чай, хлеб, сахар. Иногда выдавали даже «паштет» – мясопереработку. Если не думать, из чего ее делают, вполне можно есть, кстати. После работы – ужин, примерно такой же, как завтрак, и свободное время. Полтора часа. А потом спать.
Это было хорошее время, думал Кили.
Я был сытым. У меня не болел живот. У меня была кровать, причем не у двери, и даже тумбочка была, в которой я хранил вещи. А еще вечера все были свободными, и было место, куда я прятал книги, и даже в город можно было ходить, когда оставались силы на поход. Правда, последние пять лет в химии он начал кашлять, но там все кашляли… вот только он никак не мог предположить, что продлиться на работе не удастся, и что его, не смотря на хороший счет, спишут вчистую в сорок пять.
* * *
Клубешник Кили нашел, когда уже совсем стемнело – зимой темнеет рано – и почти час он ходил рядом, не решаясь зайти внутрь.
Страшно.
Там, внутри, были и люди тоже.
И именно люди ему и были нужны.
Никогда, никогда в жизни он не думал, что дойдет до такого – но, если хоть кто-то клюнет, это будет шанс заработать. Хоть что-то заработать. А если удастся что-то заработать, то можно попробовать подкупить «водолаза» на входе в РДИЦ, и попытаться вернуть карточку.
Кили не мог вспомнить, в какой момент ему в голову пришла такая схема – потому что при других обстоятельствах схема показалась бы ему чистой воды безумием. Но сейчас у него начинался жар, а сами Кили был уже не в состоянии понять, что от этого жара у него сбиваются мысли и что думает он полнейшую чепуху.
Надо зайти внутрь. Надо притвориться… да. Надо притвориться проституткой, среди настоящих средних такие существуют. Надо подцепить кого-то, кто по средним, и…