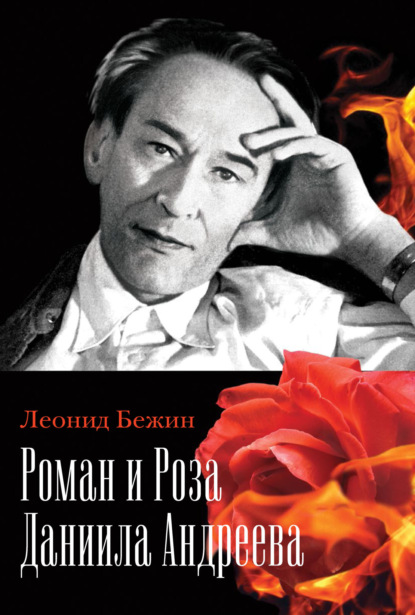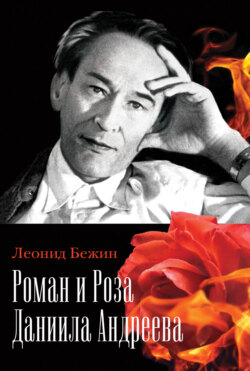
000
ОтложитьЧитал
Глава 3
Дом в Большом Власьевском. Рыцарь
Но сначала откроем томик воспоминаний Бориса Зайцева[22] на той странице, где рассказывается о первой встрече с Бердяевым в Петербурге: «Бердяев был щеголеват, носил галстуки бабочкой, веселых цветов, говорил много, пылко, в нем сразу чувствовался южанин – это не наш орловский или калужский человек. (И в речи был юг: проблэма, сэрдце, станьция.) В общем, облик выдающийся. Бурный и вечно кипящий». Далее тонкий, проницательный, слегка ироничный Зайцев продолжает: «Лента развертывается. И вот Бердяевы уже в Москве. В нашей Москве и оседают. Даже оказываются близкими нашими соседями. Из тех двух комнат, что снимаем мы на Сивцевом Вражке в большой квартире сестры моей жены, виден через забор дворик дома Бердяевых, а жил некогда тут Герцен, – все это недалеко от Арбата, место Москвы дворянско-литературно-художественной».
И еще важные для нас подробности: «Теперь Бердяевы занимают нижний этаж дома герценовского, Николай Александрович пишет свои философии, устраивает собрания, чтения, кипятится, спорит, помахивая темными кудрями, картинно закидывает их назад, иногда заразительно и весело хохочет (смех у него был приятный, веселый и простодушный, даже нечто детское появлялось на этом бурном лице)».
Итак, нарисован портрет и указан адрес – Сивцев Вражек, герценовская Москва. Туда я и отправился в конце мая, одним из первых жарких, солнечных, с дрожащим маревом зноя дней. Началось мое путешествие на Гоголевском бульваре. У памятника великому писателю распустились удивительные тюльпаны, белые, лиловые, темно-фиолетовые: невольно ахнешь и залюбуешься! Свечки цветущих каштанов обморочно млели под солнцем, праздная публика располагалась прямо на траве, художники продавали свои картины. Московская жизнь!
Спустившись по лесенке, я свернул в Сивцев Вражек, миновал храм Афанасия и Кирилла, патриархов Александрийских, дом, где жила Марина Цветаева. И вот он уже впереди, герценовский особняк с мезонином в три окна, фасадом, украшенным лепными гирляндами и античными маскаронами, железной крышей и печными трубами (печи в доме, как я знаю, сохранились старые, изразцовые, герценовских времен).
Я приоткрыл калитку и заглянул в тенистый, узенький дворик, мощенный камнем, перед входом в музей. И тут вспомнилось мне по давнему знакомству с директором музея Иреной Александровной Желваковой[23], что все-таки Бердяев жил не здесь и Зайцев имел в виду другой дом, иначе не сказал бы: «На первом этаже». Собственно, этот герценовский дом одноэтажный, поэтому зачем уточнять этаж. Я хотел подробнее расспросить об этом сотрудников музея, однако музей уже был закрыт и выяснить все до конца не удалось.
Тогда я свернул в Калошин переулок и вышел на старый Арбат как раз возле знаменитого, многоэтажного, построенного в стиле модерн серого дома с рыцарями. Вышел и, запрокинув голову, стал разглядывать одного из латников, опирающегося о щит, с мечом, вынесенным плашмя вперед. Мне невольно подумалось: «Вот что объединяет Бердяева с его стремлением привить дух рыцарства русской душе и Даниила Андреева, рыцаря мистической Розы!» А этот рыцарь, вознесшийся над Арбатом, и меч в его руке – не предвестие ли кары, ожидавшей всех, кто здесь когда-то жил: лагерей, тюрем или изгнания?.. Да, были адвокаты, профессора, мистики, поэты, либералы, кадеты, эсеры и меч над ними – большевики. Орден меченосцев, как называл свою партию Сталин.
На следующий день, пасмурный и дождливый, я вновь наведался в Сивцев Вражек. Я походил по музею, погладил ладонью изразцы старинных печей и (мне посчастливилось!) встретился с Иреной Александровной, маленькой, удивительно живой и подвижной женщиной, давней хранительницей музея. Она мне сказала, что да, по ее разысканиям Бердяев жил в доме, выходившем фасадом на Большой Власьевский переулок, номер 14, унаследовавшем этот номер от снесенного герценовского дома. Об этом подробно написано в ее книге «Тогда… в Сивцевом».
Я разыскал этот дом, изначально трехэтажный, с красивой аркой и лепниной на фасаде, облицованном ноздреватым камнем. В нем, построенном в 1873 году, а затем по-советски надстроенном (любили надстраивать то, что не сами строили), есть что-то неуловимо бердяевское, картинное, барственное. Бердяев поселился здесь в конце 1915 года, здесь писал он свои философии и устраивал собрания. Именно сюда привез он в дорожном саквояже законченную в 1914 году рукопись книги «Смысл творчества». Сейчас мне эта книга нужнее всего, поскольку в ней Бердяев сравнивает Серафима Саровского и Пушкина, святого и гения, и это дает мне ключ для возможного сравнения Серафима Саровского и Даниила Андреева.
Глава 4
Страничка из Бердяева
Сразу оговорюсь: я не беру на себя право назвать Даниила Андреева гением (и тем более поставить его рядом с Пушкиным), хотя и не сомневаюсь в его гениальности. Мое мнение ровным счетом ничего не значит, да и не мое это дело – высказывать тут собственные мнения. Если уж я назвался по-гофмановски странствующим энтузиастом, собирателем чужих мнений, предположений, догадок (впрочем, не упускающим случая и высказать собственные), то моя задача – показать, как в окружении Даниила Андреева, в сознании близких к нему людей возникала мысль, что это человек гениальный. Немногие, даже из самых близких, это понимали, кто-то даже, пожалуй, и запротестовал бы: «Помилуйте! Это уж слишком! Да, поэт, образованный, талантливый человек, но объявлять его во всеуслышание гением… нет, нет, увольте». Кто-то уклончиво промолчал бы, не желая оспаривать утверждение, столь лестное для Даниила Андреева, но и не соглашаясь с ним в душе. Кто-то с женской непосредственностью рассмеялся бы, фыркнул в кулачок, поднесенный ко рту, сочтя подобное откровение – Даниил-то, Данечка-то наш, оказывается… – забавным курьезом, смахивающим на анекдот. Слишком пестрым было окружение поэта, слишком разные люди в него входили, да и обстоятельства их жизни менее всего располагали к тому, чтобы распознавать гения в том, кто казался им другом, возлюбленным, обаятельным собеседником, милым чудаком, оригиналом и фантазером.
Но самое удивительное, что при этом все-таки распознавали. Да, да, распознавали, хотя это происходило как внезапное прозрение, как пронзительная догадка: «Свои вещи он читал неоднократно. И когда читал, скажем, из “Афродиты Пенородной” (на самом деле “Афродиты Всенародной”. – Л. Б.), таким бархатным голосом, очень красиво читал – это производило совершенно ошеломляющее впечатление. Я тогда даже не выдержал и сказал, когда он прочел: “Ну уж, знаете, вы ведь гений!” Но он запретил мне так говорить. Причем очень искренне, то не было кокетством. Он сказал: “Родион, ну перестань! Во-первых, до смерти такое вообще нельзя, это просто кощунство. Во-вторых, даже канонизируют через пятьдесят лет после смерти, не раньше. А вы… Что за чушь!”»[24]
И еще одна пронзительная догадка: «Возможно, в этом (в описанных выше чертах внешности. – Л. Б.) есть проявление очень важных душевных черт, но, чтобы говорить о них, надо произнести сначала слово, которое может вызвать бурю возмущения. Даниил был гений. Никакой в этом понятии нет гордыни, никакой похвальбы. Это очень тяжелый труд, тяжелейший крест, который Господь дает немногим – сильным». Автору этих воспоминаний, кого я по-прежнему не называю, приходится заранее защищаться от «бури возмущения», называя Даниила Андреева гением, и все-таки… все-таки… гений!
Теперь, после эпиграфов и размышления над ними – завязка моего сюжета, его узел. Этот сюжет связывает воедино меня, стоящего у дома 14 по Большому Власьевскому переулку, Николая Бердяева, жившего на первом этаже, за окнами, которые я сейчас вижу, Даниила Андреева, чье детство и юность прошли неподалеку, в Малом Левшинском переулке, и многих других персонажей. Я привожу страничку из книги «Смысл творчества» целиком, не сокращая, чтобы читатель ощутил биение, дыхание бердяевской мысли, ее особый импульс и, может быть, обрадовался ей как счастливой находке, как той жемчужине, ради которой творческий человек может все отдать, всего лишиться, лишь бы обладать ею:
«В Евангелии нет ни одного слова о творчестве, и никакими софизмами не могут быть выведены из Евангелия творческие призывы и императивы. Благовестие об искуплении греха и спасении от зла и не могло раскрыть тайну творчества и указать пути творчества. Евангельский аспект Христа как Бога, приносящего себя в жертву за грехи мира, еще не раскрывает творческую тайну человека. Сокрытие в новозаветном христианстве путей творчества – провиденциально. Существуют святоотеческие наставления о трезвении и молитве. Но нет и быть не может святоотеческих наставлений о творчестве. Сама мысль о таких наставлениях в творчестве звучит дико, оскорбительно для слуха. Как жалки все оправдания творчества через Евангелие! Оправдания эти обычно сводятся к тому, что говорят: Евангелие не запрещает и не исключает того и того, Евангелие допускает творчество, Евангелие – либерально. Так принижается и абсолютное достоинство Евангелия, и великая ценность творчества. Почти стыдно уже ссылаться на авторитет Евангелия в оправдание творчества ценностей жизни. Слишком злоупотребляли этим насилием над Евангелием. Из откровения об искуплении нельзя вывести прямым путем откровения о творчестве. Творческая активность человека не имеет своего священного писания, пути ее не открыты свыше человеку. В священных письменах, в которых открывается человеку воля Божья, всегда находит человек абсолютную правду, но другую и о другом. В деле творчества человек как бы предоставлен самому себе, оставлен с собой, не имеет прямой помощи свыше. И в этом сказалась великая премудрость Божья».
Прервемся на миг: в душе уже шевельнулось предчувствие какого-то освобождающего порыва мысли и связанной с ним радости, такой же, как при словах святых Иоанна и Серафима о множестве обителей в доме Отца.
Читаем дальше: «Не оправдание творчества через насилие над Евангелием, а другое открывается нам. Мы чувствуем священный авторитет умолчания Евангелия о творчестве. Божественно-премудро это абсолютное молчание священного писания о творчестве человека. И разгадка премудрого смысла этого молчания есть разгадка тайны о человеке, есть акт высшего самосознания человека. Лишь не достигший высшего самосознания человек ищет оправданий творчества в священном писании и священных указаний о путях творчества, т. е. хочет подчинить творчество закону и искуплению. Человек, целиком еще пребывающий в религиозных эпохах закона и искупления, не сознает свободы своей творческой природы, он хочет творить по закону и для искупления, ищет творчества как послушания. Если бы пути творчества были оправданы и указаны в священном писании, то творчество было бы послушанием, т. е. не было бы творчеством (выделение автора. – Л. Б.). Понимать творчество как послушание последствиям греха, как исполнение закона или как искупление зла, т. е. как откровение ветхозаветное или откровение новозаветное, значит отвергать тайну творчества, значит не знать смысла творчества. То, что тайны творчества и пути его сокрыты в священном писании, в этом – премудрый эзотеризм христианства. Тайна творчества по существу своему эзотерична, она не откровенна, она – сокровенна. Открываться свыше могут лишь закон и искупление, творчество – сокрывается. Откровение творчества идет не сверху, а снизу, это – откровение антропологическое, не теологическое. Бог открыл грешному человеку свою волю в законе и дал человеку благодать искупления, послав в мир Сына своего Единородного. И Бог ждет от человека антропологического откровения творчества, сокрыв от человека во имя богоподобной свободы его пути творчества и оправдание творчества».
Бог ждет от человека откровения в творчестве, именно Бог, Всевышний – эта освобождающая бердяевская мысль втайне указывает на Даниила Андреева, ведь Бердяев говорит не столько о культурном (хотя и о культурном тоже, недаром книга была задумана в Италии, стране искусства), сколько о религиозном творчестве. Даниил Андреев вряд ли читал «Смысл творчества» (Бердяев был недоступен в советское время), но он мыслит вполне по-бердяевски. Мыслит в духе главы о Серафиме Саровском и Пушкине, сравнивая канонизацию святого и признание поэта гением.
Бердяев, в свою очередь, не знал Даниила Андреева, «Розу Мира» не читал и не мог читать, поскольку она была написана уже после его смерти, но заключительная строка «Смысла творчества» таинственно перекликается с «Розой Мира»: «…и лишь через мистерию распятия воскресает роза мировой жизни». Приведенная выше страничка могла бы тоже стать третьим эпиграфом к роману и тем недостающим звеном в логической цепочке, которое позволяет сопоставить и сравнить.
Глава 5
Сравнение
Теперь сравним: преподобный Серафим в его пустыньке, как ласково и любовно называл он место, где уединялся от людей, лесное, суровое, но при этом счастливое, благодатное и благоуханное для того, кто познал сладость молитвы, узрел живого Бога и просиял духовным светом, и Даниил Андреев. Да, Даниил Андреев в тюрьме, суровой и безблагодатной, с двухэтажными нарами, зарешеченными окнами, парашей и дверным глазком. В тюрьме, где за десять лет он ни разу не увидел дерева, а затем, увидев наконец, заплакал, разрыдался, словно это было неописуемое, не умещающееся в сознании чудо – дерево!
Сравним этих двух людей, ведь теперь для нас уже не будет непозволительной дерзостью попытка поставить рядом великого подвижника церкви, причисленного к лику святых, и московского интеллигента, поэта, мыслителя, мистика, именовавшего себя вестником («Я вестник иного дня»). Сравним и то, что означали для одного из них бревенчатая лесная избушка, для другого – Владимирская тюрьма, куда он попал, осужденный по страшной 58-й статье.
В первом случае это было сознательное уединение, уход добровольный, а во втором – уединение насильственное, вынужденное. Но и это уход, только впрессованный в те формы, которые создало для него время. Каждое время по-своему формует и самый приземленный быт, и самое возвышенное бытие, и самую обычную человеческую жизнь, в которой всегда поровну возвышенного и земного, поэтому у Даниила Андреева не могло быть пустыньки, время ее попросту не отформовало. Это был уже не конец XIX века и не начало ХХ, а его страшная середина. Если Владимиру Соловьеву, еще принадлежащему XIX веку, некий таинственный голос шепнул: «Будь в Египте», где ему в надмирном сиянии явилась святая София, Премудрость Божия, то Даниилу Андрееву словно бы свыше было определено быть в тюрьме, чтобы именно оттуда проникнуть в иное пространство, увидеть иные обители, услышать иные голоса и распознать свечения иного, горнего мира.
Как ни странно это для нас, с жутковатой оторопью поглядывающих на тюремные стены, тюрьма для него тоже пустынька, о которой он вспоминает если не с любовью и лаской, то с некоей пронзительной благодарностью: «Как могу я не преклониться с благодарностью перед судьбой, приведшей меня на целое десятилетие в те условия, которые проклинаются почти всеми, их испытавшими, и которые были не вполне легки и для меня, но вместе с тем послужили могучим средством к приоткрытию духовных органов моего существа? Именно в тюрьме, с ее изоляцией от внешнего мира, с ее неограниченным досугом, с ее полутора тысячами ночей, проведенных мною в бодрствовании, лежа на койке, среди спящих товарищей, именно в тюрьме начался для меня новый этап метаисторического и трансфизического познания».
Пожалуй, это уж слишком по-русски – отбывать срок в тюрьме и писать мистические книги! Слишком, с избытком, сверх всякой меры. Нам бы вполне хватило чердачной комнатенки с полукруглым окном, выходящим на крышу, затянутых паутиной углов, тенькающих по тазу капель, заваленного бумагами стола, под выгнутую ножку которого подложена бутылочная пробка, оплывшей свечки в медном подсвечнике и… замысловатых, мистических строк, выведенных на обратной стороне листа какого-нибудь гроссбуха. Иными словами, мы бы смирились с тем, чтобы автором книг оказался чудак, мечтатель, одинокий житель чердака, забытый всеми отшельник, поскрипывающий перышком под писк мышей и потрескивание стеариновой свечки. Но в том-то и дело, что «Розу Мира», «Железную мистерию», стихи из поэтического ансамбля «Русские боги» написал узник, и, может быть, именно в этом их жгучая тайна.
Даниила Андреева арестовали в апреле 1947 года, хотя несколько раз арестовывали и до этого – обычно перед официальными советскими праздниками: это была профилактическая мера для неблагонадежного. После праздников его выпускали. Но на этот раз, в 47-м, за арестом последовало разбирательство на Лубянке и приговор Особого совещания: десять лет Владимирской тюрьмы. Причиной последнего ареста послужил роман «Странники ночи», который он читал в кругу друзей и близких знакомых, их потом тоже взяли, и чувству вины перед ними у Даниила Андреева в тюрьме сопутствовало ощущение неизбежности всего происходящего. Так или иначе, все люди этого круга – интеллигенты, жившие в районе Пречистенки и Арбата, – были обречены: следователи говорили, что каждого из них можно смело брать, а уж повод найдется.
Таково было время, определившее его гражданский выбор, сознательный протест, выразившийся в нежелании считаться советским человеком, о чем властям было послано открытое заявление. Так распорядилась судьба, создавшая некий застенок, выпадающее из обычных измерений пространство, духовную нишу, находясь в которой он смог услышать посланную ему Весть. А вокруг – выжженная зноем пустыня, мертвая зона, могильник с тысячами загубленных невинных жертв, именуемый первой в мире социалистической страной. И темный пастырь, опершись на железный посох, грозно оглядывает сухие пески с колючками кактусов и зыблющимися в воздухе миражами.
Глава 6
Бейте
Образ темного пастыря, Сталина, появился сначала в «Железной мистерии», а затем в «Розе Мира» через много лет после того, как ее автор стал обитателем тюремной камеры, но не рядовым заключенным, получившим срок за несовершенное преступление, а узником, кому словно было велено: будь!
Вот как он выглядел по описанию тех, кто встречался с ним там, «за затворами тюрьмы»: «За мной затворилась дверь, и навстречу мне с коротким рукопожатием поднялся с койки худой и высокий, заметно ссутулившийся человек в темно-зеленом тюремном халате. Сухо представился: “Андреев, поэт”, – и взглянул устало и ласково.
Волосы цвета серебристой стали зачесаны назад. Лоб огромен. Лицо породистое, продолговатое, “арабо-индийское”. Кожа лица из-за долголетней тюремной затхлости прямо-таки малярийная, как яичный желток. Ноги босы»[25].
«Арестованного Андреева допрашивали наиболее видные бериевцы: министр госбезопасности Абакумов, генерал Леонов и полковник Комаров. Леонов с людоедской улыбкой говорил ему, зловеще растягивая слова:
– Вы еще не знаете, Андреев, специальным ножом мы из вас кишки вытянем. Бук-валь-но!
Тогда Андреев протянул следователю деревянную палку, на которую опирался при ходьбе (после Ленинградского фронта мучительно болел позвоночник), и коротко ответил:
– Бейте.
Последовала реплика:
– Любителю Достоевского пострадать захотелось!»[26]
Генерал Леонов хоть и не был любителем Достоевского, но тоже читал, если не «Братьев Карамазовых», «Бесов» или «Подростка», то, во всяком случае, «Преступление и наказание». Один персонаж этого романа, Николай, как известно, берет на себя вину Раскольникова. У следователей было принято читать «Преступление и наказание», считалось хорошим тоном… И Леонов, гордясь своей проницательностью, умением видеть врага насквозь, был рад случаю показать, что способен говорить на одном языке с интеллигенцией, образованными, писательскими и профессорскими детьми.
Даниилу Андрееву было велено судьбой: прими с благодарностью свою судьбу и будь тем, через кого Россия получит то духовное знание, которое понадобится не столько им, людям страшной середины, сколько людям будущего, людям нового века! На это веление, на этот зов он ответил всей своей жизнью – не «пострадать захотелось», а сберечь и донести услышанную Весть, и никакой удар палкой не мог лишить его дара, которым он отныне владел.
Дар этот был бесценным, поскольку его книги, распахивающие перед нами дверь в иные миры, показывающие обители Небесного Дома, – духовное откровение для будущей России. Суждено ли ей когда-нибудь из пустыни превратиться в цветущий и напоенный влагой оазис, как предсказывали подвижники, мудрецы, философы – от славянофилов и западников до представителей русского философского ренессанса! Пусть не завтра, не послезавтра (Даниилу Андрееву грезился срок – конец XX столетия, но не дано нам угадывать сроки) – когда-нибудь ведь суждено! Ах, как понадобятся тогда эти знания, этот бесценный духовный опыт тем, кто будет наделен особым зрением и испытает то второе рождение, о чем в ночной беседе с Никодимом возвестил Иисус: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не сможет увидеть Царствия Божия!»[27]
Разве не угадывается некий Промысел в том, что написанная во Владимирской тюрьме, при постоянных обысках и «шмонах», «Роза Мира» была восстановлена автором после освобождения по чудом уцелевшим черновикам: заместитель начальника тюрьмы Давид Иванович Крот отдал мешок с черновиками жене поэта! Восстановлена она была не для того, чтобы ее сейчас же опубликовать – такое представлялось совершенно немыслимым, – а для того, чтобы сохранить, как то евангельское зерно, которое даст много всходов, если погибнет[28]. Вот книга как бы и погибла подобно евангельскому зерну, пролежав в земле (один машинописный экземпляр действительно был закопан в землю) больше тридцати лет. Можно даже уточнить: тридцать три года, считая от окончания работы над рукописью 12 октября 1958 года до первой публикации в 1991 году. Пусть символика этой цифры приблизит нас к глубинной, непознаваемой сути таких явлений.
Все это время над книгой довлела косная, мрачная, угрюмая толща, тяжкий и беспросветный гнет – не только земных пластов, но и человеческого непонимания, недоверия, сомнений и предрассудков. Теперь тяжесть отпала… книга воскресла… и я, некогда читавший ее по слепому самиздатовскому машинописному экземпляру, могу открыть дверцу книжного шкафа и взять ее с полки.
Да, тяжесть отпала, земная тяжесть, но непонимания, недоверия, сомнений еще достаточно, и главное из них в том, христианская ли по духу, православная ли эта книга, не от лукавого ли, не от прельщения тем, кто столь хитер и изворотлив во всяких духовных подменах? Вот мы снова задали вопрос, от ответа на который ранее уклонились, не считая себя обязанными, благо жанр свободных заметок нам это позволял, а теперь попытаемся не то чтобы ответить, а именно подвести читателя к самостоятельному ответу… И пусть нам помогут в этом слова Бердяева, что Бог ждет от человека откровения в творчестве.
Итак, церковь книгу не принимает… в ней сомневаются и те, кто толпится сейчас у церковных врат… и те, кто в церковь не заглядывает, перед иконами не молится, но слышит разговоры, улавливает мнения, доносит оценки, они сомневаются и предпочитают о «Розе Мира» высказываться с осторожностью. Другие – восторженные и фанатичные поклонники, еще более далекие от церкви, веры и истинной духовности, бездумно именуют эту книгу чуть ли не новым Евангелием.
Между тем те, кто действительно читал «Розу Мира» от начала и до конца, кто проник в ее образный (точнее, метаобразный) строй, попытался осмыслить ее идеи и соотнести исходящее от нее веяние с духом учения Христа, может, иной раз и усомнятся в «Розе» (человеку свойственно сомневаться), но при этом все же не утратят опоры, позволяющей преодолеть сомнения. Ведь где еще с такой силой утверждается миссия Христа как Планетарного Логоса, где так зримо воссоздается Небесная Россия со всем собором ее святых и праведников, где возносится такая хвала Приснодеве Марии, источнику божественной мудрости и любви, и срываются всяческие покровы, физические и трансфизические, с бесчисленных темных ратей, служителей мирового зла?!
Что же при этом настораживает и смущает? Образный язык, столь чуждый лексике православного обихода? Призыв к интеррелигии, объединяющей духовный опыт всего человечества, и сам символ Розы Мира, каждый лепесток которой – одна из мировых религий? Да, пожалуй, это: нелегко нам, разуверившись в интернационализме, поверить в интеррелигию, и все-таки попробуем поразмыслить над этими понятиями.
Вот одно из определений Даниила Андреева: «“Розу Мира” можно сравнить с опрокинутым цветком, корни которого в небе, а лепестковая чаша – здесь, в человечестве, на земле. Ее стебель – откровение, через него текут духовные соки, питающие и укрепляющие лепестки, благоухающий хорал религий». Какой дивный, великолепный образ, позволяющий сделать вывод: религии не противоречат друг другу, а как бы говорят о разном, высветляют различные сегменты единого и безграничного духовного пространства. Там, в этом пространстве, они не сталкиваются, как не сталкиваются небесные тела, движущиеся на разной высоте, по разным траекториям, поэтому их противоречия здесь – мнимые, вызванные лишь человеческой ограниченностью.
«Если Бог един, то другие боги суть, так сказать, самозванцы: это – или бесы, или игра человеческого воображения, – приводит автор “Розы Мира” пример подобной ограниченности и комментирует его: – Какая детская мысль! Господь Бог един, но богов много; начертание этого слова в русском языке то с большой, то с малой буквы достаточно ясно говорит о различиях содержания, вкладываемого в это слово в обоих случаях».
Поэтому весь пафос «Розы Мира» – в сочувствовании и соверовании всему светлому, что есть в других религиях, в преодолении межрелигиозной вражды, в стремлении к всечеловеческому братству и духовному обновлению мира. «Пусть христианин вступает в буддийский храм с трепетом и благоговением: тысячи лет народы Востока, отделенные от очагов христианства пустынями и горными громадами, постигали через мудрость своих учителей истину о других краях мира горнего… Пусть мусульманин входит в индуистский храм с мирным, чистым и строгим чувством: не ложные боги взирают на него здесь, но условные образы великих духов, которых поняли и страстно полюбили народы Индии и свидетельство о которых следует принимать другим народам с радостью и доверием… И пусть правоверный шинтоист (синтоист. – Л. Б.) не минует неприметного здания синагоги с пренебрежением и равнодушием: здесь другой великий народ, обогативший человечество глубочайшими ценностями, оберегает свой опыт о таких истинах, которыми духовный мир открылся ему – и никому более».
После этого не сомневаться, не отвергать, не бездумно превозносить, а разумно принять надо «Розу Мира» как соединение христианского опыта с общечеловеческим духовным идеалом. Во всяком случае, попытаться отнестись к ней с доверием. К этой мысли мы еще вернемся.
Не отринь же меня за бред и косноязычье,
Небывалое это Действо благослови,
Ты,
Чьему
благосозиданию
и величью
Мы сыновствуем
во творчестве
и любви[29].