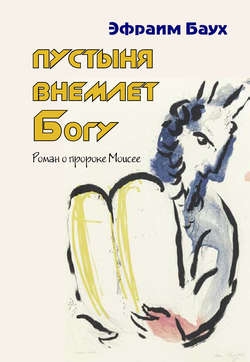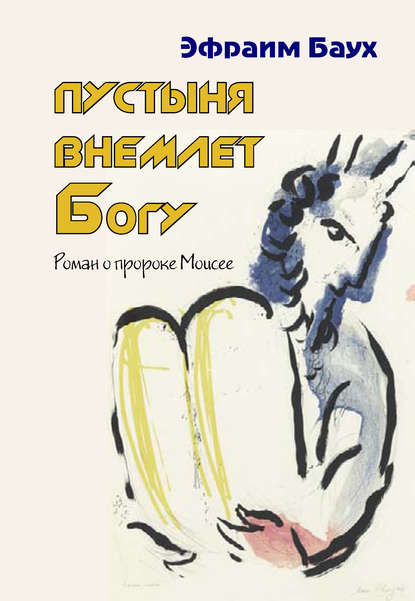Начиная с лермонтовской строки…
Это всегда бывает однажды и внезапно. Оказывается, рядом существует не замеченный тобой мир, который развивается скрыто, как параллельный тоннель жизни, – и вот на каком-то перекрестке он пересекается с твоей жизнью и раскрывается перед тобой во всей своей загадочной глубине и реальной неотвратимости.
Так случилось со мной, когда семь лет назад я открыл уже написанные, состоявшиеся в пространстве 70-80-х годов, отсеченном от русского читателя «железным занавесом», романы Эфраима Бауха, живущего в Израиле: «Кин и Орман» (1982), «Камень Мория» (1982), «Лестница Иакова» (1987), «Оклик» (1991), «Солнце самоубийц» (1994). Новое произведение, которое сейчас перед вами, органично вписывается в задуманную писателем семилогию, которую он назвал «Сны о жизни».
В отведенный нам отрезок времени века двадцатого нередок феномен, когда книги приходят запоздалым пророчеством. Таковы эти романы о самых сокровенных переживаниях поколений времен Второй мировой и послевоенных лет, выверенные на оселке беспощадной правды и личного достоинства.
И вот удивительно: весь цикл погружен в трагедии, искания и обретения народа еврейского, но ассоциации с судьбами других народов – в том числе российского! – от романов Бауха неотторжимы. Неслучайно суть новой книги этого цикла вся проникнута строкой русского поэтического гения – «Пустыня внемлет Богу…».
Не стану пытаться охватить пересказом широчайшее пространство романа. Слово «пустыня» сродни слову «пустота». Но сколько же спасительных действ и мучительных драм, открытий и отважных свершений происходит на необъятностях той «пустоты»! Необъятна она сама, и необъятны – по историческому значению своему – события в ее пределах. Центральная фигура романа – пророк Моисей, содеявший то, что для духовных лидеров разных времен может быть уникальным ориентиром: он не только вывел народ свой из рабства буквального, но и более того, отправился с евреями в сорокалетнее освободительное путешествие по пустыне – той самой, что «внемлет Богу». Да, освободительное, так как осуществлено то путешествие-скитание ради мессианской цели: избавить недавних рабов от рабского мировосприятия, рабских пут, сковывающих дух человеческий.
Как не вспомнить чеховской убежденности в том, что каждый из нас – каждый! – теперь и всегда должен по капле выдавливать из себя раба. Даже когда речь идет вовсе не о тех, кои только-только выбились из неволи буквальной. Чехов – ненавистник холуйства во всех его проявлениях – обличал презираемые им признаки невольничьей психологии, которую до конца, до последней «капли» вытравить, к сожалению, никак не удается. Но Моисей всей мудростью, надеждой и мечтою своей стремился к воплощению в реальность благородного, святого своего предназначения. И об этом роман Эфраима Бауха. А вот еще ассоциация: до кошмара знакомые моему поколению поиски «врагов народа». Это происходило и в стране-рабовладелице, из которой пророк вывел своих соплеменников. Властительный вождь – изобретатель тех изуверств – был похож, пишет автор, на крокодила, пожирающего свои жертвы. И казни, казни… Страницы, будто воссоздающие памятные и нам злодейства, потрясут, я уверен, читателей.
Повторюсь: умение соединять прошлое, даже очень давнее прошлое с нынешним – особое свойство писательского дарования. Конфликты и борения, поражения и победы, разделяемые длиннейшими временными расстояниями, конечно, во многом различны. Но до чего же в действительности не только схожи, но и в чем-то совершенно аналогичны чувства и стремления, методы и средства достижения целей! Представления о жестокости и милосердии, о верности и коварстве, о чести и бесчестии, о грешности и святости так нам знакомы, потому что снайперски точно увидены автором и явились в книгу из «дальней дали», как будто из нашего бытия.
Образ пустыни, как того чистого, ничем не запятнанного «листа», с которого должна взять новый старт история освобожденного народа, – этот образ мастерски воспроизведен и одушевлен талантом писателя. Пустыня – вновь напомню: та самая, внемлющая Творцу! – это и наимудрейший собеседник Моисея. Их разговоры вобрали в себя пору воплощения в явь высочайшей миссии.
Эфраим Баух пишет об этом общении пророка с пустыней подробно и впечатляюще. Вот как ведет себя тот собеседник Моисея в их многолетнем диалоге: «Не переча, проявляет упрямство. Не споря, опровергает твои доводы. Не навязывается, но и не отстает от тебя… Беспредельно податлив и в любой миг обозначает границу, на которую твое любопытство натыкается, как на стену. С милосердием, более похожим на насмешку, следит за тем, как твое любопытство пытается пробить брешь в этой стене. Может вовсе подолгу не откликаться, но его отсутствующее присутствие ощущаешь всегда». Таков постоянный собеседник Моисея – пустыня, по которой он поведет народ свой из неволи.
Как я уже подчеркивал, мастерство писателя делает зримыми – воспринимаемыми как лично знакомые нам – поступки и мысли едва ли не всех персонажей романа.
Значимость исторических и художественных открытий, пластичность описаний, умение мощно зачерпнуть живой воды в божественно испепеляющей сухости пустыни – это делает роман незаурядным явлением современной мировой прозы. Думаю, и вся семилогия еще ждет своего открывателя – критика ли, читателя, – истинного ценителя настоящей литературы.
Самуил Маршак часто цитировал лермонтовское четверостишие, которое считал одним из самых замечательных в мировой поэзии:
Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.
«Четыре строки, но сколько в них сложнейших человеческих чувств, душевных состояний: одиночество и единение с целым мирозданием, надежды и потрясения счастливейшей возможностью вместе с пустыней внимать Господу!» – так не раз говорил Самуил Яковлевич.
И вот одна из четырех бессмертных строк стала именем романа, с нее он обретает свой путь…
Анатолий Алексин
Пустыня внемлет Богу
Предчувствие книги
1. Воды многие
Вечер предчувствуется пепельным успокаивающим светом неба. Море сизо-серое, нешумное, потрясшее шумеров, море филистимлян, море Эллады и Рима, море, впервые представшее прохладным сверкающим чудом взгляду иудейских колен, вышедших из раскаленного горла аравийских пустынь, – море отступило, обнажив лежбища черных базальтовых скал, покрытых ядовито-бархатной зеленью мха и водорослей, скал, подобных стадам морских чудовищ, погруженных в спячку.
Пляжи пустынны.
Редкие фигуры перебрасывают ракетками мяч.
Лаконично-костяной звук виснет в охваченном январской дремой воздухе. На плоско-пустынных пространствах берега, моря, далей – группки людей, одетых по-советски (слово уже исчезает из обихода), отчужденные от этих пространств и друг от друга; и только собачки, привезенные с тех скифских земель, носятся по пустынному пляжу явственной связью между группами.
На утоптанном песке у кромки моря ватага упитанных толстяков играет в футбол.
И в противовес им вдали – словно бы стремительно и легко обведенные линией Дега, на грани реальности и иллюзии – три лошади, три всадника, и в их случайных произвольных движениях – тайная свобода жизни.
И всегда это пространство, вечером или на холодном рассвете с невысоким слабым солнцем за облаками цвета тусклого непротертого жемчуга, среди которых проступают полыньи голубых небесных вод, кажется отчужденно прекрасным и влекущим вопреки настороженно замершему во плоти инстинкту самосохранения – переходом в иные, летейские поля, в иной ожидающий нас мир.
И миг этот с такой легкостью и естественностью приобщается к редким, лучшим, глубочайшим мгновениям долго прожитой жизни…
Воды многие – 
Чад прибоя, примусный гул плитчатых волн. Чернь. Червление. Ветошь, обдающая камни пеной, вмиг набирает лунный свет, озаряет песчаный откос и падает на него высыхающими клочьями.
Опять на миг и навечно в беге моей жизни рождается миф плетется из мелочей, протягивается через тысячелетия, чтоб вновь – который раз – никем не схваченная, не закрепленная в словах – истерлась из памяти повесть, втягивающая в себя были, идущие по воде с низовым ветром с Ионического моря, с великой Дельты, с Крита и Родоса, Олимпа и Трапезунда, с Капри, с дальних Ницц и Венеций стоящих так легко и забвенно на большой и плоской средиземной воде Всю суматоху минут и тысячелетий, бормотание дряхлых цивилизаций и клокастый дым отошедших эскадр, замыслы, подавленные в зародыше, и безумие, поворачивающее мир, как корабль, попавший в шторм и потерявший управление, весь мусор и бранчливость голосов, всю дремучую плесень времени несет к этому берегу долгая средиземная волна, aqua mediterrana.
Волны впопыхах срываются с источенных скал – как что-то забыли. Торопь и оторопь.
Мы шли вдоль моря, уходили, вопреки
своему желанию, в беспамятство пустынь
на целое поколение,
нас окружали розы и тернии,
которые не мы растили,
ибо все выращенное нами было из памяти,
более похожей на фата-моргану
и потому не исчезающей из сознания
человечества.
Великие реки, уроженки Запада, текли
под азийскими ветрами,
мелея в меловых берегах,
и море сгущало их в пену,
в молоко, створаживающееся в семя жизни,
в нашу плоть,
и известь, выпадавшая в осадок и возносимая
ветрами, сгущалась в наши кости.
Море, всасывающее в свою ненасытную утробу
целые народы, растворяющее их в глубине,
чужбине своей, беспамятстве своем,
хранило нас в день тяжкого солнца,
в день невероятной слабости нашей,
хранило от пчел пустыни, мелких, как их укус,
несущий неотвратимую смерть.
Ночь пустыни, как тёмная вода, обливает внезапным холодом, захватывая дух. Ночная вода – родниковый сон. Вибрирует, льется источник, ключ к жизни, вечное чудо пустыни.
Волосяная струйка воды – нить этой жизни в отличие от мертвой струйки в песочных часах Египта.
Бурдюк – водяные часы Времени.
Тонкострунная музыка воды – в редких оазисах Синая.
Est in arundineos modulator musica ripis – есть музыкальная стройность в прибрежных тростниках… Мелодия начала свободы.
После перехода через Тростниковое море – Ям Суф – раб превратился в мыслящий тростник.
Воду жизни мы несли от стоянки к стоянке – в бурдюках и кувшинах…
Раскопки. Древний водоем.
Цивилизации превращаются в прах, лишь кувшин, который хозяйка уронила на дно водоема, собиравшего воды пустыни и высохшего в тысячелетиях, повествует о мимолетном живом жесте, последующем огорчении и начавшемся в тот же миг вечном торжестве Истории.
Целые цивилизации мертвы, а жест этот, неловкость заревого утра человечества, когда Ривка или Рахель уронила кувшин, жив и пронизывает тысячелетия.
Так жив посвист ветра в пустыне и жажда познать, что там – за горизонтом: тревожное и неодолимое стремление ощутить свободу.
Кочевничество как смутное нащупывание инструмента, настроенного на будущее.
И именно звук упавшего на дно водоема кувшина, а не рев боевых труб народов, пытавшихся этим медным сотрясением слуховых извилин доказать самим себе, что они не провалятся в небытие, – звуковая память Исхода.
Вечно свежи страх и зов пустыни.
Соты городской цивилизации, колоссы и пирамиды кажутся беспредельными лишь внутри самих себя.
Но очень близко от каждого из нас – пустыня, стоит лишь переступить край цивилизации – и она весьма скоро сжимается шагреневой кожей, покрывается пеплом.
Память Исхода равна решительному отсутствию воспоминаний о нем, ибо она – жизнь, а не память о ней, и потому – вечный архетип человечества на этой земле.
Перегруженная память рождает эту жадную торопливость воспоминаний.
Учишься понимать гениальность События: как в этих тысячелетних наносах, суете, непостоянстве, мельтешении, ветоши крепится память Книги, нечто постоянное и вечное.
Более вечное, чем обдающий ознобом тайны и глуби времен Сфинкс; не титаническая – тектоническая работа человеческих рук.
Книга Книг – тектоническая работа человеческого духа.
2. Потерянное толкование
Потерянное толкование о потерянном поколении?
От этих строк, тысячебуквенных, призрачных, прозрачных, тысячезрачных, как стрекозы, и столь же хрупких, но выдерживающих испытание вечностью, – ощущение мощи и забвения.
Как сохранились столь слабо закрепленные знаки в тысячелетиях?
Время дышит в этих крючках и закорючках, и они возвращают нам тысячеглазие тех, кто вглядывался в них, ища смысл своей жизни, мира, Бога…
Скалы хранят следы движения массы. Безмолвие среди кажущихся обугленными скал обжигает настороженный слух существа, ощущающего опасность гибели в этих пустынных местах, спасающегося шумом, нахлестом, говором огромной массы. На миру и смерть красна.
Но ветру это неведомо.
Ветер – Вечный жид, кочевник – продолжает раздувать истлевшие остатки шатров, золу костров Исхода, ищет следы ушедших, стонет, как щенок, отбившийся от своих. И, разъярившись, врывается в города, где, по смутному его подозрению, прячутся эти «свои» – вросли, как мох, плесень, – и он рвет и мечет.
Ветер, как слепец, жадно набрасывается на безымянные лица, мгновенная вспышка солнца в разрыве облаков высвечивает их. Но так же, как ветер, солнце, время бессильны сохранить движение этой массы, так и перо бессильно.
Бессилие рождает миф.
Небеса хранят свое изначалье и свою память в нашем пробуждении.
Великое поколение – вот мы.
Великое поколение – и вот нас нет.
Истинным ли было в нас желание вырваться на свободу, бросить вызов этим горшкам с мясом, жалости к себе, клочку земли и крыше над головой, связывающим по рукам?
Прозрачное небо птиц, свободы, лунная тоска, ветер, внезапно на глазах умирающий в дюнах и так же внезапно поднимающий, подобно змею, песчаную голову смерча, – все это присутствовало в наших блужданиях в пустыне, именуемых Исходом, а по сути являющихся нашей жизнью.
Целое поколение «безмолвствует на мертвом языке».
Дано Свыше – сорок лет блуждать по пустыне, пока не вымрут. Главное, цель – земля обетованная.
Путь как бы не в счет. Его стараются забыть, проскочить, отбросить в прошлое. А между тем это целая неповторимая жизнь. Именно в пути сложилось все, что стало путеводной звездой человечества.
Человечество живет в Исходе, умирает в земле обетованной. И где-то там, в начале, старые еврейки берут свои перины и прячут в них серебро и золото египтян. Перьями, предназначенными для полета Ангелов, Элияу, Ханоха, набивают перины, которые в будущем станут символами погрома.
Исход – это выделенность. И все они, эти типы, великие и малые, неизвестно где похороненные, как и Моисей, ознаменовали своей безымянной цепью великую жизнь потерянного поколения.
Потерянного ли?
Это о поколении, которое впервые в истории вышло из рабства к свободе, перешло Красное море посуху, пришло к Богу, получило скрижали у подножья горы Синай?
На долю какого еще поколения выпали такие вселенские события?
Кто я, сорок лет блуждавший в иных землях?
Что означает для меня 1977? Год приезда в Израиль.
Песочные часы, перевернувшие время моей жизни?
Ищем место для ночлега. Абсолютная тишина Синая поглощает рычание автомобильного мотора.
Вдалеке, у подножья базальтовых гор Синая, разгуливают стаи птиц.
Приближаемся – люди.
Не так ли видится движение народа, Исход, осоловевшим от приближающейся дремоты глазам человечества?
Чекан Синайских скал, как чекан языка Книги Книг.
Легок сон на этой земле, как легок ее ночной воздух, высвеченный лампадой луны – от вод средиземных до гор Моава.
3. Сны
Сон – потеря интереса к миру или, наоборот, забытый нами способ добраться до его сущности?
Сон – продолжение истинного подпольного, скрытого, но впрямую прикасающегося к душевным истокам нашего мира.
Сон – это пуповина к истинной нашей сущности.
Тайна Исхода в том, вероятно, что он тоже оттуда – из мира истинной сущности.
Сон – коридор в мир ушедших и, скорее всего, односторонний, в нашу сторону: мы видим их, дорогих ушедших, просачивающихся к нам, живущих рядом с нами, ибо они-то были по эту сторону, они знают, куда идти, что делать; мы же по ту сторону не были, для нас там какая-то сплошная тьма или какие-то мифические просветы, но все это не реально, не пережито, и даже знаменитый тоннель – всего лишь только начало жерла, ведущего в тот мир…
Человечество не помнит сна об Исходе, не хочет думать о нем, но само упоминание об Исходе не исчезает, ибо слишком глубоки его корни в нас, касаются самого сокровенного, которое мы, не владея истинным ключом к нему, называем жизнью.
Это бывает лишь однажды в вечности. И не дает покоя. Это – му-чительная потребность припомнить самое важное и потому удивляющее нас тем, что забыто. За этим кроется столь коренное, что обнажение этого корня подобно прикосновению к нему ледяного лезвия топора. Это – холод предела существования, внезапно подкатывающий к горлу пятью тысячами лет посреди обычного скудного дня, это как смерть, не выбирающая особого времени, которая может грянуть в самый неподходящий момент, на пиру или в отхожем месте.
Прибегая к современным понятиям, эту навязчивость Исхода можно было бы назвать психоаналитическим сеансом человечества.
И нередко беспамятство в отношении Исхода вводит человечество в состояние, подобное безумию, ибо внезапно оно ощущает себя уже умершим, без памяти собственного существования.
Наплыв беспамятства, отчетливо ощущаемый, внезапное чувство незнания, кто ты, откуда пришел, равносильно потере сознания, отрицанию себя.
Шутка ли, забыть о единственно важном – встрече с Богом.
Быть может, существует Божественный цензор, стирающий из нашей памяти слишком опасные мгновения приближения к Богу, запутывающий, иронизирующий и в то же время действующий столь ненасильственно, что это принимается как само собой разумеющееся?
Провалы в памяти – цензура Бога.
Но приступ, а точнее, приход к самому себе, проходит, и человечество стесняется своей короткой памяти, и тогда обрушивается с критикой не на собственное беспамятство, а на объект – Исход.
Что такое сны о жизни? Желание от нее сбежать? Тогда это трижды чудо, что сновидец остался в живых, ибо люди спят особенно крепко, когда гибель стоит у порога.
О, какой сон охватил города и веси Ханаана! Словно хотели переспать развивающийся и глухо сотрясающий землю Исход.
Кратер уже дымился, но лица людей были сожжены… сном.
Народ, идущий из Египта, пустыни – народ низин, взгляда и привычек низин, – видит надвигающуюся с севера, нависающую громаду гор, толпище высот, престолы неба.
Нам снились в страшных снах ждущие нас высоты Ханаана.
Бесконечное переживание пространства – обостренное чувство страха, беззащитности, одиночества. А впереди – испытание горами, страной обетованной, как бы повисшей в небе. Как горы Моава в неверных лучах синайского солнца, подобные облакам: то растворяются, то сгущаются.
Недаром Моисей повел народ через горы Моава: чтобы перед спуском к Иордану народ, как и он с горы Нево, последний раз в его жизни, увидел страну обетованную сверху, с высот, а не из низин.
Хоть мы создания рук Его, Он абсолютно не знал нас, как впервые родившая мать беспомощно смотрит на неизвестно откуда возникшее существо, не зная, что с ним делать, впадая то в ярость, то в бессилие. А ведь по Своему образу и подобию творил!
О, лунный ирреальный, пробирающий ознобом свет возносящихся в ночь железных гор Синая – притягивающая гибелью и последней правдой звенящая тишина внезапных пропастей… Долины, кажущиеся мертвыми, днем сухие, как горшки гончара после извлечения из опаляющего дыхания печи. Лунатическая тяга, будившая Моисея, входившая в его сны.
4. На краю кратера
Велика печаль отсутствия – она обжигает нас, изливается из нас лавой.
Погасший кратер, на краю которого мы живем, зарождает беспокойство, тревогу, и вот – огненное извержение: из темных спрессованных залежей Истории – лава прорыва: Исход…
В утлой хижине, в низинах Раамсеса,
мы любили друг друга,
когда Моисей шел из пустыни в Египет,
отряхивая прах дороги, как страх души,
несомый мощью Его призыва,
усиленной внутренним нежеланием
и сопротивлением этой мощи.
А мы не знали, что утлая наша хижина
уже качается подобно не менее утлой лодке,
влекомой шлейфом волн уже разворачивающегося вовсю корабля времени.
Кратер глухо ворчал.
Кажущееся благополучие клубилось облаком над домами Раамсеса,
и мы любили друг друга в покоях дворца.
И тогда весь Исход сужался
до слабого пламени свечи,
и просвеченная нежностью
ладонь твоя гасила ее,
и платье твое шумело и опадало шелком -
и темнота дышала
яблочной свежестью твоих уст…
Исход – это взрыв, извержение, пробивающее косную тяжесть обставшего времени, смещающее топографию равнин, и гор, и человеческого духа.
Все оживает и втягивается воронкой, энергией Исхода. Это – реальность, четко и напористо рвущаяся сквозь время, тогда как жизнь наша клочковата и алогична, как сон. Исход – это когда сорок поколений питаются крохами с Твоего стола и ствола.
Исход-это когда сместилась земная ось и сразу возникли все звезды. Исход – это наше подсознание, истинно наша страна в нас, распростершаяся на тысячелетия назад и рвущаяся в узкую горловину перехода через Тростниковое море.
Исход – бесконечная, быть может неудачная, но единственная грандиозная попытка отменить неотвратимость пространства, времени и смерти.
Исход – грандиозная коллизия, прореха, через которую сквозит Божественный замысел в самом его начале.
Исход – это всего сорок поколений, тени которых мерцают бледным пламенем над камнями их могил, складывающимися в лестницу к нам, и нет прошлого, и нет будущего – есть одно сопереживание в вечности с пробуждением и входом в видимую полосу жизни, освещаемую свечой Его – Торой, и не было ни раньше, ни позже, никогда такого совершенного источника света.
Вот имена… ушедшие… Но в них закрепилось отшумевшее время.
Медно-песчанен колорит Исхода.
История течет пестрым неуправляемым потоком событий, и только Исход проявляется как первородное Божественное направленное усилие. И сколько бы на него ни накладывались другие пласты и потоки истории, из-под всего, как вечный архетип, проступает Исход.
Из малого семени, первородной клейкой среды, произойдет великий народ – древо жизни, а на ветвях его – живая плоть тысячелетий.
За спиной уже складывается новая память, преследуемая и освещаемая луной, бегущей по водам вслед Исходу…
Ветер гонит из гнезд памяти новые имена, места, стоянки.
Исход, отраженный сверху вниз – в выпуклых глазах ящерицы. Понимает ли скрывающаяся в ней душа это различаемое взглядом движение массы существ, уходящих за край земли? Исчезающих в движении – и потому остающихся вечно живыми…
Они еще себя не осознали.
Только враг думает, что знает их язык.
Только ребенок, который войдет в землю обетованную, знает, что говорят их пророки…
Время по сей день гонится за Исходом, не в силах его поглотить…
Кочевье – форма существования с минимумом уюта и обжитости, малого домашнего круга, и потому почти настежь открыто космическим пространству и времени.
Луна – идол безумцев и лунатиков – входила в каждодневье как инструмент времени – иначе как начать отсчет сорока лет пустыни? Ведь Его не обманешь, как это делает ребенок, перескакивая числа, чтобы ускорить бег времени.
Очевидцы Исхода.
Сизый ворон из Африки, косящий глазом…
Сверчок, чей первобытный напев измеряет тысячелетия…
Одинокая птица, чей короткий печальный крик – мгновенный мостик через вечность…
Короткий дар ночных раздумий – предутренние звезды…
Тишина очищения.
Казалось, каждую ночь возникали новые созвездия или давно забытые старые.
И сердце сжимал испуг: заблудились?
Направления менялись.
А потом звезды уже стали неотъемлемой частью нашего существования…
Мы шли по пустыне, души истончались страхом – он обжигал бичом лбы одержимых похлеще египетского надсмотрщика.
А где-то, в небытии, севернее, на блудных крышах Сидона потаскуха родила мертвого ребенка, чьей ручкой поводили перед глазами слепцов в надежде, что они прозреют.
Скалы – как вставшая дыбом железная Книга…
Зеркала лун в железняке.
Небесная Медведица сквозь черноту ночи, посверкивая звездами, вгрызается нам в душу, преследуя нас в снах и кошмарах…
Синай. Зеленые мухи на охряно-зеленых расплывах меди.
Время пробует на зуб серебро и золото Исхода и ломает челюсть.
А хрупкое исчисление лун переживет тысячелетия.
5. Синай – Эверест времен
Исход – не просто переход.
Это – жизнь-странствие, кочевье души иудейской.
Жизнь по времени – солнечному, водяному, песочному.
Огромные песочные часы: пустыня.
Над временем Исхода работали часовщики Вечности.
Каменные часы пустыни.
Пространство Исхода как творения – круг гончара: огромные ладони пустыни.
Слуховой настрой Исхода: пустыня внемлет Богу.
Топография: истинный исход всегда меридионален.
Быстрая смена земель, впадин и гор, климатов, настроений…
Свидетель Исхода – Вечный жид.