Лессепсово путешествие по Камчатке и южной стороне Сибири
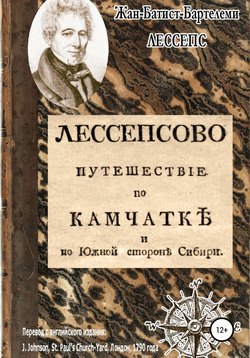
000
ОтложитьЧитал
Глава IX
Отъезд из Пусторецка – Нахожу спрятанную провизию – Нелёгкое путешествие – Неосторожность, опасная для моего здоровья – Лечение упражнениями – Встреча с караванами, отправленными г-ном Козловым – Река Пенжина – Прибытие в Каменное – Ложное обвинение коряков в мятеже – Описание Каменного – Байдары – Господин Шмалев вынужден покинуть меня – Мне дают солдата Егора Голикова – Буря – Прибытие семи чукчей – Беседа с их вождём – О двух женщинах, встреченных мною – Прибытие к чукчам – Описание стойбища – Женская одежда – Описание чукчей – Торговля у чукчей.
Наконец наступило восемнадцатое, и я простился с господином Козловым. Пропущу наше прощание; оно было, конечно, и тёплое и печальное. Я выехал из Пусторецка в восемь часов утра в открытых санях, запряжённых семью собаками, которыми сам и управлял; у солдата, назначенного сопровождать меня, было запряжено восемь собак, а впереди нас ехал проводник, из жителей этой деревни[134], чьи сани, нагруженные остальными моими вещами и провизией, тянули двенадцать псов. Меня сопровождал также г-н Шмалев со своей свитой; но вместо того, чтобы ехать вместе, как было условлено, до Гижиги, мы расстались через несколько дней.
Выехав из Пусторецка, мы спустились к заливу. Поначалу продвигаться было довольно легко; лёд был твёрдым и ровным, и через несколько часов мы достигли устья залива; там наше продвижение сопровождалось большими трудностями. Вынужденные ехать по льду вдоль берега моря, мы ежеминутно натыкались на горы льда, похожие на айсберги. Обойти их было невозможно, поворачивая и петляя; прерывистая цепь этих маленьких гор тянулась вдоль всего побережья и преграждала нам путь; у нас не было иного выхода, кроме как преодолевать их, опрокидываясь чуть на каждом шагу. Не раз в этих падениях я едва не получал опасное ранение. Мой мушкет, прикрепленный к саням, согнулся в дугу; все мои спутники получили ушибы, некоторые довольно сильные.
В сумерках мы прибыли в деревушку на берегу моря, состоящую из двух юрт и трех балаганов, все в очень жалком состоянии и совершенно заброшенные. Единственный человек, который жил в одной из юрт, в которую мы направились, сбежал перед нашим приездом[135]. Мне сообщили, что он был шаманом; при известии, что мы прибудем на следующий день, он охваченный ужасом, немедленно убежал к алюторцам[136], где, вероятно, будет ждать, пока не проедет господин Козлов.
Казак, сообщивший мне об этом, был послан господином Шмалевым вперёд вечером накануне нашего отъезда из Пусторецка с приказом остановиться в этой деревушке и постараться найти какой-нибудь тайный запас рыбы до нашего приезда. Эта предосторожность оказалась очень полезна. Казак, когда мы пришли, проводил нас в погреб, который, как мы обнаружили, был полон рыбы. Я взял приличную порцию, т.к. того, что я вёз с собой из Пусторецка, осталось только на два дня.
19-го числа рано утром мы продолжили наше путешествие. Этот день был ещё более утомительным, чем предыдущий. Путь был ужасен. Раз двадцать мои сани, казалось, вот-вот разобьются вдребезги, что наверняка бы и случилось, если бы я не решил, в конце концов, идти пешком. Так, по крайней мере, я избегал увечий при опрокидывании саней. Пришлось идти почти весь день; но, как оказалось, этим я лишь поменял одно несчастье на другое.
Через несколько часов ходьбы я так устал, что хотел было снова сесть в сани, но на первой же кочке они перевернулись, что совершенно охладило моё желание. Не оставалось ничего другого, кроме как тащиться пешком дальше. Ноги подгибались от усталости, я весь взмок, сильно хотелось пить. Снег был слабым облегчением, а больше мне нечем было утолить жажду. Тут, на свою беду, я заметил ручей и, не задумываясь о последствиях своей неосторожности, выломал кусок льда и сунул его в рот. Сделал я это на задумываясь, чисто механическими, о чём вскоре раскаялся. Жажда была утолена; но от чрезмерного жара, на который я только что жаловался, я перешёл к противоположной крайности: всего меня охватил сильный озноб.
С наступлением ночи меня стало сильно лихорадить, я так ослаб, что с трудом передвигал ноги. Я упросил своих спутников остановиться прямо посреди пустынной равнины. Они подчинились мне из чистой вежливости, так как добыть дрова в такой местности было настолько безнадёжно, что они предпочли бы продолжить путь. Того, что у нас было едва хватило, чтобы сложить костёр – это было несколько кустиков, таких зелёных, что их почти невозможно было заставить гореть. Как счастливы мы были, когда нам удалось всё же вскипятить на них чайник!
Выпив несколько чашек, я заполз в свою палатку[137], улёгся на подстилку, расстеленную на снегу, и укрылся всем, чем только мог, чтобы хорошо пропотеть. Но все было напрасно, и я не сомкнул глаз всю ночь. К мучениям сухого жара прибавилось гнетущее и беспокойное состояние, свойственное первым симптомам болезни. Признаюсь, я решил, что безнадёжно болен, когда, проснувшись, обнаружил, что не могу произнести ни слова. Сильно болело в груди и в горле; лихорадка не спадала; однако мысль о том, что оставаться в этом месте ещё на какое-то время не принесёт мне никакой пользы и что я могу надеяться на помощь только продолжением пути, заставила меня скрыть от господина Шмалева остроту моей болезни. Я был первым, кто предложил идти дальше, но в этом я больше полагался на свою выносливость, чем на физическую силу.
Я прошёл лишь несколько вёрст, когда моё состояние стало невыносимым. Я был вынужден сам управлять упряжкой и, следовательно, постоянно находиться в движении; из-за плохой дороги мне часто приходилось либо бежать рядом с санями, либо идти впереди и звать собак за собой. Каждый звук давался мне с мучительной болью, которая истощала силы и мучила мои лёгкие. Однако эти усилия, какими бы болезненным они ни были, оказались для меня полезными: я всё-таки вспотел и к вечеру мог дышать более или менее свободно, лихорадка прошла; я уже не жаловался ни на что, кроме сильного насморка, который прошёл через несколько дней. Эти изнурительные упражнения были единственным лечением, которое я использовал. Особенно я старался как можно сильно потеть, и убеждён, что именно этому я обязан быстротой своего излечения. Однако грудь у меня продолжала болеть ещё долго.
Всё это время нам не приходилось страдать от непогоды; воздух был тих, а небо безоблачно. Природа одарила нас самыми прекрасными зимними днями, иначе я, возможно, никогда бы не увидел своей родины. Небеса, казалось, благоволили нашему путешествию, чтобы я смог поскорее забыть о своей болезни.
Но самая живая радость сменялась иногда напоминанием о печальном, когда мы встречали по пути собачьи упряжки, посланные сержантом Кабешовым к господину Козлову. Эта караваны с провизией доставляли мне тем большее удовольствие, что я ни на минуту на забывал о том плачевном состоянии, в котором покинул коменданта. Это была прекрасная перемена в его положении! Он получит запас провизии вместе со ста пятьюдесятью собаками, хорошо накормленными и хорошо обученными! «Он сможет, – говорил я себе, – немедленно отправиться в путь», и если я не могу надеяться, что увижу его снова, то, по крайней мере, знаю, что он разрешит свои проблемы. Это, конечно, облегчало то беспокойство, которое я испытывал о нём.
Солдат, который управлял одной из встречных упряжек, предложил мне часть провизии, но я отказался. У него было её не так уж много, да и мы не нуждались. Поэтому я не стал его задерживать.
Перед тем как уехать, он сказал мне, что вождь каменских коряков Эйтель, которого обвиняли в мятеже, отправился в путь, чтобы убедить коменданта в ложности этих обвинений.
Продолжая свой путь, мы увидели за небольшой речкой, окаймлённой кустарником, цепь крутых гор, на которые мы поднялись, чтобы спуститься к другой реке, называемой Таловка. По мере приближения к морю она расширялась, её берега были покрыты густым лесом, я заметил в нём несколько довольно больших деревьев. Мы пересекли эту реку на значительном расстоянии от Каменного, чтобы пересечь обширную равнину и большое озеро; наконец мы пересекли реку Пенжина, почти в самом ее устье в направлении от юго-востока на северо-запад. Ширина реки здесь поразительна, а вид покрывавших его нагромождений льда, имевших чрезвычайную высоту, был бы ещё более живописен, если бы мы могли любоваться ими со стороны; но у нас не было выбора, и нам пришлось идти прямо через них, перетаскивая собак и сани через каждый торос. Трудность и медлительность такого способа передвижения легко понять; он требовал от меня предельного напряжения и осторожности, чтобы остаться невредимым.
До Каменного, куда мы прибыли 24-го числа перед полуднем, оставалось ещё около двух часов езды, когда нас с величайшей вежливостью встретили жители деревни. В отсутствие Эйтеля командование перешло к другому вождю по имени Эйла. Это он вышел нам навстречу вместе с русским отрядом. В деревне нас провели в юрту Эйтеля, которая была давно убрана и подготовлена к приёму господина Козлова.
Эйла выказывал нам всяческое уважение; у нашей двери постоянно стоял страж, которому было приказано пропускать к нам только тех, которым у нас не было причин не доверять. Это не было связано с сообщениями о восстании коряков – у нас не было сомнений, что оно было ложным[138]. Их отношение к нам и то, как они приготовились к приёму коменданта, ясно показывали, каково было их умонастроение. Неверно также и то, что это было следствием прибытия сюда солдат, посланных из Гижиги[139]. Их отряд был в таком состоянии, что трудно было рассчитывать на то, чтобы он внушил благоговейный трепет людям вроде коряков, которые, как я понимаю, слишком мало ценят свои жизни, чтобы их можно было запугать; и которых ничто не может сдержать, если у них есть хоть малейшее основание для недовольства.
Однако вид пушки и вооружённых казаков, вошедших в деревню, не объявляя о каких-либо враждебных намерениях, поначалу вызвал у них некоторую тревогу. Тотчас же подойдя к унтер-офицеру, командовавшему отрядом, они потребовали от него ответа, пришёл ли он отнять у них свободу и истребить их, и добавили, что если таков замысел русских, то коряки скорее умрут все до одного, чем покорятся. Офицер успокоил их, заверив, что появление отряда в деревне не должно их тревожить; что они были посланы встретить господина Козлова, что в силу его звания предписывалось военными уставами России. Этого объяснения было достаточно, чтобы рассеять их подозрения, и коряки и русские жили вместе при полном взаимопонимании. Доверие коряков было так велико, что они не приняли никаких мер предосторожности на случай внезапного нападения на них и не обратили бы никакого внимания на постоянное пребывание солдат среди них, если бы не голод, который сделал таких гостей весьма обременительными.
Я намеревался задержаться в Каменном не дольше, чем это было необходимо для отдыха собак, но в ночь на 24-е небо затянуло тучами, а сильные порывы ветра возвестили о надвигающейся буре; опасение встретить её в открытом поле заставил меня отложить отъезд.
Этот острог находится в трехстах верстах от Пусторецка и расположен на возвышенности морского берега, близ устья реки Пенжины. В нем двенадцать юрт и много балаганов, все они очень большие и построены так же, как и те, что я уже описал. Хотя жилища эти расположены довольно близко друг к другу, деревня занимает значительное пространство. Её окружает частокол, который выше и толще, тех, что окружает камчадальские остроги. Оборона также усилена копьями, луками и стрелами, и даже мушкетами. Внутри этих своих убогих укреплений коряки считают себя неприступными. Здесь они отбивают атаки своих врагов, в том числе и чукчей, которые являются самыми грозными из их соседей как по численности, так и по храбрости[140].
Население Каменного едва ли превышает триста человек, включая мужчин, женщин и детей. Я ничего пока не скажу о нравах местных жителей до моего прибытия в Гижигу, которое, надеюсь, произойдёт через несколько дней.
До отъезда я осмотрел дюжину байдар разных размеров, похожих на те, о которой я упоминал при описании Хайлюли, за исключением того, что они были легче по весу, объёмнее и лучше построены. Многие из них могли вместить от двадцати пяти до тридцати человек.
С самого нашего приезда господин Шмалев предвидел, что не сможет сопровождать меня в дальнейшей поездке. Осаждаемый с утра до вечера целым отрядом солдат, приходивших сообщить ему о своих неотложных нуждах, он считал своим долгом не оставлять их, а употребить все средства, которые давала ему его должность и знание вверенного ему края, чтобы обеспечить им помощь. Ему не терпелось поскорее добраться до Гижиги, где его давно ждал брат, но он все же решил отпустить меня одного.
Он с сожалением сообщил мне об этом обстоятельстве и в то же время дал мне надёжного солдата по имени Егор Голиков[141]. Он сказал, что этот человек – ценный подарок, и в дальнейшем я убедился, что он говорил чистую правду.
Мне жалко было так скоро расставаться с этим добрым и доблестным офицером. Я бы с радостью и благодарностью повторил здесь то, что англичане писали о его душевности и вежливости; но оставлю графу де Лаперузу удовольствие вернуть тот долг, который каждый участник экспедиции обязан господину Шмалеву за все услуги, которые он нам оказал.
Я выехал из Каменного в восемь часов утра 26-го марта, при довольно спокойной погоде. Через пятнадцать вёрст мы пересекли горную гряду, которую прежде проходили с этой стороны деревни и затем переправились через реку Шестакова, названную по имени урядника, который был убит там во главе отряда, посланного для того, чтобы усмирить взбунтовавшихся коряков. Коряки захватили их врасплох под покровом ночи на берегу реки и не дали ни одному человеку спастись бегством: все русские были убиты. Мы остановились на этом месте на ночлег.
Меня разбудили порывы ветра, дувшего с невероятной силой. Тучи снега застилали небо до такой степени, что трудно было различить, день это или ночь. Несмотря на ураган, я решил пуститься в путь, но не мог убедить своих проводников даже попытаться сделать это. Они упорно не соглашались идти, опасаясь заблудиться в такую плохую погоду.
Получив отпор со всех сторон, я удалился в свою палатку в не очень приятном расположении духа. В полдень, однако, я был утешен прибытием семи чукчей. Они приехали в санях, похожих на сани кочевых коряков, и были точно так же запряжены оленями. Я принял их в своей палатке и предложил остаться, пока не стихнет буря. Насколько я мог судить по их довольным лицам, ничто не могло бы польстить им больше, чем это моё приглашение.
Среди моих гостей был вождь по имени Тумме. Он поблагодарил меня за приём, который я им оказал, и заверил меня, что с тех пор, как они услышали обо мне, они ничего так страстно не желали, как знакомства со мной, и очень боялись упустить такую возможность. Он добавил, что они никогда не забудут ни меня самого, ни моей доброты и что они расскажут об этом всем своим соплеменникам. Я отвечал им выражением самой горячей благодарности, сообщив, что уже знаком с их любезным интересом ко мне и что я не менее желал этой встречи.
После этой необходимой прелюдии мы поговорили на общие темы, в основном о наших родных странах. Их любопытство не уступало моему, и время шло в бесконечных вопросах. Когда я сказал им, что, возвращаясь во Францию, я буду проезжать через город, в котором живёт их государыня, они попросили меня рассказать ей о них и положить к её ногам дань их уважения и покорности. Они уверяли, что тем более счастливы быть данниками России, что с каждым днём находят русских более доступными и добрыми. Они говорили с особой похвалой о господине Гагене[142], коменданте Гижиги.
Доброта, которую они открыли для себя в русских, заставила их пожалеть о том, что у них не было возможности поддерживать более частые отношения с этим народом. Для этого было бы хорошо, говорили они, чтобы царица снова учредила свое представительство на реке Анадырь. Они обещали, что не будут больше мешать поселенцам, а будут стараться всеми средствами убедить их забыть о несправедливостях, которые они чинили русским в прошлом. Происшедшее возникло в результате ошибки, от которой они пострадали так же, как и коряки, поскольку раньше считали, что все русские только и хотят, что поселиться на их территории и по соседству. По естественному чувству ревности они считали этих многочисленных иммигрантов своими противниками, чьё ремесло и деятельность были для их странными и подозрительными; и они посчитали, что самое главное, что нужно сделать – это избавиться от незваных гостей, убеждённые в том, что, истребив этих поселенцев, они уничтожат весь народ.
Чукчи утверждали, что поняли свои ошибки и свою глупость, как только хорошо познакомились с русскими. Напрасно их теперь уговаривают восстать, ибо они, напротив, склонны противодействовать мятежным интригам князя чукчей Херорги[143] – либо ограничив его власть, либо даже выдав его русским.
Не имея возможности понять, в какой части Земли я родился, они спросили меня, не находится ли моя страна по ту сторону большой реки. Прежде чем ответить им, я хотел понять смысл вопроса и обнаружил, что по их представлениям за пределами России, о которой они сами мало что знают, есть очень большая река, которая отделяет её от другой страны, населённой другими людьми.
Нелегко было мне объяснить им устройство мира. Я долго говорил, но они не поняли ни единого слова из моей лекции по географии. Они не имели точного представления о числах и расстояниях. Не менее трудно было дать им представление о силе государств, о богатстве и могуществе их правителей. Они никогда не пытались оценить в этом смысле даже Россию. Чтобы дать им возможность судить о ней, я должен был как-то показать изобилие её товаров, её денег и её населения, сравнивая их с числом животных, на которых они охотились, и количества рыбы, которую они ловили каждый год. Это объяснение, в котором я постарался соответствовать их уровню восприятия, чрезвычайно им понравилось. Таким же образом я решил дать им представление о том, как сравнивать расстояния. Я начал с небольшого примера, и, взяв лист бумаги, начертил что-то вроде географической карты, на которой как мог точно обозначил положение России и Франции по отношению к их провинции.
Не без некоторого труда я добился, чтобы меня понимали. И был за это вознаграждён тем интересом и вниманием, с которым меня слушали. Вообще я был поражён их понятливостью и устремлённостью к приобретению знаний. Превосходя в этом отношении коряков, они, по-видимому, также признают в основном только то, что слышат и видят сами. У этих двух народов почти одинаковый язык; разница лишь в том, что у чукчей я обнаружил привычку растягивать окончания слов, и произношение у них медленнее и благозвучнее, чем у коряков. С помощью моего проводника, который служил мне переводчиком, я довольно сносно поддерживал беседу.
То внимание, с которым я рассматривал их одежду, побудило их увидеть французский костюм[144], и я приказал вынуть из багажа мой мундир. Восторг их было полным! Всем не терпелось прикоснуться к нему и выразить своё восхищение его необычностью и красотой. Пуговицы с гербом Франции подверглись особому осмотру, и мне пришлось заново напрячь свою изобретательность, чтобы доходчиво объяснить им, что это такое и каково его назначение. Но не успел я договорить, как они нетерпеливо стали упрашивать меня дать им каждому по пуговице. Я согласился в обмен на обещание бережно хранить их. Смысл обладания пуговицами состоял в том, чтобы использовать их в качестве дружеского знака, который они могли бы показывать чужеземцам, появляющимся на их берегах, в надежде, что среди них окажется француз.
Их соплеменники несколько лет назад видели англичан. «Почему же, – говорили они, – нас не навещают французы? Они могли бы рассчитывать на то, что мы встретим их с радостью и сердечностью». Я поблагодарил их за любезность и объяснил, что расстояние является непреодолимым препятствием, и оно не позволит нам часто пользоваться их добротой. Между тем я обещал как можно подробнее рассказать об их племени во Франции, как только прибуду туда.
Я угостил их, насколько мог, табаком и, не имея больше ничего, что бы доставить им ещё удовольствие, мы расстались самым дружеским образом. Уезжая, они сказали, что я, вероятно, скоро увижу упряжки с их жёнами, которые отстали, позволив мужьям ехать быстрее.
Вскоре после отъезда чукчей ветер стих, и мы продолжили свой путь.
На следующий день, в тот самый момент, когда мы уже собирались остановиться на привал, выбрав удобное место на опушке леса, я увидел далеко впереди большое стадо оленей, пасущихся на вершине холма. Приглядевшись повнимательнее, я различил несколько человек, которые, по-видимому, охраняли их. Сначала я колебался, следует ли мне встретиться с ними или, наоборот, избегать их, но в конце концов любопытство взяло верх, и я поехал к ним.
Мне сказали, что надо ехать вдоль опушки леса. Однако я предположил, что в самом конце меня всё ещё будет отделять от них река, небольшую протоку которой я пересёк четверть часа назад: а в этом месте она была довольно широка. Пока я рассматривал этих людей через реку, ко мне подошли две женщины, которые проходили мимо. Старшая из них заговорила со мной. Каково же было моё удивление, когда я услышал, что они говорят по-русски! Они сообщили мне, что я нахожусь всего в двухстах ярдах от лагеря чукчей, которого не видно отсюда из-за леса. Спустившись к реке, я увидел их жилища и попросил женщин проводить меня к ним.
Пока мы шли, я спросил их, откуда они родом, так как их акцент говорил о том, что они не родились и не всегда жили среди этих людей.
Одна женщина сказала, что она русская, а кочевать с чукчами была вынуждена из чувства материнской любви. Опасности, изнурительная работа, жестокое обращение – на все это она отважилась ради того, чтобы вернуть дочь, которую чукчи удерживают в качестве заложницы. Она потеряла её следующим образом.
Эта молодая женщина вместе со своим отцом и несколькими другими русскими путешествовала два года назад по реке Пенжине. Их отряд, состоявший из девяти человек, спокойно кочевал среди коряков, которые в то время враждовали с племенем чукчей во главе с тем самым Херорги, о котором я уже писал. Чтобы избавиться от своих опасных соседей, коряки задумали откупиться от них этими русскими[145], сообщив чукчам об их местонахождении. Хитрость удалась. Рассчитывая на большую добычу в виде железа[146] и табака, чукчи напали на путешественников. Их мужество не могло спасти их, и четверо из них, с оружием в руках, стали жертвами безнадёжного сопротивления. Муж этой женщины был убит, защищая свою дочь, которую завоеватели унесли вместе с тремя оставшимися товарищами по несчастью. Русские постоянно требовали выдачи этих пленников, и чукчи обещали отправить их обратно, но только двое из них были освобождены.
Трогательный рассказ несчастной матери, который часто прерывался слезами, решительно привлёк меня на её сторону. Я не знал, сможет ли моё заступничество оказать ей какую-нибудь помощь, но чувствовал, что готов просить за неё. Я был рад, что в конце концов мои усилия не пропали даром.
Другая женщина рассказала мне, что по рождению она чукчанка. В младенчестве русские привезли её с Анадыря в Якутск, где ей дали самое лучшее образование. Впоследствии она вышла замуж за солдата, но через несколько лет осталась вдовой. Наконец по распоряжению правительства она была отправлена вместе с детьми обратно к чукчам, чтобы она рассказывала им, как многим она обязана русским. Ей было рекомендовано сообщать чукчам, даже самым отдаленным[147], мельчайшие подробности, и намекать им на бесчисленные преимущества, которые они могли бы иметь от установления мирной торговли с русскими.
Эта женщина с одинаковой лёгкостью говорила на русском, якутском и чукотском языках. Она сказала мне, что те немногие знания, которые она получила благодаря своему образованию, сделали её в некотором роде достоянием своих соотечественников; что она уже воспользовалась своим влиянием, чтобы развеять некоторые из их предрассудков, и льстила себя надеждой, что постепенно они поймут свою выгоду от общения с русскими. Её надежды основывались главным образом на характере этого народа, который, как она уверяла меня, был очень щедрым, гостеприимным, мягким и во всех отношениях предпочтительным по сравнению с коряками.
Разговор с женщинами настолько захватил меня, что я не заметил, как оказался в лагере чукчей. Радость их при виде меня была необычайной, в одно мгновение меня окружили и стали все разом уговаривать остаться у них ночевать. Мой ответ, что я так и собираюсь сделать, был встречен новыми возгласами одобрения. Я распорядился поставить свою палатку на краю лагеря и пригласил вождей посетить меня, как только она будет готова. Они не заставили себя ждать, и когда я зашёл в своё убежище, там уже было столько людей, на сколько это жилище и не было рассчитано.
Как только отзвучали необходимые приветствия и комплименты, мы приступили к переговорам, желая каждый узнать то, что нас интересовало. Мы кратко рассказали друг другу о наших странах, нравах и обычаях; вопросы, которые они мне задавали, были почти такими же, как у Тумме и его спутников. Они выражали свою подчинение России, свое желание торговать с этой страной и чтобы русские вернулись на Анадырь. Затем они подробно рассказали о своём путешествии. Они ехали в Гижигу посетить своих родственников, которые вступили в брак с русскими и поселились там. Был также, вероятно, и какой-то коммерческий замысел, хотя, по их словам, привязанность к своим соплеменникам была единственным мотивом; и в действительности я заметил, что они очень внимательны к той женщине-чукчанке и ласковы с её детьми.
Они настойчиво упрашивали меня выбросить из головы всякую подозрительность и положиться на их дружбу. Они, по-видимому, полагали, что я так же скрытен, как и русские в своих сношениях с ними; но, не имея таких же причин бояться их, я был чужд подозрительности. Я пояснил им, что, по-моему, если я не желаю плохого никому из тех, кто встречается мне на пути, то и мне никто не станет строить козни, особенно люди из народа, чья вежливость и порядочность были мне уже известны. Такой образ мыслей пришёлся им по душе, и они, казалось, были польщены моей уверенностью. Я, конечно, подумал, что мне следует убрать оружие и отвергнуть предложение солдат поставить часового у моей палатки.
Я угостил табаком самых знатных из моих гостей и угостил их чаем и ржаными сухарями. Со мной остались ужинать их вождь по имени Чегуяга[148], обладавший тем же полномочиями, что и Тумме, две его родственницы и две женщины, служившие переводчицами. Трапеза была очень скромной, но весёлой, и мои гости остались довольны, как если бы это был роскошный ужин. Наконец, было уже поздно, нам надо было отдохнуть, и мы расстались.
Как только я остался один, я воспользовался случаем записать то, о чём мы говорили, а также мои собственные наблюдения.
Лагерь этих чукчей был разбит на берегу реки, позади леса, о котором я упоминал. Там стояло около дюжины палаток, выстроенных вдоль берега. Они были квадратной формы и сделаны из оленьих шкур, подвешенных на кожаных ремнях к четырем шестам, укреплённым по углам. Связки копий и стрел, воткнутых в снег перед каждой палаткой, по-видимому, охраняют вход[149]. Он очень низок и закрывается плотно, без щелей. В палатках очень жарко. Так как обшивка и перегородки сделаны из оленьей кожи, то воздух не может проникнуть внутрь, кроме того, в середине каждой из них есть очаг. Что касается спальных мест, то они напоминают камчадальские, которые они устраивают на привалах, и состоят из веток, разложенных на снегу, как подстилка, и покрытых оленьими шкурами. Вся семья спит здесь вместе, без различия пола и возраста. Пространство палатки настолько малое, что просто удивительно, как на нём может уместиться столько людей. Испарения и грязь от такого количества человеческих тел невыносимы; тем не менее обитатели не испытывают никакого отвращения при виде своей пищи и питья среди самых омерзительных вещей, а леность и беспечность их не описать никакими словами.
Среди чукчей этого стойбища, которых насчитывалось около сорока, было пятнадцать или шестнадцать женщин[150] и почти столько же детей, занятых приготовлением пищи и установкой палаток. У каждого главы семьи есть слуги, которые присматривают за оленями и охраняют их по ночам от волков, которыми изобилуют эти места.
Одежда женщин очень примечательна. Он состоит из цельной оленьей шкуры, которая начинается вверху отверстием вокруг шеи и заканчивается внизу штанами ниже колен. Это одеяние надевается через шейное отверстие, и нет другого способа снять его, кроме как ослабить завязки, которые связывают его под подбородком, тогда оно мгновенно спадает с тела и оставляет женщину обнажённой. Неудобство такого одеяния легко представить, когда надо часто разоблачаться. Когда они путешествуют, то надевают поверх обычной одежды кухлянки, на ногах у них нет ничего, кроме сапог, сделанных из шкурок с ног оленя. Волосы у них тёмно-чёрные. Иногда они завязывают их сзади пучком, но чаще разделяют на лбу и заплетают двумя длинными косами по бокам. Уши и шеи женщин украшены разноцветными стеклянными бусами. В холодное время капюшон их одежды служит им головным убором.
Внешность их отнюдь не приятна; черты лица грубые, хотя нос не плоский, а глаза не запавшие, как у камчадалок. В этом отношении они похожи на них меньше, чем корякские женщины. Они также выше их ростом, но не стройнее. Толстая и объёмная одежды придаёт им довольно неуклюжий вид. В то же время они выполняют самую трудоёмкую работу, такую как разведение огня, рубка дров, доставка воды и другие, необходимые в домашнем хозяйстве. Эти заботы ложатся главным образом на пожилых.
Черты лица мужчин кажутся более правильными и совсем не азиатскими. Цвет лица у них, как и у женщин, очень смуглый, а одежда, сани, да и всё остальное точно такое же, как у кочевых коряков. Я воспользуюсь этим, чтобы описать их вместе.
Эти чукчи каждый год ездят в Гижигу. Они покидают свой край в начале осени и прибывают в этот острог только в марте. Как только их дела закончены, что требует всего нескольких дней, они отправляются в обратный путь, чтобы не упустить преимущества путешествия на санях, но редко достигают родных мест до конца июня.



