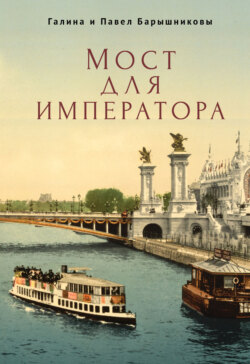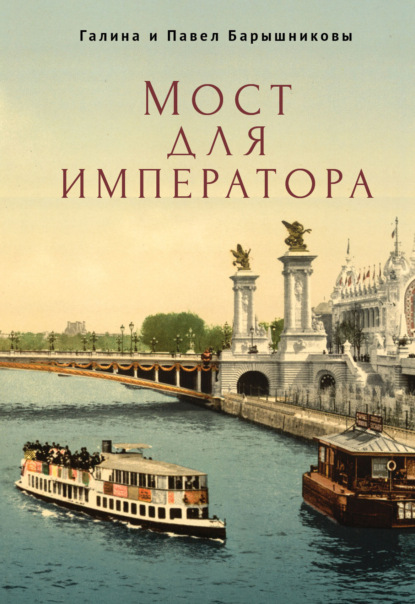– Ну, ничего себе! И все это теперь находится в вашем пользовании? Ваня окинул взглядом уютное жилище Галамов. Но, несмотря на всю добротность, этот коттедж нельзя было назвать дворцом.
– Вы думаете, что я стал наследником всего рода? – засмеялся Галама, и плечи его мелко затряслись. – Да мы с Татьяной до сих пор с долгами расплатиться не можем за этот дом. До революции семнадцатого года дворец благополучно дожил, а потом…
– Что потом?
– Как всегда. Причем Вере Ивановне удалось покинуть Россию и вывезти с собой многие реликвии во Францию…
– Реликвии… во Францию? – глаза Ивана округлились и на миг он почувствовал себя Глебом.
– И там они благополучно пропали. Так что, молодой человек, сокровища Российской империи навечно канули в недрах земли, рождающей революции, бунты и захватнические войны.
В гостиную быстрым шагом вошла Татьяна Николаевна.
– Так, молодые люди, часы пробили трижды…
– И что? – Михаил Юрьевич даже снял очки и посмотрел на жену так, словно бы впервые ее увидел.
– Гости приглашены к трем.
– И что?
– Нужно накрывать столы, господа.
Ваня с восхищением думал, ворочая столы, как этой маленькой женщине удавалось так легко двигать тремя огромными мужиками. И тут, как горох, посыпались из спальни выспавшиеся дети. Они быстро, по указке матери, расставляли посуду, и уже через десять минут, к приходу гостей, столы были идеально накрыты. И чего только на этих столах не было. У Вани слюнки побежали… «Всё. – решил он. – Жениться. Срочно.» И вдруг понял, отчего так залюбовался этими рыжими детками. Это его ожившая мечта. И зачем только он отпустил Майку в санаторий с мамой? Да на все праздники. Вот после Галамы бы и поехали…

Рождество прошло, как подарок детства. Пришли гости: молодые супруги Василий и Диана со своими детками – Василисой и Елисеем. Сказочные существа. Потом – еще одна пара с внучкой тех же лет; бабушка Вера Алексеевна, ставшая наставницей детям семейства Галамы, и начались хороводы, подвижные игры за первенство стула и что-то еще, так что Ванька вконец убегался и сытым счастливцем свалился на диван. И вот тут-то его настигла сказка. Сначала спектакль показали хозяйские дети, потом гости – свой, кукольный, и последним аккордом было общее показательное выступление всех ребятишек. Так смеяться ему уже давно не случалось. Вечером, ложась спать в этой же гостиной на одном диване с отцом, Иван поблагодарил:
– Спасибо, па. Как это здорово, когда столько детей. – Потом сладко зевнул, и повернулся к стенке.
– Эх ты, Ванька, Ванька. Это Галамам спасибо за обыкновенное Рождественское чудо. – Отец заботливо укрыл сына одеялом, прислушался. – Спишь что ли?
А Иван уже смотрел продолжение сегодняшних сказок…
Глава 16. Кремлёвские сокровища Наполеона

И вот пришла весна. Теперь Ваня даже слышать ничего не хотел о трофеях 1941 года, его занимали только сокровища Наполеона. Более того, его вообще перестали интересовать любые эпохи, кроме наполеоновской. Преподаватель чуть с ума не сошел, когда узнал, что Иван Купцов поменял тему не только курсовой работы, но и диплома. Теперь она звучала так: «Два великих полководца: Кутузов и Наполеон. Сравнительная характеристика, историография и наследие». Но, слава Богу, после долгих споров на кафедре, тему Ване все же утвердили. А предыдущая, «немецкая» работа, зачлась как реферат, сданный на «отлично». Обошлось.
Иван высчитал все возможные варианты, где можно искать сокровища великого императора, самостоятельно рисовал карты, а потом вдруг обнаружил в продаже уже готовые карты Гурцко. «Вот это да, – подумал юноша, – на типографский поток поставили, – ловко!» Значит, конкуренция нехилая, не один он такой охотник за древностями. А вскоре он и сайты разыскал, где ребята на форумах сколачивают команды и выезжают целенаправленно на раскопки. «Надо торопиться», – думалось ему, и под лопатками уже начинало почесываться – вырастали крылья. Апрель подходил к концу, земля обсыхала, пора было делать облет ближайших территорий.
«Давай анализировать, размышлял Иван вслух, пересекая комнату из угла в угол. Где Наполеон спрятал сокровища Кремля? Где? Времени у него на это не было, Кутузов наступал ему на пятки, французы бежали до самой Березины со своими обозами, а потом… Стоп. Давай – ка сначала и подробнее…
Французская армия покинула Москву 7 октября по старому стилю, 20-го по-новому.
Среди многочисленных обозов с военным имуществом были и кремлевские сокровища Наполеона. Но… До Парижа драгоценный груз так и не доехал сгинул где-то по дороге. А где? Все пути известны и прочерчены, вот они, у него на столе… Но ведь архивы говорят, что из Москвы было вывезено более 5 тонн серебра и почти 300 кг золота. Это опытные французские саперы непобедимой армии переплавили громоздкие украшения кремлевских соборов. Для пополнения императорских музеев увозились и русские святыни, хранившиеся в Успенском и Архангельском соборах Кремля: часть Креста, на котором был распят Спаситель, ковчег с десницей апостола Андрея Первозванного, Иерусалимская икона Божией Матери… В Лувр должны были попасть трофейные знамена Турции, Речи Посполитой и доспехи из Оружейной палаты. Кроме того, из Кремля пропало много более мелких, но очень ценных предметов. Где они? Это не шутка столько везти с отступающей армией. Доподлинно известно, что ценного груза было 25 повозок, вместе с армейской казной, имуществом генерального штаба и личным обозом Наполеона. Две повозки с самой ценной частью московских трофеев охранял отряд под командованием младшего лейтенанта Марселлина.
Иван почесал затылок. Голова гудела.
14 ноября началось сражение на Березине, в результате которого армия Наполеона фактически перестала существовать. Потери составили примерно 45 тысяч человек. Русским достались 22 пушки, 4 знамени и все обозы. Повозок с московскими сокровищами среди них не было. Уже не было!
Ага. Значит нам известен краткий интервал с 7 октября по 14 ноября и маршрут: Москва – Березина. Уже что-то, – подумал Иван. Из Москвы сокровища убыли, а в Париж так и не прибыли, как будто в воду канули. Именно под водой их и искали многочисленные кладоискатели, начиная с 1813 года. На пути отступления великой армии не было, пожалуй, сколько-нибудь заметной реки или озера, в которых не велись бы безуспешные поиски: Семлевское озеро под Вязьмой, Днепр в районе Орши, озеро Стоячее в Белоруссии, река Березина…
Иван засмеялся. Нет, в воду нырять он не нанимался. Искать нужно под землей!
Стоп. Он кинулся к компьютеру. Вот недавняя статья: обнаружен список трофеев Кремля, опись сокровищ. Насколько известно, предметы из этого списка на аукционах не выставлялись, в музейных и частных коллекциях не фигурировали и вообще никаким образом не проявлялись. И что мы из этого имеем? А то, что они до сих пор находятся где-то на территории России или Беларуси. Нет. В Белоруссию ему ехать совсем не хотелось. Старая Смоленская дорога ему нравилась куда больше. Он пощёлкал клавишами. Так, что мы ещё имеем? Документ. А что он нам сейчас скажет? И Ваня громким голосом огласил: «Состояние предметов, отправленных во Францию в качестве трофеев во исполнение указов Его Императорского Величества…» Та-ак, вот переписка по этим вопросам председателя комиссии по розыску ценных предметов барона Сен-Дидье: «Маленький крест, украшенный цветными камнями… Четыре маленькие ложечки… Золотая чаша… Икона Святой Девы, покрытая золотом, с короной из бриллиантов… Различные цветные камни… Семь предметов старинных доспехов… Флаги, знамена, штандарты…»
– Неплохо-неплохо, – раздался за спиной Ивана звучный голос отца. – И много там твоих сокровищ?
– Привет, па. – Ваня протянул отцу руку. Ладонь у отца была крепкая, сухая и теплая. Сын с детства любил это сильное, надежное рукопожатие. – Да вот тут перечислено всего 26 единиц хранения.
– И ты думаешь все это разыскать?
– Попробую.
– Ну, в путь.
– Мы знаем, что все сокровища были переправлены на правый берег Березины. То есть они могли быть спрятаны на правом берегу Березины в районе, где на тот момент находилась императорская ставка. Я считаю, что в ночь с 15 на 16 ноября Наполеон отдал приказ затопить трофеи в ближайшем к ставке водоеме.
– Но, это не российская земля, ты отдаешь себе отчет? – поинтересовался отец.
– Да, пап. Но. Есть предположение, что и в Смоленской области, на Семлевском озере, под Вязьмой, спрятаны немыслимые сокровища. И знаешь, чьи это сокровища?
– Неужто твои?
– Наши. В этом озере, поздней осенью 1812 года Наполеон утопил свою огромную добычу.
– Прям-таки огромную.
– И даже золотую царскую карету.
– Карету?
– Да! Старинное оружие, воинские доспехи…
– Да. Бежать с таким багажом было не сподручно. И удирать от наших доблестных войск тоже.
– Пап, я бы тебя попросил. – Иван встал во весь рост за своего оскорбленного героя. Но отец на то и отец, чтобы быть выше.
– Да-да. И преследовали «гостей» по пятам, да и партизаны давали «прикурить». – Пётр Федорович сегодня явно был в ударе.
– У него оставался один выход: спрятать их до лучших времен. – Не сдавался Ваня.
– А ты думаешь, что он надеялся вернуться?
– Я уверен, что он на это рассчитывал. Не оставлять же золото-бриллианты у Смоленской дороги? Так или иначе, но однажды ночью императорский обоз исчез. Тогда-то и пошел слух, что в качестве тайника Наполеон выбрал Семлевское озеро. Оно лежало в стороне от тракта, по которому отступали французы. Я думаю, что он думал…
– А он думал, что ты думаешь…
– Пап. Я читал его письма, его мемуары, я знаю ход его мыслей. Он думал, что окружающие озеро болота должны стать естественными барьерами прежде чем он вернётся за кладом в негостеприимную Россию.
– Скажите, пожалуйста. А кто его в гости-то приглашал? Его никто и не звал, сынок. С чего бы нам быть гостеприимным к этому европейскому сброду?
– Пап.
– А ты разве в своих этих мемуарах не вычитал, как он всю Европу как стадо погнал на наши пастбища?
– Читал.
– Так-то. И что там с твоими сокровищами? Смоленск – это же по нашей дороге…
Отец на радостях, что сын перестал искать взрывчатку минувшей войны, был готов разрешить ему искать хоть сокровища Юлия Цезаря, хоть Александра Македонского, хоть самого Аттилы.
– Пап, точных сведений нет. И все же слухи об утопленных сокровищах появились.
– И кто-нибудь что-нибудь нашел?
– Несколько лет назад группа наших ребят…
– Наших?
– Ну, да… из Москвы. Они извлекли из озера немало металлических предметов, но никакого отношения к императорскому кладу они не имели.
– Ну, понятно, тазики, сковородки, затонувший комбайн…
– Отец. Есть результаты разведки: приборы показали, что в некоторых местах на дне встречается металл.
– Ага. Еще пара тракторов и полдюжины сковородок. Или фюзеляж самолета.
– Нет, не смейся. Па, я тщательно разрабатываю план, мне нравится эта мысль, смотри, у меня есть еще дубль.
– Дубль?
– Ну да. Смотри, в мои руки попалась карта отступления Наполеона по Старой Смоленской дороге. На этой карте четко обозначено место, где утонула золотая карета императора.
– Прям точно, с крестиком и надписью: «Для моего потомка – Ивана Купцова. И подпись: Наполеон».
– Точно так, пап. – Ваня улыбнулся. – Ты не поверишь, но Наполеон, может быть, скрыл награбленные богатства в озере Сапшо.
– И что?
– И мы сейчас с Глебом создаем группу, которая займется поиском сокровищ. Нашли на форуме чувака одного из Симферополя. Опыт поиска объектов на большой глубине у него есть: около Херсонеса он с друзьями нашел четыре галеры XII века, снял пушки, и сегодня в Херсонесе создан целый музей, основанный на поднятых ими со дна моря реликвиях.
– Сильно. Я всегда тебе говорил, – Уже серьезно добавил отец, – что главное – это команда и профессионализм. Но… Насколько велика вероятность того, что карета Наполеона находится именно в Сапшо?
– Мы проверили показатели проб воды и проделали определенную работу, есть данные измерения магнитного поля над водной поверхностью. Понимаешь, очень уж чистая здесь вода. Обычно озера на Смоленщине илистые, мутные, ты как ихтиолог это знаешь, но только не Сапшо. Смотри, пап, известно, что концентрация в воде благородных металлов дает эффект очищения воды.
– Так.
– Здесь вода чистая, а рядом, в остальных озерах, – мутная.
– Загадка.
– Еще какая.
– Но ты не сильно рассчитывай, с той поры много воды утекло, – охладил Ивана отец.
– Ты это о чем?
– Земля что надо берет и что надо возвращает.
– А вода?
– А под водой тоже земля. В ил все уходит и когда нужно будет тогда и вернется.
– А, может, и к нам, а, пап? Как думаешь?
– Почему бы и нет?
Глава 17. Неизвестные страницы известной войны

Жизнь все же удивительная штука. И все в ней происходит совершенно сказочным образом, нужно только позволить себе это увидеть. Взялся Иван за тему Великого Наполеона, втянул в круг своих интересов, забот и знаний любимую девушку, отца, друзей… И дальше все стало происходить, как в сказке, словно бы он открыл магический ларец, этакую ловушку для сокровищ, настроил его, и посыпались ему с неба именно эти дары. Куда бы Ваня ни приходил, везде что-нибудь, да говорили на эту тему: телевизор ли включал, мимо ли кто прибегал и слово сказывал – всё об одном. А уж о фильмах, книгах и дисках – говорить не приходится.
Вот как-то случилась командировка в Москву у Сергея Викторовича Ильина – однокурсника Петра Федоровича. Был он веселым, кряжистым лесником с университетским образованием, с озорными карими глазами и дремучей бородой, пахнущей ароматным табаком.
Ильину на время командировки полагалось общежитие, но он первым делом позвонил Петру, своему старому университетскому другу. Не виделись они, поди, уж лет десять. Всё дела да заботы: сначала у Сергея проблемы были в семье и по службе, потом Петя умотал в экспедицию во Вьетнам гигантских креветок растить – так и не встретились. А теперь Сергей, как прознал о командировке в Москву, так первым же делом открыл свою старую потрепанную телефонную книжку и набрал номер Купцова.
– Алло?
Голос у Петра совсем не изменился, любо – дорого слушать: молодой, звонкий, даром что ли в юности пел в школьном, а потом и в студенческом хоре. Да и свои песенки посочинять любит.
– Ну, здорово, Петь! – как обычно приветствовал Серёга своего закадычного дружка. И не важно, что дружок-то уж сед, да и сам Сергей белой платиной покрылся, что и говорить, за полтинник обоим.
– Серьга!? Сережка, ты? – совсем по – юношески обрадовался Петр. – Ты где? В Москву что ли приехал?
– Да дома я, в лесничестве, а вот послезавтра надеюсь быть у тебя, в Златоглавой. Пустишь на постой?

– И ты еще спрашиваешь? Адрес-то помнишь?
– Наощупь…
– Ну, тогда записывай, чтобы наверняка, без навигатора. Сам дойдешь или тебя встретить?
– Встреть, пожалуйста. А я вам гостинцев прихвачу поболее. Сам уж не дотащу, после операции я.
– Что так?
– А вот при встрече мы с тобой все и перетрём.
И встретились. И понеслось: ночи воспоминаний, старые фото, общие песни… Сергей привез домашнего медку, лосятины, трав к чаю, и стала у Петра не кухня, а просто какая-то избушка лесника.
Слово за слово, рюмочка за рюмочку, вот они всё понемногу и рассказали друг другу. А Иван – тут как тут, развесил уши, аж рот открыл.
– А ты помнишь Лешку Смолина, с филфака?
– Ну?
– Так профессор уже.
– Да ну!
– А ты помнишь, как он… Кстати, Иван, ты знаешь, что твой папа артиллерист? – обратился Сергей к юноше.
– Да. И мой дед Федор был артиллеристом в Великую Отечественную.
– О как! А папка рассказывал тебе, как Смолин на военке по стрельбам «пять» за экзамен получил?
– Нет.
– Так слушай. Приехала проверка из Министерства обороны проверять военную кафедру нашего университета, который мы с твоим папой в свое время заканчивали. И вот устроили этой комиссии показательные стрельбы. Как раз были сборы наших четвертых курсов. Понятно, что выбрали лучшего по стрельбам, им оказался Лешка Смолин. А сборы проходили на стрелковом полигоне под Ровно. Ну вот, Леха, значит, на КП, с комиссией, и всем составом военной кафедры. А в нескольких километрах от них, на боевой позиции около 122-миллиметровой гаубицы, – лучший расчет. Кстати с нашего биофака. Петь, помнишь? Зайцев, Фейдерман, Бураль Коля, Толик этот… ну как же его, Петь?… Ну ладно. А 122 миллиметра – это тебе не игрушка, как жахнет – оглохнешь. Вот, значит. Посчитал Смолин, прикинул, где цель, где гаубица, где КП, и выдал координаты цели. Ну, вроде проверили – нормально. Ну что, как положено, передали на позицию. И дали команду: «Огонь.» И тут вдруг… – Сергей прищурился и поглядел на Ивана. Тот сидел не шелохнувшись. – Смолин так тихонько подбегает к начальнику военной кафедры и на ушко ему что-то шепчет. А сам бел, как мел. И тот враз побелел, подбегает к генералу: «Товарищ генерал, сейчас снаряды будут на КП!». Как все дрыснули оттуда. И только – только успели, ка-а-ак жахнет. От КП – одна воронка. Точнёхонько. И что ты думаешь? Оклемались, подзывает генерал Леху, а тот – ни жив ни мёртв. И говорит: «Товарищ студент, объявляю Вам благодарность за смекалку и смелость, проявленную в боевых условиях! Экзамен Вы сдали на пять». Вот так вот. Да, Петь?
– Так я не понял, а почему снаряды полетели на КП? – спросил Ваня.
– А потому что Лешка все посчитал правильно, но от волнения перепутал координаты цели и командного пункта.
– Да… А помнишь, как после боевых стрельб нас послали выискивать неразорвавшиеся снаряды? Нашел – ставишь флажок. Потом сапёры подрывают. Вот было страшно. Помнишь, даже не все ребята пошли.
– Ага. А мы, три друга: ты, я и Юрка Слынько, шли и пели: «Отгремели песни нашего полка, отзвенели звонкие копыта…».
– Пап, а почему ты мне почти ничего не рассказывал о дедушке Феде, как он прошел войну? – Иван вспомнил о своем давнем вопросе.
– Видишь ли, сынуля, мой отец не любил рассказывать про войну. Я, к стыду своему знаю только, что он ушел на войну в 43-ем, в семнадцать лет, воевал под Сталинградом, был зенитчиком, может поэтому и выжил.
– Почему?
– Зенитчики стояли не на переднем крае, они прикрывали аэродромы и другие объекты от ударов авиации.
– А ты говорил, что он был глуховат на одно ухо. Это с войны?
– Ну как сказать. Во время учебных стрельб забыл открыть рот и случился разрыв ушной перепонки.
– А осколок?
– Это уже много позже. В блиндаже его засыпало взрывом снаряда. Контузило и осколок снаряда в ноге застрял. Вынимать побоялись – очень близко к артерии лежал. Так что война для твоего деда закончилась в Праге. А после войны он поступил в Ленинградское артиллерийское училище. По окончании деда отправили в Ярославль, где в сельхозинституте училась моя мама и твоя бабушка Галя. Там, на танцах, они и познакомились. И поженились. И дядя Сережа до 2х лет жил у бабушки – в селе Воехте. Потом деда с семьей направили в Подмосковье, где организовывали ракетный щит столицы. Там уж и я появился. А тут, в 1962-м, – и Куба. Забрали прямо с работы, и ничего не было известно полгода, до первого письма. Про Кубу еще меньше знаю – засекречено было. А вернулся – назначили зам по тылу ракетного соединения. И уже подполковником, на пенсии – ребят обучал военному делу. Была тогда в школе такая дисциплина.
– Па, а где награды деда? Помню в детстве ты мне их показывал.
– Награды? Они у нас лежат в надежном месте, покажу как-нибудь. А если еще чего хочешь узнать, ты лучше своего дядю порасспрашивай, он больше помнит. И про Афган расскажет…
И тут Ванька ни с того ни с сего брякнул, что и Наполеон был артиллеристом.
– А причем здесь Наполеон? – удивленно вскинул брови друг Петра.
В ответ Иван разразился длинной тирадой о величии гения Наполеона, наследником идей которого он сам себя чувствует.
– О, еще один наследничек! – рассмеялся Сергей.
– Что значит еще один, дядя Сережа? – навострил уши Ваня.
– Да так. Была тут у меня история одна… С этим вашим Наполеоном.
– У Вас? С Наполеоном?
– Ну да. Как-то ко мне в лесничество заглянул мой непосредственный шеф. Хороший такой мужик, я его еще по Академии Наук знаю, и попросил меня приютить своего приятеля француза. А я что? Мне одному уж скучно больно. Я с радостью. И на следующий день Пётр Фомич сам его привез. Оказалось, что гость из Франции, тоже занимается ихтиологическими исследованиями и ему позарез нужна моя река Березина.
– Березина? – подскочили разом отец и сын.
– Так у меня ж заповедник на Березине, ты ж знаешь, Петь…
– Да запамятовал я. Ну-ну, рассказывай. – Пётр почувствовал, как Ваньку всего аж заштормило.
– А что рассказывать, эка невидаль – француз на рыбалку приехал. – засмеялся Сергей. – Ну, в общем, шеф попросил принять его на какое-то время на постой. Я обрадовался: будет хоть с кем вечерами словом перекинуться. Франц этот по-русски сносно говорил. Но оказался таким необщительным, зараза такая.
– Что, совсем?
– Да все молчком, да молчком. Позавтракает – и в лес, к реке. С собой вечно таскал рюкзак и какие-то инструменты. Возвращался поздно, всегда измученный, словно бы на нем пахали. Быстренько так поужинает – и в постель. Вот мне радости было, извините. Даже не выпить.
– Серег, а это ведь катастрофа для русского человека: ни поговорить, ни выпить.
– Не смейся, Петь. Знаешь, какая тоска одному в лесу.
– Да знаю. В тайге-то, под Магаданом, по полгода вдвоем у реки сиживали. А одному уж и вовсе… И что там твой Франц?
– Так вот… Однажды вечером он домой не вернулся. Я всполошился: куда подевался, нехристь, может, беда какая, я ж за него в ответе. Встал, оделся и пошел в ночи разыскивать. Хорошо, у меня лайчонка Эльза, натасканная. Она-то меня к нему и вывела. И не напрасно. И ты представляешь, что я увидел?
– Что? – Ваня не дышал
– Своего пропавшего гостя. И стоит он, мерзавец такой, под одним из реликтовых дубов и копается при свете своего карманного фонарика в свежевырытой яме. А ямища такая, что мама не горюй. «Всё, – подумал я, – под зиму дуб точно преставится, он же ему, шельма такая, все корни перерубил!»
– И что ты сделал?
– Взял на изготовку ружье, вышел из-за деревьев, и французик мой, явно не ждавший свидетелей, застыл как вкопанный. Я думал, что он сейчас коньки отбросит. Побелел, позеленел, затрясся. И начал на своем этом лягушачьем языке стрекотать. Умора.
– А потом?
– Всю дорогу домой молчал и разговорился только за бутылкой моего самогона.
– Ого! Тут ты и оторвался?
– Как же. Да я за ним не поспевал. А он пьет, плачет и рассказывает, рассказывает. К утру я, по – моему, уже в совершенстве понимал по-французски.
– И что рассказал?
– Сказку.
– Сказку?
– Ну да. Про этого вашего Наполеона.
– Расскажешь? – Пётр подлил другу вина и подложил на тарелку жареного мяса.
– Расскажите, дядя Сереж. – Иван подсел поближе.
– Да запросто. История значит, такая…
* * *
Разбирая оставшиеся после скоропостижной смерти отца бумаги, Франц де Миль наткнулся на небольшую кожаную папку. В ней было старое письмо и какая-то карта.
Автором письма был его прапрадед Жан де Марселлин – лейтенант французской армии, участник похода на Россию. И адресовано оно было его сыну – Полю, прадеду Франца. На пути следования отступающей французской армии от Москвы до Березины Марселлин находился в составе особого отряда. Он охранял обоз с личным грузом императора. До Березины обоз был доставлен практически в целости и сохранности, и его готовили к переправе. Ночью в расположение лагеря неожиданно ворвался казачий разъезд. В яростном бою погибла часть солдат охраны, а также много лошадей. В результате лошадей не хватило на одну из повозок. Нечего было думать, чтобы найти новых или перегрузить на остальные. Тогда командир охраны, старый генерал, позвал к себе трех человек: своего адъютанта, одного из солдат охраны и прапрадеда Франсуа.
– От имени нашего императорского Величества, Наполеона Бонапарта, поручаю вам подготовить в одном из близлежащих лесов место для захоронения оставшегося груза.
– Так людей же мало, а копать столько. – возразил адъютант, указывая на огромную телегу.
– Не надо привлекать никого из охраны обоза. – строго сказал генерал. – Вон, берите дезертиров, видите, у бивака.
Дезертиры вырыли глубокую яму, уложили туда ящики, засыпали и замаскировали ее. И тут же по приказу генерала были расстреляны. Адъютант составил карту места захоронения ящиков и передал ее генералу, который взял с присутствующих клятву, что они сохранят увиденное в тайне. И все трое, естественно, поклялись.
А назавтра началась переправа через Березину. Это было одно из самых страшных зрелищ, которые довелось видеть лейтенанту. Мосты не справлялись с лавиной повозок и людей. Многие гибли в ледяной реке. Но императорскому обозу удалось благополучно переправиться на правый берег. На другой день после переправы погиб солдат из охраны обоза, присутствовавший при захоронении сокровищ. А назавтра таже участь постигла адъютанта генерала. Прапрадед Франца понял, что он будет следующим. Так и случилось. Как ни старался он быть осторожным и держаться стороной и от чужих, и от своих, все же пуля настигла его. Умирающего лейтенанта подобрала в лесу местная крестьянка. Ее муж погиб в этой войне, но вид раненого пробудил в ней сострадание. Она выходила его, и француз жил у нее целый год, прежде чем вернулся домой. Он долго искал коварного генерала и когда явился к нему, то застал его на смертном одре.
Генерал, не сказав ни слова, велел достать какой-то пакет и передал ему в руки. Это была карта, исписанная внизу каким-то текстом. Через несколько дней генерал умер, и молодой лейтенант стал единоличным обладателем тайны. Однако и ему не удалось ею воспользоваться. Вскоре у него возникли проблемы с новой властью, и он был вынужден бежать в Канаду. Там через некоторое время он женился и у него родился сын Поль. Очевидно, что ни его прадед, ни дед, ни отец так и не попытались разыскать сокровища. Текст был зашифрован. Франц искал ключ к шифру несколько лет и наконец ему повезло. Благодаря своей жене, математику, он смог прочесть карту и тут же решил ехать в Россию. Судя по тексту на карте, сокровища находились в одном из лесов на левом берегу реки Березина. Он заглянул в энциклопедию – теперь это была территория суверенного государства Беларусь. План поездки созрел быстро. Поводом для нее стала профессиональная деятельность – он был ихтиологом. И спустя некоторое время обратился в посольство Беларуси во Франции за разрешением на научные исследования в районе реки Березина.
Когда Жак-Франсуа Франц де Миль закончил свой рассказ, он был весь в крупных каплях пота и тяжело дышал. Было очевидно, что он заболел. Концовка его истории была такой: «Но сокровищ, как видите, и мне найти не удалось. Очевидно, я немного ошибся при расшифровке текста и место выбрал не совсем верно. Думаю, что мне еще некоторое время придется поработать над шифром». Лихорадка все сильнее колотила француза, и Сергей уложил его в постель, полагая продолжить разговор о сокровищах на следующий день.
Но назавтра разговор не состоялся. Когда лесничий утром зашел в комнату гостя, тот был без сознания. Он тут же вызвал «скорую», а когда через день заехал к нему в районную больницу, главврач только развел руками: «Приехали люди из их посольства и забрали вашего гостя в Минск». Не нашел Сергей француза и в столице. В регистратуре госпиталя, где он должен был находиться, сообщили, что пациента срочно транспортировали во Францию.
* * *
– Такая вот история, – закончил свой рассказ Сергей. – Думаю, что его не просто так запустили сюда. А потом, как не справившегося, отозвали обратно.
– Ты случайно не начитался на ночь детективов? – засмеялся Петр.
– Да нисколько. Что-то очень быстренько они его вернули на родину. Может все-таки что-то нашли?
– Да, дядя Сережа, Вы, конечно, прибавили оптимизма нашим затеям.
– В смысле?
– Ну, если сами французы по точным картам не могут разыскать свой клад, то что же нам остается?
– Не понял, Петь? Этот щегол тоже кладоискателем заделался?
– А я тебе про что… – Пётр развел руками.
– Так, Иван Петрович, ну удивил так удивил. И что же это ты собираешься с эдаким сокровищем делать?
– Заслуженно пользовать, если повезет.
– А не приходила ли Вам, сударь, мысль, что ворованное нужно возвратить, например?
– Да нет. Это же найденное. Хотя…
– Хотя?
– Хотя карету золотую я бы городу Смоленску подарил.
– Почему Смоленску?
– Так ведь она, скорее всего, там и находится, где-то в озерах под Смоленском. А крест с колокольни Ивана Великого вернул бы Москве.
– А у тебя, Петюш, ничего, не дюжий такой оптимист растет. Кстати, Ваня, а ты в курсе, что все клады, найденные на территории нашей страны, принадлежат государству.
– Да в курсе. Двадцать пять процентов – нашедшему. А это, дядя Сережа, лимонов этак надцать. Золотом. Тоже ничего. – Иван с воодушевлением хлебнул остывшего чая, будто уже нашел сокровища.
– Ну да, и я о том. Чего там мелочиться, любить, так королеву. – Сергей одобрительно похлопал Ивана по плечу.
– Я бы сказал, у Вас имперское мышление, Серж. – улыбнулся Петр.
– Нет. Вы напрасно смеетесь, господа хорошие. Наполеон человек абсолютно гениальный, и у него есть чему поучиться всем нам. – Гнул свое молодой кладоискатель.
– Серж, а ты не помнишь, какого рода Наполеон? – Пётр откинулся на стуле.
– Мужского. Единственного числа. А что?
– Есть тут одно соображение.
– Какое?
– Ну, если в общем, можно сказать, что человек, как дерево, держится за корневую систему своего рода. От нее отталкивается, от нее и растет.
- Мост для императора