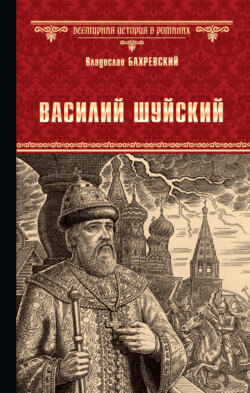© Бахревский В.А., 2020
© ООО «Издательство «Вече», 2020
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020
Сайт издательства www.veche.ru

Владислав Анатольевич Бахревский
Об авторе
Владислав Анатольевич Бахревский – прозаик, поэт, член Союза писателей СССР – родился 15 августа 1936 года в Воронеже в семье лесничего. После Великой Отечественной войны родители вместе с сыном часто переезжали, «кочевали по лесным кордонам» Горьковской и Рязанской областей.
С 1948 года будущий известный автор жил в Орехово-Зуеве, учился на литературном факультете Педагогического института (ОЗПИ), руководил созданным им литературным кружком. Много позже (2001) возглавил Орехово-Зуевское литературное объединение «Основа».
В 1975 году переехал в город Евпатория Крымской области, где оставался 11 лет, но после очередного переезда не порывал связей с Крымом. В декабре 1990 года, вместе с другом и соратником писателем А.И. Домбровским активно участвовал в создании Союза русских, белорусских и украинских писателей – нынешнего Регионального Союза писателей Республики Крым.
Опыт жизни в разных регионах, а также многочисленные поездки по просторам бывшего СССР нашли отражение в творчестве автора. География путешествий получилась широкая: Карелия, Сибирь, Камчатка, Сахалин, Алтай, Туркмения, Киргизия и не только.
Сразу после окончания института (1958) работал в Сакмарской районной газете (Оренбургская область), но очень скоро нашёл себе применение в изданиях, имевших литературную направленность – в редакции журнала «Пионер», «Литературной газете». Активно сотрудничал с журналом «Мурзилка», газетой «Пионерская правда».
Писательским дебютом стала автобиографическая повесть «Мальчик с Веселого» (1960). Впоследствии опубликовал много детских книг, в том числе «Кружка силы» (1969), «Дорогое солнце» (1972), «Футбол» (1984), «Василько и Василий» (1986), став одним из активнейших авторов в издательстве «Детгиз».
И всё же настоящую известность писателю принесли не произведения для детей и юношества, а исторические романы: «Тишайший» (1984), «Никон» (1988), «Долгий путь к себе» (1991), «Василий Шуйский» (1995), «Смута» (1996) и другие.
Книги «Тишайший», «Никон», «Аввакум», «Страстотерпцы» и «Столп» составили знаменитый цикл, «пятикнижие». В нём писатель исследует важнейший период русской истории XVII века – период раскола Русской церкви. В 2011 году по мотивам этого цикла был снят сериал «Раскол» режиссера Николая Досталя. Позднее к этому же циклу стали относить роман «Боярыня Морозова».
Истории Русской Православной Церкви начала XX века посвящен роман «Святейший патриарх Тихон» (2001). Автора на создание этой книги во многом вдохновила биография деда по отцовской линии – священника, погибшего в лагерях.
В середине 2000-х годов в толстых журналах был опубликован роман «Царская карусель», посвящённый Отечественной войне 1812 года и нравам русского общества до войны. В 2019 году этот роман впервые выпустило в твёрдом переплёте издательство «Вече».
В 2020 году в том же издательстве в серии «Духовная проза» вышла первая полная публикация дилогии об Александре Булатовиче – русском офицере, исследователе Эфиопии, религиозном деятеле.
За годы литературного творчества автор написал и опубликовал более 40 книг: романов, повестей, сборников рассказов и стихов. Также известен своими усилиями по поддержке новых и малоизвестных российских авторов, а также литературного процесса в целом.
Избранная библиография:
«Свадьбы» (1977),
«Тишайший» (1984),
«Никон» (1988),
«Виктор Васнецов» (1989),
«Долгий путь к себе» (1991),
«Василий Шуйский» (1995),
«Смута» (1996)
«Ярополк» (1997),
«Аввакум» (1997),
«Страстотерпцы» (1997)
«Столп» (2001),
«Святейший патриарх Тихон» (2001),
«Боярыня Морозова» (2013)
Служба Великому Государю Ивану Васильевичу Грозному
1
Пепельная от ветхости изба до того раскорячилась, что, кажется, щелкни пастух кнутом – по бревнышку раскатится.
Молодой князь остановил коня и пялился на избу, как на невидаль.
– Кто же тут живет, Елупко? – спросил он наконец управителя села Горицы, окрестных деревенек и починков.
– Вдова-горемыка с детишками.
– И давно вдовствует?
– Да уж третий год.
– Елупко, выведи ко мне вдову со всеми детьми.
Управитель вытаращил глаза, но повеление исполнил проворно. Вытолкнул из развалюхи нестарую еще, одетую хуже нищенки бабу, а вслед за нею выгреб чуть не дюжину полуголых и вовсе голых ребятишек. За детишками, потягиваясь и мурлыкая, вышла из избы пушистая, серая, как дымок, кошка.
– Все десятеро – мальцы! – сказал Елупко. – Коли не перемрут, наплодят нам нищеты… Господи, еще и кошка у них.
Князь спешился, подошел к бабе.
– Благодарю тебя, что хранишь и бережешь детей своих. Как тебя зовут?
– Марья, господин! – сказала вдова, поклонившись. – Не я берегу, Богородица. Березу едим да крапиву…
– А скотина есть?
– Корова-кормилица. На ней и землю пашу, да хлебушек наш за долги взяли.
– Помолись за меня, Марья.
– Я помолюсь, господин, да скажи, как звать.
– Дура! – взъярился Елупко. – То владыка твой, князь Василий Иванович!
– Смилуйся! – сказала вдова, но не поклонилась, а только глаза прикрыла, будто ожидая удара.
– Десять мальцов – десять мужиков, – сказал Василий Иванович управляющему. – Сие богатство наше, а у тебя такое богатство в небрежении.
– От себя, что ли, взять да дать! – огрызнулся Елупко.
Князь на грубость даже бровью не повел.
– Вот, Марья, возьми рубль. Да смотри, не спеши тратить… Ты, Елупко, поезжай в Горицу, привези не мешкая десять мешков муки да пару мешков зерна доброго на семена. Приведи две коровы, десять овец, лошадь. Хорошую, смотри, лошадь! С телегой. И завтра поставьте Марье, детям ее – моему богатству – и кошке-красавице новую избу.
– Эко! – вытаращил глаза Елупко. – Так уж и за день? Как в сказке!
– Не сделаешь по-моему, Марья будет жить в твоем дому, а ты в ее… Да гляди, двор не забудь поставить для скотины. Я и в Торице видел три-четыре развалюхи. Пока буду жить на Озере, старое да ветхое прочь! У Шуйских бедно не живут… Холстов привези, не забудь. Чтоб все одеты были.
Елупко пал на колени, шепча краем рта Марье:
– Кланяйся, дурища!
Но женщина стояла обмерев, а молодой князь, не оборачиваясь, сел в седло и поскакал по влажной майской дороге к молодой березовой рощице, за которой озеро и починок*[1]. То озеро слыло святым, а в починке жили иконописцы.
Глядя вслед князю, Елупко поднялся с земли.
– Уж не ангел, а сам Господь над тобой пролетел, Марья… Ты за меня молись. Я мог бы и другой дорогой провезти князя. Подобрел-то он от горестей, жена у него померла, не разродилась. – И закричал на Марью: – Где избу тебе ставить, показывай!
– Возле колодца. Далеко до колодца-то ходить… Тут ведь раньше еще два двора стояло. Погорели.
Елупко чесал в затылке, улыбался.
– Говорят: беды кульем валятся, а счастье золотниками, а тебе после бед твоих полный куль счастья. – Поспешил к лошадке своей. – Торопиться ведь надо!
Впервые после горчайшего своего дня ощутил Василий Иванович тепло в груди. Уж так было холодно всю долгую зиму – вставать из-под теплого одеяла не хотелось.
Весной на птиц прилетных, ни в чем не повинных, глаз не поднимал, зеленеющая земля не радовала. И вот теперь, замирая душой, вдыхал он со сладостью, с жадностью запах едва-едва раскрывшихся березовых листочков.
Дорога повела топкой низиной через ручей, и он все смотрел коню под ноги да и выехал вдруг на сухое место, на золотой от одуванчиков лужок, к синему, как око, озеру. И тут соловей запел. То была такая чистая, такая нечаянная трель, что Василий Иванович расплакался.
Наплакавшись, сошел с коня, умылся озерною водою и пошел к починку, ведя коня в поводу, слушая соловья, вдыхая воздух весны. Подходя к околице, уловил, что запахов прибыло. Он знал эти запахи. Радостью детства повеяло, тайной, ибо запахи скипидара, кипарисовых досок, красок были запахами сокровенного.
2
Печь затопили ради великого гостя. Березовые поленья горели светло, долго.
Волны тепла выкатывались из зева печи легкие, вкусные. Светелка, от потолка до пола увешанная, уставленная иконами, золотилась, и чудилось, что здесь ты и сам золотой.
В подтопке мерцали угольки, в печи пламя поднималось и опадало, золотое облако, заполнявшее светелку, покачивалось, являя лики или одни только глаза, поражая сиянием нимбов, благородством порфир.
Князь всякий раз вздрагивал, когда пламя озаряло нечаянной своей вспышкой хозяина дома – древнего Первушу Частоступа. Старец был точь-в-точь как столпники на его иконах, запавшие глаза его смотрели из тех же глубин, что и глаза святых отцов.
– Отчего тебя, дедушка, Частоступом прозвали? – спросил князь.
Старец улыбнулся.
– Порода у нас такая. Ходим скоро – топ-топ! Ежи, слышал, как бегают?.. Частоступы, однако, и ходили торопко, и дело делали скоро… У нас, Частоступов, все такие, старые и малые.
– Ты деда моего знал? – спросил Василий Иванович спроста, но сам-то вспотел под тонкой рубашкой – о запретном спрашивал.
– Андрея Михайловича?.. В Москве у него жил, как не знать.
– Слышал я, недобрый был человек.
– Не верь! – строго сказал старец. – Андрей Михайлович не то чтобы человека обидеть, он лошадей не приказывал погонять, не терпел кнутов. «Ты, – говорил, – накорми лошадь досыта, она и побежит. Человек, наевшись, поет, а лошадь – бежит».
– Славно сказано.
– Как же не славно! У Андрея Михайловича ума было не одна палата…
Над озером пел соловей.
– Хорошо выводит, – сказал Василий Иванович.
– Это молодой. Поживи у нас с неделю. Матерые запоют. Мастера!
Поленья в печи затрещали, осели. В светелке разом потемнело, глянули со стены грозные очи Всевышнего.
– Дедушка, а тебе не страшно Господа писать? – спросил Василий Иванович, пугаясь глаз, и хитрил со старцем, уводил от заветного для себя разговора, чтоб спросить вдруг, выведать потаенное.
– Я пишу иконы помолясь. А уж как, бывало, лик писать, так жду улыбки. Пождешь, пождешь, она и явится. Глазами ее не видно, а душа чувствует: тебе улыбается Господь. Тогда пиши смело. Я лики-то ныне не отваживаюсь прописывать. Ризы и порфиры малюю. Не робею. Ни у кого так богато не получается, а мне Богородица помогает.
– Твои иконы, дедушка, глазам великая радость. А скажи, хоть то дело уж очень давнее, ты помнишь, как Андрея Михайловича… псарям отдали? – спросил, схватясь за кочергу, тыча без смысла и уменья в обуглившиеся полешки.
Тишина в светелке на цыпочки поднялась, и – кап!
Вскинул Василий Иванович глаза, а у Первуши на щеке мокрый след.
– На четырнадцать тысяч младенцев-мучеников, от Ирода в Вифлееме избиенных, приключилась погибель Андрея Михайловича, – сказал старец, перекрестившись. – Царь-отрок перстом на Андрея на Михайловича указал. Возопил, как дикий кот: «Хватай царева обидчика! Зарезать меня умыслил! Рвите его! Терзайте, чтоб до тюрьмы жив не дошел!» Царь-то молод был, а зело хитрый… Сначала ласковым прикинулся, повел Андрея Михайловича собак новых показать… Да и сдал псарям… А псари у него были свирепей собак.
– За что же великий государь подосадовал на Андрея Михайловича?
– Отомстил. За князя Федора Семеновича Воронцова отомстил… Сказывали, Андрей Михайлович схватился с Воронцовым в Столбовой избе, на глазах царя. Воронцов-де на деда твоего непригожие слова в царское ушко шептал. Андрей Михайлович тоже горяч был. Нахлестал князя Федора по щекам, изодрал на нем одежды в клочья да, распалясь, вместе с князьями Кубенскими начал бить уж чем попало. Прибили бы, да митрополит вступился… В Кострому потом сослали. Царь и затаил обиду до времени…
– Андрея Михайловича в непомерном стяжательстве обвиняли…
– Того не знаю, – сказал старец. – Правителем он был строгим. Государю Ивану Васильевичу уж тринадцатый годок тогда шел, Андрей же Михайлович не поостерегся… Дедушка твой, царство ему небесное, уж тем был не мил Ивану Васильевичу, что от худых дел всячески отваживал. Иван-то Васильевич в молодые годы собак да кошек любил с башен кидать. Погладит, из рук своих покормит, в глаза поглядит да и кинет с башни. Коли расшибется животина – ему смешно, а какая не до смерти, ползает – камнями добивал. Иные кошки убегали невредимы, так он сердился, приказывал псарям из луков стрелять. Упаси бог промахнуться – по зубам камнем бил…
– А как же Андрей Михайлович отваживал великого государя от худого?
– Книги священные читать приказывал… Монахов кротких приставлял. Меня привез… Васильевич любил смотреть, как я иконы пишу… На иных, где есть звери да скот, по моим прорезям тех зверей и скотов красками писал.
– Сам Иван Васильевич?
– Сам! Как не сам? Накрасит и глядит – стану ли я охорашивать им написанное. Я, греховодник, лукавил, хвалил великого государя. А он все равно глядит, не верит. Уйдет будто бы, а потом набежит нечаянно… Да я днем не трогал, ночью исправлял, мне и Андрей Михайлович наказывал – не гневить царское величество.
Снова запел соловей. В печи бродили синие огни.
– Послушаю пойду, – сказал Василий Иванович.
– Пойди, князь! Отдохни душой.
– Спасибо тебе, Первуша. Прости, что былое потревожил… Мне скоро службу великому государю служить.
– О Господи! Да хранит тебя Богородица! – сорвалось право-слово с губ старика.
3
Земля была темна, а небо, как огромная жемчужина, светилось тихим покойным светом, ни одна звезда не смела перебить этот свет.
Соловьи молчали. Было слышно, как колышется в озере вода: ни всплесков, ни токов струй – озеро дышало.
На берегу белела огромная колода. Василий Иванович подошел, сел.
Темень непроглядная, но жизнь впереди еще темней. Батюшка, князь Иван Андреевич, был воеводой полка правой руки… До воеводы большого полка не дослужился… Большой полк за Мстиславскими, за татарскими царевичами, за родней великого государя. Батюшка службу начал строптиво. Посылал его государь с речью к двоюродному брату, к Владимиру Андреевичу*. Ту речь батюшка сказывал, а вот к Ивану Дмитриевичу Бельскому* сказывать речь не поехал, невместно ему, Шуйскому, быть меньше выскочки Бельского. Силой водили, все равно молчал. Не с награды – с опалы начал службу батюшка. Да через год был уж первым воеводой в Дедилове, через другой – первым рындой с большим саадаком. В Луках Великих воеводствовал, стоял в Серпухове воеводой сторожевого полка, ходил с государем на Ливонскую войну*, в Дорогобуже был воеводой, а потом и в Смоленске. Чином боярина царь пожаловал Ивана Андреевича в тридцать три года. Был первым в Опричиной Думе, а до сорока лет дожить Господь не благословил… Погиб Иван Андреевич в Ливонии, в бою. В один год с Малютой Скуратовым*. Сватьями преставились перед Богом. Последнее, что успел батюшка для рода своего – женил красавчика Дмитрия на Малютиной дочери, на Екатерине.
Небеса померкли, звезды затянуло облаками. В кромешной тьме свистали, высекая сполохи, соловьи, но Василий Иванович тьмы не видел, соловьев не слышал. Раздумался. Еще и служб-то никаких великому государю не служивал, а быстрый разум искал ответ на загадку наитайнейшую. Как при Иване-то Васильевиче, при Грозном, быть первым и чтоб голову на плечах сносить…
Батюшка Иван Андреевич, наставляя детей своих на ум, указывал брать пример с их преславного родственника, с Василия Васильевича Шуйского Немого*. Князь отвоевал для России Смоленск, был первым его воеводой, воеводствовал во Пскове, в Новгороде, воевал с Казанью, посадил там царя Яналея, угодного Москве. Заслоняя Русскую землю от татарских набегов, построил крепость Васильсурск, был первым боярином и все помалкивал. Оттого и прозвали Немым.
При дворе Грозного впору бы всем онеметь, памятуя, что своему любимцу Афоньке Бутурлину, еще будучи юношей, Иван Васильевич отрезал язык.
В том-то и беда: горячо любит царь ближних слуг своих, жалует милостями щедро, да недолог их праздник, Князю Федору Воронцову, из-за которого псари растерзали Андрея Михайловича, Грозный отрубил голову; справив свое шестнадцатилетие, в тот же день лег на плаху и князь Иван Кубенский – лютый враг Федора.
За месяц до свадьбы, за две недели до венчания на царство, убил Иван Васильевич друзей отроческих игр: князя Ивана Дорогобужского да князя Федора Овчину-Оболенского. Ивану голову отсекли, а бедного Овчину посадили на кол, всей Москве на обозрение, за рекой, на лугу. Уж что им припомнил? О мученике Овчине-Оболенском в народе быстро смекнули: отец Федора, Иван, был полюбовником Елены Васильевны Глинской, матери царя, уж не брат ли Федор Иванович Ивану Васильевичу?
«Выходит, упаси боже от царской любви!» – подумал Василий Иванович.
Вдруг где-то на озере, на острове, закричала, заплакала птица.
– Поймал, что ли, кто? – поежился Василий Иванович, озираясь на черные, угрюмо примолкшие дома.
Сердясь на свой испуг, встал с колоды, пошел во тьму, не дрогнув ни единой жилочкой. Воротился к колоде, оперся на нее ногой. Смотрел во тьму, накатившуюся со стороны озера, и в голове его было ясно:
«Царь любимцев своих любит до смерти. Вчера еще Москва ахала: Алешку Басманова*, наипервейшего опричника, без советов которого ни единого шага, кажется, не делал, – казнил. А уж казнь ему придумал – горше и быть не может. Сын рубил голову батюшке. Федор Алексеевич Алексею Даниловичу. На верность ненаглядного испытал: кто дороже, отец или царь? Вот только надолго ли Федор свою голову сберег?
А Афонька Вяземский*? Лекарства царь принимал только из рук Афоньки… По первому же доносу палками до смерти забили. И опять не без игры… Позвал Иван Васильевич князя к себе, из своих рук поил, как птицу, кормил, как кормят любимых коней, целовал, как женщину. Отпустил счастливого. А пришел князь Афанасий свет Иванович домой – все зарезаны, задушены. Все! Родные, слуги, даже кошки с собаками. Афанасий Иванович не завыл, с ума не сошел, сделал вид, что ничего-то в его жизни не переменилось. А царь Иоанн глядел на него во все очи да и приказал отвести на конюшню. На конюшне забили, дознаваясь, где золото свое прячет».
– Двум смертям не бывать. В службу, как в прорубь, – сказал себе Василий Иванович.
Пошарил ногой по земле, нащупал камешек. Поднял, кинул в озеро.
– Сам буду царем, коль не плеснет.
И не услышал плеска. Изумился. Головой покачал сокрушенно. Таких глупых дум батюшка не одобрил бы. Сечь за такие думы надобно до кровавых рубцов. С такими думами недолго царю Иоанну послужишь.
Поспешил в светелку. В постель, в постель, чтоб дурь заспать!
4
Пробудившись, князь Василий не выдал себя, смотрел, как Первуша Частоступ, шепча что-то нежное, младенчески улыбаясь, писал мафорий на Богородице*. Богородица склонялась над предвечным Младенцем, дарила Радости Своей материнский ласковый поцелуй.
– Проснулся? – спросил Первуша, не оборачиваясь.
– Да я и ресницами не шелохнул, как ты услышал, что я не сплю? Научи! – Князь проворно поднялся с постели.
Старец повздыхал, охая.
– Наука моя – старость премудрая, это она все знает, – показал на икону. – Знаешь, как называется? «Гликофилуеса». «Сладкое лобзание» – по-русски.
– Афонская?
– Обретена в Афоне, в морских волнах, возле Филофеевского монастыря. Уж такие времена тогда случились. Император Феофил иконы сжигал, а поклонявшихся иконам предавал смерти. Из Византин приплыла. А написал сию икону апостол Лука.
– Лука и Владимирскую написал, и Одигитрию, и Влахернскую.
– Семьдесят икон у Луки-евангелиста. Семьдесят чудотворных животворящих источников от него, старателя Господнего, пришло нам, грешным.
– Пойду умоюсь, – сказал князь. – А потом помолимся вместе. С детства люблю с тобой молиться.
И они помолились, попели, поплакали.
– Сладко душе! – Василий Иванович троекратно поцеловал старца. – Спасибо тебе, драгоценный мой Первуша.
– Отдали дань Богу, а плоть тоже свою подать требует. Печь я нынче не топил, медом да творогом – обойдемся ли? Ты уж прости меня, князюшко, заработался я, грешный. – И полюбовался на дело рук своих. – Хороший цвет получился. Когда не получается, у меня пусто в сердце, а сегодня тепло.
– Цвет благородный! – согласился князь. – Ты ведь знаешь, чего с чем смешать, чтоб было такое.
– Знать – знаю, но коли на совести хоть пятнышко нечистоты – ускользнет радость. И того положишь, и этого, как всегда, а вот ускользнет. Почитай-ка перед принятием пищи! – положил книгу перед Василием Ивановичем.
То было слово Ефрема Сирина «О душевном страхе».
– «Сидел я наедине в одном нешумном, безмолвном и возвышенном месте, – читал вслух князь Василий, – размышлял сам с собою и перебирал жизнь сию, ее заботы, смятение, молву и, заплакав, стал говорить сам себе: “Почему жизнь эта проходит, как тень, пробегает, как самый скорый течец, и увядает, как утренний цветок?” И опечаленный, вздыхая, сказал я: “Как проходит сей век, мы не знаем. Для чего же по слабости своей связаны делами и помыслами непристойными?”»
Словно о нем было написано, о Василии Ивановиче, князе Шуйском, и не от этой ли суетливой пустоты прибежал он сюда?
Но Ефрем Сирин, святой мудрец, тотчас и показал, что все эти мысли – суета сует и, коли возгнушалась душа небесным своим чертогом, быть гневу Господнему.
Когда вернулся Первуша с медом, с хлебом, с творогом, князь сидел тихий и печальный. Резкая морщинка обозначилась вдруг на чистом его челе от переносицы мимо левой брови вверх.
– Добрую книгу дал ты мне, Частоступ. Да только что нам, знающим, где истина? Разве могу я отказаться от царской службы? Упаси боже! Буду грешить, делать подлости ради чинов и милостей, преумножая славу рода, имение рода, казну рода. Проживу, как все Шуйские. Батюшка мой ради прибыли да скорейшего боярства в Опричнину пошел. Дед мой не убоялся на глазах царя-отрока расхищать царскую казну, приобретать на чужих слезах земли и рабов… Что скажешь, Частоступ, писатель святых икон?
– Скажу: Бог будет к тебе милосерден.
– За то, что, зная истину, предпочту жизнь во лжи?
– Бог будет к тебе милосерден, – повторил старец, поливая густым медом творог. – Ешь нашу еду, князь… Мужики затеялись рыбки наловить. Тебя зовут, если есть охота.
– Скажи, Первуша, Агий-то жив?
– Живехенек.
– Не завезут ли рыбари меня на его остров?
– Отчего не завезут? Скажи им, пусть к ладье лодчонку привяжут, сам к нему догребешь, без посторонних ушей и глаз.
Князь глянул на старца и головой покачал.
– Тебя бы в царскую Думу.
– Да у нас тоже Дума! – улыбнулся Первуша. – Мы в починке на самом порожке Царствия Небесного, нельзя не раздуматься.
Не с пустыми руками отправился Василий Иванович рыбку ловить. Подарил мужикам бочонок двойного вина, лодочку тоже загрузил припасами.
Ветер дул с берега. Рыбаки поставили парус, ладья ходко шла, шлепая днищем о покладистые, попутные волны.
На князя рыбаки глядели улыбчиво, видно, слышали историю о бедной вдове.
– Что ловите-то? – спросил Василий Иванович. – Карпов да карасей?
– Давненько ты у нас не был, господин! – сказал хозяин ладьи рыбак Стахей. – Позабыл. У нас тут селедочка водится. Такая жирная да вкусная, морю на зависть.
– Я помню, мы карпов ловили.
– Карпы у нас тоже знаменитые. Бессон Окоемов прошлой осенью прадедушку добыл. Чешуи были с ладонь. Верно ведь, Бессон?
Рыжий, с ласковыми глазами мужичок согласно кивнул.
– Сколько же потянул? – спросил Василий Иванович.
– Шибко тяжелый был! А взвешивать – не пришлось. Отпустил я рыбу. Пусть наплодит себе под стать.
– Мудрые вы люди! – похвалил князь и показал на пушистую зеленую дымку лиственниц впереди. – Не остров ли?
– Остров, Василий Иванович!
– Поближе подойдем, я на лодке на остров высажусь, поутру заберите меня.
– А ушица?! – огорчился Стахей. – Окоемов будет варить. Его ушица – янтарю чета.
– С нашей рыбки глаза прытки! – закивал Бессон Окоемов.
– Будь по-вашему, – согласился Василий Иванович. – Заберете меня, как солнце на закат пойдет. Не забудете, где меня оставили?
– Мы по нашему озеру с закрытыми глазами ходим! – сказал Стахей обидчиво.
– Да это я уж так! Знаю, вы рыбари знаменитые! – поспешил задобрить Стахея Василий Иванович. – А скажи, как Агия найти?
– Остров с версту да с треть версты поперек. Хоромы Агия – землянка, не сразу увидишь. – Стахей почесал в засылке. – Мы тебя, князь, у брусничника высадим. Пойдешь через брусничник и гляди, чтоб лиственницы были от тебя справа. Потом орешник пойдет. Шибко густой, да ты не страшись. Пройдешь орешник, увидишь черную сосну. Молния ударила. Подходи к сосне и гляди по солнцу. Будут три круглых холма. В третьем и есть Агиево жилище.
5
Рассказывал Стахей долго, а нашел Василий Иванович лежбище отшельника за четверть часа. Еще ведь две сумы на себе нес.
Агий складывал поленницу под навесом. На пришельца поглядел из-под руки. Роста огромного. Голова – белая, борода черная, отросла ниже пояса. Глаза черны под черными бровями…
«А ведь я знал, как его настоящее имя!» – подумал Василий Иванович.
– Не князь ли? – спросил Агий глухим, как из-под земли, голосом.
– Я сын Ивана Андреевича.
– Должно быть, старший… Василий Иванович.
– Василий Иванович и есть. Благослови, батюшка.
Отшельник издали перекрестил, но сказал твердо:
– Я не батюшка и даже не инок. Архимандрит Лука – я в Шартомском монастыре на послушании был – не благословил. – И удивился: – Сколько ты припер на себе.
– Не всякий же день у тебя гости…
– Гостей не люблю.
– Не в гости я, Агий! За молитвой твоей пришел, за напутствием. На службу скоро, а батюшку моего Бог взял. Ты ведь знаешь.
– Знаю, – сказал Агий. – А пришел ты, князь, все же напрасно. Нет благодати в моей молитве. Три года к Господу взываю безответно. Грешник я, князь. Сатане службу служил.
– Можно поглядеть твои палаты?
– Погляди.
Князь толкнул дверь в землянку. Пахнуло сухими травами, сушеной черемухой, смолой. Нагнувшись, спустился в жилище. Крошечная печь. Стол с аршин. Нары. Связки трав и ягод под потолком.
– Славная берлога! – сказал Василий Иванович. – Но на воле нынче тоже хорошо. Давай под солнышком пировать.
Принялся доставать из сумы угощенья. Сушеные винные ягоды, нежную семгу, белужью икру, сушеную дыню, яблоки в меду, соленые молоки, ветчину без сала, копченую осетрину, кедровые орешки… Потянувшись рукой в другую суму, достал бутылку заморской романеи.
– Матушки вы мои! – ахнул Агий.
– Я с утра не поел, – сказал князь и всплеснул руками, – ни ковшика, ни чарочки я не взял.
– Ковш у меня есть, – сказал Агий и принес из землянки деревянный, грубо выдолбленный.
– Погоди-ка! – вспомнил князь, пошарил в туго набитой суме, достал походный ларец. В нем оказались две серебряные двурогие вилки, два малых кубка, две ложки, два ножа. – Романею лучше из серебра пить: как рубин пламенеет.
Агий принял кубок задрожавшей рукой, припал губами, отведывая; пил долго, закрыв глаза.
Закусил винной ягодой, заел лепестком семги.
– Побаловал ты меня, князь! Побаловал! Вот только не ведаю, чем я тебе пригодиться могу? Не ведаю!
– Хорошее ты место избрал для уединения.
– Где бы мне! Место указал твой батюшка. Не сносил бы я головы, когда б не князь Иван Андреевич… Ох, молчи, язык, молчи!
– Не охотник я тайны выведывать, – сказал Василий Иванович, подливая вина Агию. – О батюшке хотел бы спросить, как он служил Грозному царю, как умел не прогневить Ивана Васильевича?
– Берегся.
– Разве другие не береглись?..
– Разум – душе во спасение! Иван Андреевич на сажень под землей видел. Никогда без дела к великому государю на глаза не показывался, не ластился. Но уж что ему приказывали, исполнял со рвением.
«Да как же тебя зовут?» – силился вспомнить Василий Иванович настоящее имя Агия. Агий служил отцу тайные службы.
Вслух спросил, доставая из сумы другую бутылку романеи:
– А очень батюшка царя боялся?
Бывший опричник хлопнул ладонями по коленкам:
– Право слово! Неужто не жалко на такого, как я, романею переводить?
– Не жалко, Агий. Ты батюшке моему служил верой и правдой… От кого мне ума набраться, как не от тебя?
– Верно, Ивану Андреевичу служил я не хуже, чем Малюта царю. Наливай, княжич! То, что содеяно, – не замолить, не запить. А все же вкусно винцо! В новгородском походе* попил я романеи. – И глянул цепким глазом на Василия Ивановича.
Князь кушал семушку, а скушав, потер пальцы о траву: свое у него было на уме, о том и сказал:
– Поучил бы ты меня, Агий, из лука стрелять. Помню, батюшка говаривал, что ты самого царя удивил своей меткостью.
Агий просиял: лучник он был, каких и у крымского хана нет.
– Я и лук прихватил, – полез в суму Василий Иванович.
– Оставь свой лук! – махнул рукой Агий. – Из моего постреляем.
Принес из землянки совсем игрушечный лук. Сказал ласково:
– Малютка моя.
Наложил на тетиву стрелку, прицелился в доску возле поленницы. Тетива взвизгнула, стрела прошла доску насквозь.
– Ай да сила! – изумился князь.
– Смертная! Гляди, Василий Иванович, куда надо целить да как тетиву натягивать.
Учил, попивая винцо. Последние капли на язык стряхнул. Князь хоть и увлекся пусканием стрел, но увидел, что бутылка опустела, достал еще одну.
– Получается! – одобрил ученика Агий. – Ты понятливый, в батюшку… Ты тоже выпей. Не спьянить же ты меня хочешь… Ох, попил я сладкой романеи… Знаешь где?
– Ты сказал: в Новгороде.
– В Новгороде, – согласился Агий. – А сперва я вместе с Григорием Лукьяновичем к владыке Филиппу* ездил, в Отроч-Успенский монастырь… Упаси Бог, в келии не был. К нему Григорий Лукьяныч один заходил… С час уговаривал благословить Ивана Васильевича… наказать мятежников. Архиепископ-то Новгородский Паисий клеветал на Филиппа, угождая царю, когда Владыку из Москвы выпроваживали из митрополитов вон! Тверд был Филипп. На Господа уповал. Вышел от владыки Малюта красный, как рак. Рыкнул на нас, и мы поехали царя догонять… За два дня до Рождества были мы у Владыки Филиппа. Потом уж говорили: задавил его Григорий Лукьянович подушкой. Григорий Лукьянович, служа царю, даже души своей не пощадил. Слава Богу, умер не палачом, а воином, в бою.
– Мой батюшка не намного пережил Скуратова. Григорий Лукьянович голову сложил в январе, когда Пайду брали, а батюшку убили осенью.
– Последний год я не был с князем. Иван Андреевич спрятал меня сразу после новгородского похода. От смерти спрятал. Царь ведь многих побил из наших. Ох, ox! От косой не убежишь, всех найдет… Мы злодейством мечены. Ты гляди на меня, князь! Гляди! Не черен ли я, как эфиоп?
– Нет, не черен.
– Так может, зелен? Пятна на мне не видишь ли?
– Нет на тебе пятна, Агий.
– Ты, князь, глазами слаб. Ишь, какие у тебя маленькие глазки. Где тебе углядеть. Мы все мечены!.. Напутствия хотел? Так вот тебе напутствие: служи царю-злодею, да злодейством не запятнай, Бога ради, своей совести… Уж тогда не спасешься, как и я не спасусь.
- Адмирал Ушаков
- Король-Лебедь
- Аттила, Бич Божий
- Катулл
- Кузьма Минин
- Людовик XIV, или Комедия жизни
- Путь к власти
- Лета 7071
- Сен-Жермен
- Басилевс
- Квентин Дорвард
- Два Генриха
- Коварный камень изумруд
- Императрица семи холмов
- Маркитант Его Величества
- Король Красного острова
- Из семилетней войны
- Филипп Август
- Тиберий Гракх
- Пифагор
- Опимия
- Всадник Сломанное Копье
- Три Ярославны
- Шапка Мономаха
- Метресса фаворита (сборник)
- Знак Зевса
- Колыбель богов
- Западный поход
- Охота за Чашей Грааля
- Сагарис. Путь к трону
- Царский угодник
- Апостолы
- Мудрый король
- Волею богов
- Скрижаль Тота. Хорт – сын викинга (сборник)
- Василий Тёмный
- Тит Антонин Пий. Тени в Риме
- Кир-завоеватель
- Эсташ Черный Монах
- Орёл в стае не летает
- Фельдмаршал
- Избранник вечности
- Изгоняющий демонов
- Василий Шуйский, всея Руси самодержец
- Цицерон. Поцелуй Фортуны
- Королева Бланка
- Цицерон. Между Сциллой и Харибдой
- Сова летит на север
- Басурман
- Польский бунт
- Граф Феникс. Калиостро
- Умереть на рассвете
- Опасный менуэт
- Штормовой предел
- Маленький детектив
- Ох уж эти Шелли
- Зенобия из рода Клеопатры
- Государь Иван Третий
- Пришедшие с мечом
- Огонь под пеплом
- Нашествие 1812
- Вторжение в Московию
- Василевс
- Золотой скарабей
- Названец. Камер-юнгфера
- Преодоление
- Смутные годы
- Преторианцы
- Маятник судьбы
- Остракон и папирус
- Крушение богов
- Последний полет орла
- Добрая фея короля Карла
- На острие меча
- Битвы орлов
- Приключения Оффенбаха в Америке
- Выживший. Первый секретарь Грибоедова