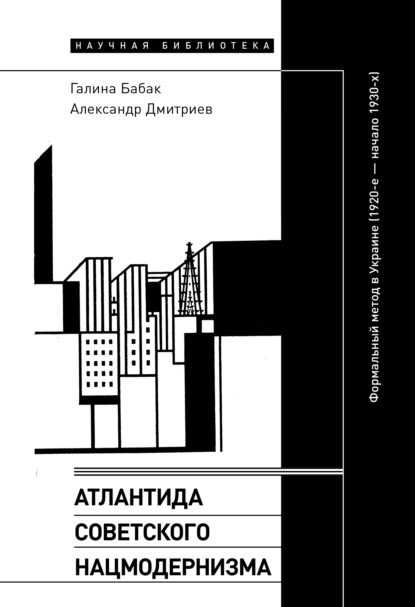Атлантида советского нацмодернизма. Формальный метод в Украине (1920-е – начало 1930-х)
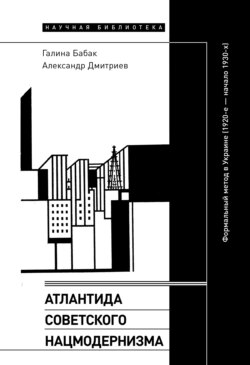
000
ОтложитьЧитал
Вместо предисловия
Прежде всего несколько слов о том, из чего и как сделана эта книга. «Атлантида советского нацмодернизма» состоит из введения, пяти частей, заключения и приложения. В приложении вы найдете некоторые оригиналы и переводы источников (в том числе тех, что впервые вводятся в научный оборот).
Это совместная работа: мы постарались «пригладить» текст таким образом, чтобы стилистически не было разнобоя между частями, написанными соавторами поодиночке.
Наша книга является одним из первых на русском языке исследований истории не только украинского литературного модернизма / авангарда 1910–1920‐х, но и украинского литературоведения с конца XIX века по конец Второй мировой войны. Мы столкнулись с непростой проблемой: как представить богатейший материал российскому читателю, даже профессиональному гуманитарию, который знает этот период украинской культуры и истории лишь в общих чертах? Если пытаться объяснять и рассказывать всё, то книга окажется перегруженной информативными пояснениями; и тогда решить главную задачу – показать векторы развития формального метода в украинской советской культуре – будет практически невозможно. Концептуальный сюжет утонет в названиях, биографиях, исторических фактах, сносках.
Другая крайность – не объяснять ничего, отсылая читателя к существующим работам на украинском, английском, русском и некоторых других языках. Однако, учитывая затрудненный доступ ко многим изданиям и текстам того времени, а также необходимость подкреплять свои рассуждения ссылками на исторические события и контекст, авторы решили отказаться от такого минималистского варианта. Тем более многое из того, что мы используем, – это редкие материалы, до которых читателю нашей книги в силу разных обстоятельств добраться весьма непросто.
Поэтому мы выбрали средний путь. Так, вводя в повествование важную для понимания темы историческую фигуру, мы приводим о нем/ней довольно подробную биографическую справку (в списке имен соответствующая страница дана курсивом). Обратите внимание: сноска дается не тогда, когда впервые упоминается тот или иной персонаж, а там, где наши рассуждения концентрируются на нем. Например, Микола Хвылевой упоминается на страницах данного издания почти с самого начала, однако его краткую биографию мы предлагаем читателю в главе, посвященной его взглядам. Также следует оговорить характер передачи украинских имен и фамилий на русском языке. В ряде случаев мы решили сохранить их фонетическое и графические написание. С одной стороны, мы ориентировались при этом на уже сложившуюся традицию (как, например, с Миколой Бажаном), с другой – руководствовались «субъектными» мотивами (в именах футуристов: Михайль Семенко, Олекса Полторацкий).
Важнейшей частью книги является приложение. Публикация этих материалов призвана придать должный исторический объем сюжетам нашей монографии, которая, безусловно, является лишь отправной точкой для дальнейших поисков и изучения, увы, почти неведомой (вне поля украиноведческих штудий) Атлантиды межвоенного нацмодернизма.
* * *
Соавторы шли к этой книге из разных точек. Галина Бабак – от изучения модернистской поэтики Миколы Бажана 1920–1930‐х, Александр Дмитриев – из поля своих исследований по истории гуманитарного знания последних двух столетий. Наши пути сошлись на удивительном сюжете, который можно было бы – очень условно, конечно, – назвать «приключениями формального метода в Советской Украине». Об украинской культурной модернизации 1920‐х написано немало, однако нам стало очевидно, что за частными случаями и идеологическими тезисами не видно большой картины – истории модернистской филологии и литературной критики в приднепровской Украине как единого феномена в его связях с советской модернизацией, где общереволюционный проект переплелся с процессом становления нации. Чем дальше мы изучали этот обширный и комплексный сюжет, чем больше разных данных оказывалось в наших руках, тем отчетливее вставали перед нами очертания всплывающей из глубины истории Атлантиды исключительно живой, разнообразной, яркой, одновременно национальной и универсальной украинской литературы и литературоведения первого десятилетия после окончания Гражданской войны. Это была страна, города и области которой со своими непростыми отношениями и меняющимися границами оказались похоронены годами террора и десятилетиями умолчаний и переиначивания. Ее бывшим обитателям ради спасения жизни пришлось либо мигрировать, либо переписывать свое прошлое, порой по нескольку раз. И всё очевиднее нам становилась роль, которую в этом процессе сыграли поиски своей литературной теории и рецепция идей русского формализма в Украине и их радикальная там трансформация – порой до неузнаваемости. С такой темой интересно работать. И мы взялись за создание предлагаемой читателю книги.
Ее основой стала докторская диссертация, защищенная Галиной Бабак в Карловом университете в 2020 году. И Карлов же университет любезно выделил грант на издание нашей «Атлантиды». Поэтому в перечне благодарностей это одно из старейших высших учебных заведений Европы – в самом верху, как и главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Дмитриевна Прохорова, которая согласилась нашу книгу опубликовать. Грант Pontica Magna Fellowship Program, выделенный New Europe College, Institute for Advanced Study Галине Бабак в печальный год пандемии, дал ей возможность завершить работу над исследованием.
Спасибо Никите Шкловскому-Корди за разрешение работать с архивом В. Шкловского. Выражаем благодарность Евгении Губкиной (Харьков) и Лидии Лихач (Киев) за помощь в поиске иллюстративного материала для обложки книги.
Дальнейший список благодарностей делится на две части – в соответствии с количеством авторов.
Галина Бабак
Тереза Хланева была моим научным руководителем в течение шести лет докторантуры – руководителем внимательным, тонким и благожелательным; к ней всегда можно было обратиться за поддержкой в нелегкие моменты, которые случаются в жизни молодого исследователя. Галин Тиханов оказал неоценимую помощь в качестве супервайзера в период моей научной стажировки в Queen Mary University (Лондон) и после. Профессор Тиханов всегда открыт для консультаций по любому сюжету, связанному с литературной теорией, интеллектуальной историей и – особенно – русским формализмом. Важную роль в работе над книгой сыграла моя научная стажировка в Тартуском университете; невозможно не упомянуть содействие и профессиональные советы Романа Лейбова. В разговорах с Александром Кратохвилом (Мюнхен) сложилась тема моей диссертации, а несколько лет спустя Кратохвил написал подробный и глубокий отзыв уже к защите этой работы. Трудно переоценить значение дружеской и исследовательской поддержки Андрея Устинова (Сан-Франциско); его азарт в историко-культурных изысканиях является примером того, что работа с архивным материалом нисколько не скучна, а наоборот, увлекательна. Более того, широкие познания Андрея в истории русской словесности и литературоведения всегда были к моим услугам. Что может быть важнее? Игорь Пильщиков (Москва – Лос-Анджелес) дал немало важных советов относительно сюжета о Романе Якобсоне. Глава о «неоклассиках» была внимательно прочитала Андреем Портновым (Берлин), который сделал ценнейшие замечания по ее содержанию.
Научное изучение прошлого без книгохранилищ и архивов немыслимо. Анна Хлебина помогла в поисках в Славянской библиотеке Праги, Елена Тимченко, Юлиана Полякова, Светлана Глибицкая – в Центральной научной библиотеке Харьковского национального университета (им особое спасибо за возможность работать с бесценными фондами местной периодики 1920‐х), некоторые материалы оттуда раздобыла для нас и Елена Титаренко. Без чтения диссертации Татьяны Коваленко эта работа потеряла бы многое, как и без офлайн/онлайн разговоров с Татьяной об украинском формализме и не только. Спасибо Оксане Пашко (Киев) и Валерию Отяковскому (Санкт-Петербург – Тарту) за содействие в расшифровке писем и бесценное профессиональное общение. Отдельная благодарность Радомиру Мокрику (Прага – Львов) и Станиславу Федорчуку (Киев) за дружескую помощь в пополнении библиотеки, необходимой для написания этой книги. Без поддержки моих родителей и близких друзей, ставших почти родными, – Татьяны Свердан, Каролины Юраковой, Александры Вагнер – эта книга писалась бы намного дольше.
Два ключевых этапа в моей работе над этим исследованием проходили под барочными сводами Дома переводчиков и писателей в латвийском Вентспилсе. Андра Консте, Ева Балоде и Ивета Либерга, спасибо вам за гостеприимство. Литераторские коты Руди и Ватсон, вы дарили душевный комфорт, забыть это невозможно! Last but not least: Кирилл и Марья Кобрины, вы моя главная интеллектуальная и эмоциональная поддержка; спасибо вам, мои любимые.
Александр Дмитриев
Моя первая благодарность – киевским друзьям за вещи бесконечно разные, счастливые и необходимые: Алле Ермоленко, Александру Белоусу, Андрею Маю, Евгению Драгану, Владиславу Петрову и Катерине Чудненко. Общение с Михаилом Долбиловым было очень важным для рождения замысла этой книги.
Урокам украинской литературы в школе моего города времен перестройки я обязан Татьяне Ивановне Кучме и Светлане Петровне Колодий, а вкусу к науке (о) жизни – Тамаре Васильевне Поддубной.
Быть внимательным и взвешенным, обращаясь к украинской истории, я, надеюсь, продолжаю учиться у Оксаны Юрковой, Андрея Портнова и Георгия Касьянова. Елена Вишленкова, Алексей Плешков, Борис Степанов, коллеги по ИГИТИ и Высшей школе экономики (и, конечно, Илья Кукулин и Мария Майофис), создали среду, необходимую для рождения этой книги. Многие вещи, строки и люди Киева, Одессы и Харькова вековой давности ожили для меня благодаря знаниям и щедрости Андрея Устинова. Спасибо Владимиру Рыжковскому, Сергею Вакуленко, Денису Шаталову, Павлу Кутуеву, Валерию Левченко, Оксане Блашкив, Татьяне Земляковой, дружному ансамблю создателей и редакторов Ab Imperio и москвичу Мартину Байссвенгеру за радость – увы, нечастого – общения, даже если предмет его слишком легко укладывается в сноски и абзацы. Мой приятный долг – поблагодарить Алену Яворскую, особенно Степана Захаркина (в года иные…), Станислава Росовецкого и Артура Рудзицкого за важные консультации и советы, особенно по биографии В. Перетца и его учеников. Я очень благодарен Алексею Лохматову за разную помощь и счастливую возможность разговора на равных.
Среди украинских коллег Андрей Мокроусов (издательство «Критика») остается для меня одним из самых важных и глубоких собеседников, готовых помочь и поддержать. Александру Федуте – мои слова признательности и глубокого уважения, под знаком силы и свободы.
Четыре месяца в Гарварде (благодаря поддержке программы Shklar Fellowship at the Harvard Ukrainian Research Institute) в первой половине 2012 года, столь важные для работы над украинскими темами, стали для меня полнокровными и насыщенными благодаря живому участию и разнообразным советам Сергея Плохия, Любомира Гайды, Олега Коцюбы и Харуна Жильмаза.
Ирине Максимовне Савельевой, ни на кого ни похожей, и замечательному другу Галину Тиханову – глубокая признательность за памятные примеры выдержки, ума и сердечности. К ушедшему Андрею Полетаеву, искренне ценившему мои формалистские штудии, эти чувства относятся в полной мере.
Киев для меня опустел без Мирона Петровского и Марины Куклиной, людей разных поколений, но схожего душевного рисунка, теплоты и открытости. Недавний уход из жизни замечательной Инны Булкиной, которую я и Галина Бабак видели непременным и пристрастным читателем этой книги, остается потерей невосполнимой, но начатый когда-то диалог, полный приязни и интереса, становится всё поучительней и значимей.
Без Оли, моих детей и самых важных родных херсонцев Сергея Дмитриева и Ольги Барьбы, украинские сюжеты так и остались бы для меня только предметом ученых занятий; за мир по ту сторону библиотек, архивов и мерцающих экранов им главное спасибо.
Співавтори книги щиро дякують одне одному за повчальний та безнадійний досвід всегонеупущенчества (по В. М. Живову)
Введение
Формализм между традициями, политикой и «школой»
Когда общая работа над этой монографией была почти закончена, наш очень знающий коллега справедливо заметил, что это книга посвящена исчезнувшей восточноевропейской литературной теории – и все же для заголовка после непростых раздумий мы остановились на достаточно неожиданном термине «нацмодернизм» (и в дальнейшем будем употреблять его без полуизвинительных кавычек).
Почему? Отчего именно такой термин важен для истории формализма за пределами России? И разве не всякий модернизм был национальным? Сразу скажем, что прилагательное «советский» мы понимаем, для начала, в смысле временнóй и территориальной привязки (Центральной и Восточной Украины «под Советами»), а не как главный идеологический ключ к сущности явления. Но важно и то, что социалистический/марксистский вектор мысли, политического и культурного действия, самореализации для многих героев книги был много серьезней и важней просто «обстоятельств места и времени». Об этом речь впереди. Кроме того, и первый раздел книги охватывает период преимущественно дореволюционный, а герои последнего раздела тесно связаны с украинской эмиграцией и сюжетами, скорее, не- или даже антисоветскими.
Под нацмодернизмом как знаком культурной специфики бывших имперских регионов – советских республик 1920‐х мы будем понимать единство, зафиксированное и отрефлексированное современниками сочетание художественного модернизма и модерных социально-политических перемен во имя «догоняющего развития» той или иной «новой», «социалистической нации». Важно отметить, что нацмодернизм как явление не был специфически левым, «красным» по своей сути – этот феномен восходил к модернизационным процессам в обществе и в культурном творчестве, которые начались до 1914 года и отразили в себе опыт национального освобождения весны – осени 1917‐го и небольшевистских сдвигов 1918–1921 годов. Но именно условия советского проекта в его нэповском и федералистском варианте придали «нацмодернизму» характерные черты и особенности[1]. Как понятие оно, с одной стороны, глубже (социальнее) символистского и даже авангардного жизнетворчества, с другой – объемнее тогдашнего процесса и лозунга культурной революции, включая ее национальные преломления[2]. Объемнее – означает и включение специализированных, академических пластов литературной культуры (и культуры художественной), включая разные теоретические, а не просто направленческие -измы. В результате, чтобы объяснить сущность теоретической специфики именно украинского формализма, нам придется обращаться даже не столько к схожим процессам в науке и критике других стран / республик Восточной, Центральной Европы или бывшей Российской империи (Чехословакии, Польши, Белоруссии), но именно к особенностям бурной эволюции украинской культуры, а также украинской политики первой трети ХХ века.
Для изучения формальной теории в последние десятилетия, быть может, наиболее перспективными оказались методы, выводящие ее за привычные границы литературности и «метатекстуальных» установок – оптика истории науки, историографического рассмотрения философии или искусствоведения[3]. Понимать пограничные, транснациональные явления тоже помогут скорее «чужие» подходы и непрямые аналогии. В истории архитектуры для обозначения специфического стиля 1960–1980‐х закрепился термин «соцмодернизм», которому свойственны как наследование межвоенному конструктивизму, так и черты нового идеологически заданного и целостного «проективизма», устремленного в будущее. Понятие «соцмодернизм» / «советский модернизм», выработанное поначалу для Восточноевропейского региона, применяется ныне и к особенностям знаковых построек Средней Азии и Закавказья, а также Украины и Белоруссии, но корни этого явления восходят к республиканским версиям «нового искусства» довоенных десятилетий[4].
Для культурного строительства, а не просто литературной эволюции в Украине 1920‐х показательно соединение, специфическое совмещение и даже сплав разных стилевых начал и интенций, характерных и для (вроде уже пройденных в Центральной и Восточной Европе к тому времени) «просветительских» и романтических фаз этнического становления, и для собственно модернистских течений (например, «неоклассики»), а также авангардных импульсов. Эволюция украинских формальных штудий может быть понята только с учетом сложной взаимосвязи между универсальными авангардными / модернистскими художественными концепциями и становлением модерной и самобытной национально-ориентированной «местной» культуры.
Для российской ситуации 1920‐х (тоже с учетом цензурных условий) многослойность и пестрота сохранившихся литературных сообществ подчеркивала значимость дореволюционных соотношений притязаний и репутаций, а «архаические» народно-национальные ориентиры даже в «скифской» или национал-большевистской версии были совсем не свойственны лефовскому или рапповскому лагерям[5], не говоря уже о большинстве так называемых «попутчиков»; несмотря на популярность фигур вроде Есенина, Пильняка или Леонова. В Украине мобилизационная и взрывчатая сила перемен 1917–1920 годов предопределила совершенно иную расстановку сил, а также временное единство национального и революционного императивов развития общества и культуры в годы НЭПа. Мы в меньшей степени будем касаться ситуации и процессов, происходивших в Западной Украине в 1920–1930‐е годы, хотя и там «формалистские» поиски в литературной мысли были выражением не только философских идей (например, Романа Ингардена), но и культурно-политических сдвигов после событий Первой мировой войны и крушения прежнего миропорядка[6]. Там тоже представители разных лагерей очень внимательно и чутко реагировали на перемены и повороты в советской Украине (об этом подробнее в части 5).
Однако и без советского «акцента» проблематика украинской литературной культуры вполне встраивается в куда более общий компаративный контекст развития периферийных зон – относительно западноевропейского ядра в 1890–1930‐е годы; это касается и идеологии и литературы[7]. Само это ядро тоже не было единым: достаточно вспомнить дебаты о французском регионализме (провансальской литературе, в частности) или о «запоздавшей нации» (Х. Плесснер). Для стран Центральной, Восточной и Южной Европы в межвоенный период были весьма характерны попытки соединить технические и культурные достижения с программами «низовых» национальных и аграрных движений. Украина оказывалась государством нации не только «запоздавшей» (в терминах тех лет «отсталой»), но еще и совсем недавно считавшейся не просто «неисторической»[8], а в конце концов несуществующей частью общерусской. Отсюда и стремление догнать и перегнать, вместе с лозунгами «красного Ренессанса».
Пожалуй, наиболее известным примером англоязычных исследований феномена «запоздавшего» европейского модернизма является изучение эволюции греческой словесности у Грегори Джусданиса, который предложил эксплицированную модель трактовки национально-литературной идеологии[9]. Впрочем, такая запоздалость отчасти предполагает и «неодновременность» (отмеченную Эрнстом Блохом в середине 1930‐х), но в еще большей степени – ускоренное развитие литератур. Этот феномен наложения, «спрессовки» разных литературных эпох описан Георгием Гачевым применительно к болгарской литературе XIX века еще в начале 1960‐х годов, а затем этот поход применен им для исследования творчества Чингиза Айтматова – знакового автора «многонациональной советской литературы»[10].
Но в нашем случае речь идет и о политически ускоренном развитии словесности (и литературной критики и теории), где каждая из сторон – а не только большевистское руководство Украины, существенно менявшееся в 1920‐е, – претендовала на единое, слитное понимание этого рождающегося культурного синтеза. Среди новейших исследований стоит, с одной стороны, обратить внимание – вслед за Майклом Дэвид-Фоксом, например, – на постановку и решение общих, глобальных и всеевропейских проблем Modernity в рамках большевистского/советского проекта[11]. С другой стороны, в недавних работах Галина Тиханова сам формализм рассматривается не только как оппонент марксизма, но и как его своеобразный «родственник», «кузен-соперник», пользуясь знаменитой семейной метафорикой Шкловского насчет «дяди» и «племянника»[12]. Наконец, ряд общих штудий Ханса Ульриха Гумбрехта и Сьюзан Фридман посвящены сложным гибридным характеристикам и полицентричности литературного модернизма, адаптирующего авангардные сдвиги 1920‐х годов и восполняющего одномерность характеристик сугубо экономической цивилизации[13].
Настоящая книга стремится не только проследить развитие формальной теории в советской украинской культуре, но и реконструировать историю развития украинской критики и литературоведения в широком идеологическом и политическом контексте формирования раннесоветской «надстройки» в разных национальных республиках (пусть даже в самых общих чертах)[14]. Однако для понимания складывающихся после революции напряжений и творческих импульсов необходимо сделать значительный шаг назад по хронологической шкале – для выявления их истоков[15]. Временем отсчета является последняя треть ХІХ века, отмеченная своего рода неоромантическим переломом в культурном сознании, сменой научной парадигмы, постепенным переходом от «старо»-позитивистского к модернистскому типам мышления (или наложением этих базовых подходов). Потому первая часть книги будет посвящена эволюциям идей преимущественно эпохи 1848–1914 годов[16].
Дискуссии о национальном содержании литературы, ее художественно-эстетических и идеологических ориентирах, которые разворачивались после 1917 года и на протяжении 1920‐х на страницах украинской периодики и печати, явно свидетельствуют о попытке отгородить себя от влияния русской «имперской» культуры метрополии и создать собственный, национальный, вариант развития словесности и гуманитарных наук. Этим спорам предшествовала разнообразная и упорная деятельность по формированию самостоятельной украинской науки и культуры (в Галичине[17] и бывшей Малороссии) в контексте национального возрождения; наиболее последовательно – в контексте идеологии 1848 года и революционных импульсов 1905 года, где полюсом отталкивания – притяжения были культуры австро-немецкая и в особенности польская[18].
В то же время даже поверхностный анализ литературно-критического и филологического украинского материала этого периода говорит о его тесной связи, параллелизмах и «переприсвоении» теоретических и художественных идей и даже целых систем, которые появились в Петербурге и Москве накануне Первой мировой войны и активно развивались в первой половине 1920‐х годов (вначале и на основе общих для украинских и российских теоретиков европейских источников). Самый факт, что даже географические маршруты и топосы русского и украинского авангардных и модернистских течений в 1920‐е годы отчасти совпадают, говорит о том, что порой невозможно категорически разграничить «русский элемент» и «украинский» в каждом отдельном культурном феномене[19]. В этом смысле процессы нацмодернизации 1920‐х в Закавказье, Поволжье, Средней Азии были и более «туземными» и одновременно более стыковыми, «монтажными» за счет выросшей мобильности писателей, художников и ученых между метрополией и бывшими периферийными регионами[20].
Рассмотрение масштаба и способов взаимодействия (и порой противостояния) радикальных эстетических и теоретических практик, характерных для украинской и русской советской культуры 1920‐х годов, позволит существенно дополнить картину бурного развития украинской культурной истории этого десятилетия, историю драмы национального возрождения под властью империи уже совсем нового типа – советской[21].
Политическая и культурная история Украины 1920‐х – начала 1930‐х годов определяется двумя главными идеологическими векторами – национализмом и социализмом (особенно в его крайней форме коммунизма[22]). Украинские земли, в которых национально-освободительное движение началось еще в XIX веке, получили независимость в результате глобальных политических потрясений – Первой мировой войны и последовавшим за ней распадом двух империй – Российской в 1917 году и Австро-Венгерской в 1918 году. 9 (22) января 1918 года IV Универсалом Центральной Рады была провозглашена самостоятельность Украинской Народной Республики[23]. В 1919 году между УНР и Западно-Украинской Народной Республикой (ЗУНР)[24] было подписано соглашение об объединении, однако оно так и не стало реальностью, поскольку к лету 1919 года основная территория ЗУНР была оккупирована польскими войсками[25]. Сложное сочетание событий национальной и общеевропейской истории, нахождение значительной части украинских земель в составе СССР с 1922 года – все это обозначило соприсутствие в украинской культуре 1920–1930‐х годов одновременно нескольких культурно-идеологических дискурсов: национального, (пост)имперского[26], европейского и советского.
События 1917–1920 годов и дальнейшее конструирование национальной идентичности в 1920‐е годы в советской Украине, получившее мощный импульс в результате этих перемен, происходили на совершенно новой основе, чем до 1914 года: бурная модернизация украинской культуры опиралась на коммунистическую идеологию в специфически национальном проявлении[27]. Весьма ощутимо это влияние было для литературы и (в преломленной форме) литературной теории. Практически каждый текст, появлявшийся в этих сферах, не только имел политическую интенцию, но и по-разному прочитывался в разных политических контекстах[28]. Особую драматичность этому процессу придавало то обстоятельство, что вхождение украинской культуры в революционную современность происходило под серьезным влиянием русского модернизма и авангарда на их уже советской стадии. Задача национального культурного строительства часто решалась с помощью инструментов и методов культуры метрополии. Эти методы и инструменты, оказавшись в ином контексте, нередко меняли свое содержание и смысл[29]. В частности, русский формализм, являвшийся одним из случаев типичного для модерности универсалистского мировоззрения, в процессе его восприятия и перетолкования в советской Украине становится важным инструментом «модернизации» национальной словесности и в итоге – фактором развития уже собственно украинской литературной культуры.
Помимо истории филологических и литературных идей, методов интеллектуальной истории и отчасти культурной антропологии литературной и научной жизни, в работе также будет использована концепция «культурного трансфера», разработанная Мишелем Эспанем[30].
Отметим здесь самые важные положения этой концепции. 1. Культурный трансфер – это процесс, основанный не на пассивной, а на активной роли импортера-реципиента, который сознательно выбирает те или иные элементы чужой культуры. 2. Культурный трансфер всегда основан на уже существующем предварительном образе чужой культуры. 3. Культурный трансфер обусловлен прежде всего собственной ситуацией импортера-реципиента, особенностями его культуры, которая видится им как «неполная», «не самодостаточная», нуждающаяся в «дополнении». 4. Культурный трансфер предполагает отрефлексированное представление агентов культурного импорта о национальной культурной повестке. 5. В результате культурного трансфера элемент, импортированный из чужой культуры, претерпевает серьезную трансформацию, деформируется; поэтому результат трансфера никогда полностью не совпадает с исходным проектом.
Эта концепция может быть дополнена идеями Ю. М. Лотмана из статьи 1983 года «К построению теории взаимодействия культур (семиотический аспект)». Так, описывая механизм культурного обмена, Лотман отмечает: «В систему с большой внутренней неопределенностью вносится извне текст, который именно потому, что он текст, а не некоторый голый „смысл“ сам обладает внутренней неопределенностью, представляя собой не овеществленную реализацию некоторого языка, а полиглотическое образование, поддающееся ряду интерпретаций с позиции различных языков, внутренне конфликтное и способное в новом контексте раскрываться совершенно новыми смыслами»[31].
Концепция культурного трансфера не только удачно дополняет подходы рецептивной эстетики, но и дает возможность вывести понимание некоторых важнейших процессов на новый уровень. Но нужно сразу отметить, что это понятие не может быть без существенных изменений приложимо к ситуациям имперским и постимперским, когда между обществами (а не столько самими культурами) выстроены отношения неравенства, меняющиеся в ходе исследуемого процесса. Эспань обосновал этот подход на материале франко-германского межкультурного взаимодействия; важным обстоятельством этого являлось то, что исторический период, который интересовал Эспаня, – несколько десятилетий после сокрушительного поражения Франции в войне с Германией (1870–1871). Многие последователи Эспаня считают, что эта ситуация военного поражения и неравенства сил участников «пересадки» является своего рода образцовым полигоном для других случаев культурного трансфера. Но справедливо указать и на разнообразие потенциальных кейсов, несводимых к исходной модели, и, наконец, на истоки этого понятия в идее «встречных течений» Александра Веселовского (что охотно признает и подчеркивает сам Эспань). Идея трансфера позволяет увидеть в рецепции украинскими писателями и литературными теоретиками достижений революционной русской культуры не столько пассивное заимствование или навязанный метрополией процесс, сколько активный и сознательный выбор самой строящейся национальной украинской культуры.
Пристальный анализ таких сюжетов, как развитие передовой литературной теории (формализма) в советской Украине в 1920‐е годы, «пересборка» идей и концептов русского формализма для конструирования национально-культурной идентичности, баланс классового и национального подходов времен «коренизации»[32], судьба украинского литературного модернизма, авангарда и литературной теории в условиях сворачивания проекта «советских 1920‐х», – все это позволит по-новому подойти к изучению проблемы политического содержания литературных и теоретических поисков в советской Украине. Все эти вопросы заставляют нас, во-первых, исследовать до сих пор недостаточно введенный в научный оборот фактический материал и, во-вторых, по-новому осмыслить концептуальные подходы, необходимые для реконструкции и понимания истории науки и культуры советского периода.