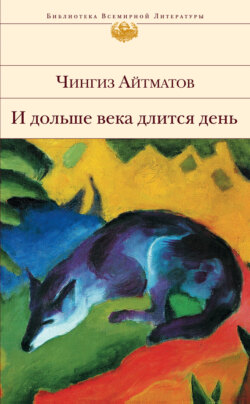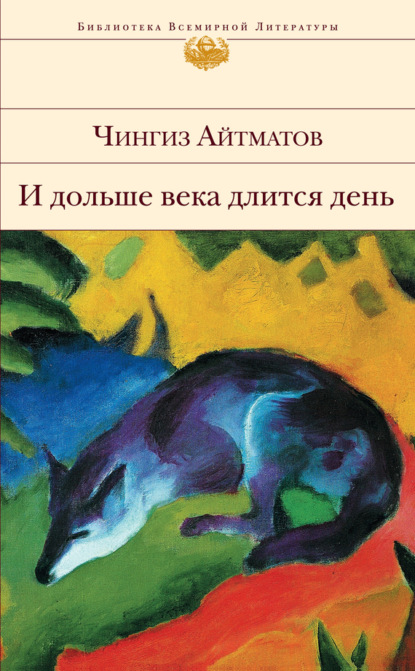Буранный полустанок
И книга эта – вместо моего тела,
И слово это – вместо души моей…
Нарекаци. Книга скорби. X век
I
Требовалось большое терпение в поисках добычи по иссохшим буеракам и облысевшим логам. Выслеживая запутанные до головокружения, суетливые пробежки мелкой землеройной твари, то лихорадочно разгребая сусликовую нору, то выжидая, чтобы притаившийся под обмыском старой промоины крохотный тушканчик выпрыгнул наконец на открытое место, где его можно было бы придавить в два счета, мышкующая голодная лисица медленно и неуклонно приближалась издали к железной дороге, той темнеющей ровнопротяженной насыпной гряде в степи, которая ее и манила и отпугивала одновременно, по которой то в одну, то в другую сторону, тяжко содрогая землю окрест, проносились громыхающие поезда, оставляя по себе с дымом и гарью сильные раздражающие запахи, гонимые по земле ветром.
К вечеру лисица залегла пообочь телеграфной линии на дне овражка, в густом и высоком островке сухостойного конского щавеля и, свернувшись рыже-палевым комком подле темно-красных, густо обсеменившихся стеблей, терпеливо дожидалась ночи, нервно прядая ушами, постоянно прислушиваясь к тонкому посвисту понизового ветра в жестко шелестящих мертвых травах. Телеграфные столбы тоже нудно гудели. Лиса, однако, их не боялась. Столбы всегда остаются на месте, они не могут преследовать.
Но оглушительные шумы периодически пробегающих поездов всякий раз заставляли ее напряженно вздрагивать и еще крепче вжиматься в себя. От гудящего пода всем своим хрупким тельцем, ребрами она ощущала эту чудовищную силу землепроминающей тяжеловесности и яростности движения составов и все-таки, превозмогая страх и отвращение к чуждым запахам, не уходила из овражка, ждала своего часа, когда с наступлением ночи на путях станет относительно спокойнее.
Она прибегала сюда крайне редко, только в исключительно голодных случаях…
В перерывах между поездами в степи наступала внезапная тишина, как после обвала, и в той абсолютной тишине лисица улавливала в воздухе настораживающий ее какой-то невнятный высотный звук, витавший над сумеречной степью, едва слышный, никому не принадлежащий. То была игра воздушных течений, то было к скорой перемене погоды. Зверек инстинктивно чувствовал это и горько замирал, застывая в неподвижности, ему хотелось взвыть в голос, затявкать от смутного предощущения некой общей беды. Но голод заглушал даже этот предупреждающий сигнал природы.
Зализывая намаянные в беготне подушечки лап, лиса лишь тихонько поскуливала.
В те дни вечерами уже холодало, дело шло к осени. По ночам же почва быстро выхолаживалась, и к рассвету степь покрывалась белесым, как солончак, налетом недолговечного инея. Скудная, безотрадная пора приближалась для степного зверя. Та редкая дичь, что держалась в этих краях летом, исчезла кто куда – кто в теплые края, кто в норы, кто подался на зиму в пески. Теперь каждая лисица промышляла себе пропитание, рыская в степи в полном одиночестве, точно бы начисто перевелось на свете лисье отродье. Молодняк того года уже подрос и разбежался в разные стороны, а любовная пора еще была впереди, когда лисы начнут сбегаться зимой отовсюду для новых встреч, когда самцы будут сшибаться в драках с такой силой, какой наделена жизнь от сотворения мира…
С наступлением ночи лисица вышла из овражка. Выждала, вслушиваясь, и потрусила к железнодорожной насыпи, бесшумно перебегая то на одну, то на другую сторону путей. Здесь она выискивала объедки, выброшенные пассажирами из окон вагонов. Долго ей пришлось бежать вдоль полотна, обнюхивая всяческие предметы, дразнящие и отвратительно пахнущие, пока не наткнулась на что-то мало-мальски пригодное. Весь путь следования поездов был засорен обрывками бумаги и скомканных газет, битыми бутылками, окурками, искореженными консервными банками и прочим бесполезным мусором. Особенно зловонным был дух из горлышек уцелевших бутылок – разило дурманом. После того как раза два закружилась голова, лисица уже избегала вдыхать в себя спиртной воздух. Фыркала, отскакивала сразу в сторону.
А того, что ей требовалось, ради чего она так долго готовилась, перебарывая собственный страх, как назло, не встречалось. И в надежде, что еще удастся чем-то подкормиться, лиса неутомимо бежала по железной дороге, то и дело шмыгая с одной стороны насыпи на другую.
Но вдруг она замерла на бегу, приподняв переднюю лапу, точно бы застигнутая чем-то врасплох. Растворяясь в чахлом свете высокой мглистой луны, она стояла между рельсами как призрак, не шелохнувшись. Настораживающий ее далекий гул не исчез. Пока он был слишком далек. Все так же держа хвост на отлете, лиса нерешительно ступила с ноги на ногу, собираясь убраться с пути. Но вместо этого вдруг заторопилась, принялась шнырять по откосам, все еще надеясь наткнуться на нечто такое, чем можно было бы поживиться. Чуяла – вот-вот налетит на находку, хотя неотвратимо надвигались издали всевозрастающим грозным приступом железный лязг и перестук сотен колес. Лиса замешкалась всего на какую-то долю минуты, и этого оказалось достаточно, чтобы она заметалась, закувыркалась, как ошалевший мотылек, когда вдруг с поворота полоснули ближние и дальние огни спаренных цугом локомотивов, когда мощные прожекторы, высветляя и ослепляя всю впереди лежащую местность, на мгновение выбелили степь, безжалостно обнажая ее мертвенную сушь. А поезд сокрушительно катил по рельсам. В воздухе запахло едкой гарью и пылью, ударил ветер.
Лисица опрометью кинулась прочь, то и дело оглядываясь, припадая в страхе к земле. А чудовище с бегущими огнями долго еще грохотало и проносилось, долго еще стучало колесами. Лисица вскакивала и снова бросалась бежать со всех ног…
Потом она отдышалась, и ее опять потянуло туда, к железной дороге, где можно было утолить голод. Но впереди на линии снова завиднелись огни, снова пара локомотивов тащила длинный груженый состав.
Тогда лисица побежала в обход по степи, решив, что выйдет к железной дороге в таком месте, где не ходят поезда…
Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток…
А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства – Сары-Озеки, Серединные земли желтых степей.
В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана…
А поезда шли с востока на запад и с запада на восток…
В полночь кто-то долго и упорно добирался к нему в будку стрелочника, вначале прямо по шпалам, потом, с появлением встречного поезда впереди, скатившись вниз с откоса, пробивался, как в пургу, заслоняясь руками от ветра и пыли, выносимых шквалом из-под скоростного товарняка (то следовал зеленой улицей литерный состав – поезд особого назначения, который уходил затем на отдельную ветку, в закрытую зону Сары-Озек-1, там у них своя, отдельная путевая служба, уходил на космодром, короче говоря, потому поезд шел весь укрытый брезентами и с воинской охраной на платформах). Едигей сразу догадался, что это жена спешила к нему, что неспроста спешит и что есть на то какая-то очень серьезная причина. Так оно потом и оказалось. Но по долгу службы он не имел права отлучиться с места, пока не прокатился мимо последний хвостовой вагон с кондуктором на открытой площадке. Они посигналили друг другу фонарями в знак того, что все в порядке на пути, и только тогда полуоглохший от сплошного шума Едигей обернулся к подоспевшей жене:
– Ты чего?
Она тревожно глянула на него и шевельнула губами. Едигей не расслышал, но понял – так и думал.
– Пошли сюда от ветра. – Он повел ее в будку.
Но прежде чем услышать из ее уст то, что он уже сам предполагал, в ту минуту почему-то поразило его совсем другое. Хотя и прежде он примечал, что дело шло к старости, но в этот раз оттого, как задыхалась она после быстрой ходьбы, как надсадно хрипело и сипело в ее груди и как при этом неестественно высоко вздымались обхудевшие плечи, ему стало обидно за нее. Сильный электрический свет в маленькой, начисто выбеленной железнодорожной будке вдруг резко обнаружил никогда уже не обратимые морщины на синюшно потемневших щеках Укубалы (а была ведь литой смуглянкой ровного пшеничного оттенка, и глаза всегда сияли черным блеском), и еще эта щербатость рта, лишний раз убеждающая, что даже отжившей свой бабий век женщине никак не следует быть беззубой (давно надо было свозить ее на станцию вставить эти самые металлические зубы, теперь все, и стар и млад, ходят с такими), и ко всему тому седые, уже белым-белые пряди волос, разметавшиеся по лицу из-под опавшего платка, больно резанули сердце. «Эх, как постарела ты у меня», – пожалел он ее в душе с щемящим чувством некой собственной вины. И оттого еще больше проникся молчаливой благодарностью, явившейся за все сразу, за все то, что было пережито вместе за многие годы, и особенно за то, что прибежала сейчас по путям, среди ночи, в самую дальнюю точку разъезда из уважения и из долга, потому что знала, как это важно для Едигея, прибежала сказать о смерти несчастного старика Казангапа, одинокого старца, умершего в пустой глинобитной мазанке, потому что понимала – только Едигей один на свете близко к сердцу примет кончину всеми покинутого человека, хотя покойник и не доводился мужу ни братом, ни сватом.
– Садись, отдышись, – сказал Едигей, когда они вошли в будку.
– И ты садись, – сказала она мужу.
Они сели.
– Что случилось?
– Казангап умер.
– Когда?
– Да вот только что заглянула – как он там, думаю, может, чего требуется. Вхожу, свет горит, и он на своем месте, и только борода торчком как-то, задралась кверху. Подхожу. Казаке, говорю, Казаке, может, вам чаю горячего, а он уже. – Голос ее пресекся, слезы навернулись на покрасневшие и истончившиеся веки, и, всхлипнув, Укубала тихо заплакала. – Вот как оно обернулось под конец. Какой человек был! А умер – некому, оказалось, глаза закрыть, – сокрушалась она, плача. – Кто бы мог подумать! Так и помер человек… – Она собиралась сказать – как собака на дороге, но промолчала, не стоило уточнять, и без того было ясно.
Слушая жену, Буранный Едигей – так прозывался он в округе, прослужив на разъезде Боранлы-Буранный от тех дней еще, как вернулся с войны, – сумрачно сидел на приставной лавке, положив тяжелые, как коряги, руки на колени. Козырек железнодорожной фуражки, изрядно замасленной и потрепанной, затенял его глаза. О чем он думал?
– Что будем делать теперь? – промолвила жена.
Едигей поднял голову, глянул на нее с горькой усмешкой.
– Что будем делать? А что делают в таких случаях! Хоронить будем. – Он привстал с места, как человек, уже принявший решение. – Ты вот что, жена, возвращайся побыстрей. А сейчас слушай меня.
– Слушаю.
– Разбуди Оспана. Не смотри, что начальник разъезда, не важно, перед смертью все равны. Скажи ему, что Казангап умер. Сорок четыре года проработал человек на одном месте. Оспан, может, тогда еще и не родился, когда Казангап начинал здесь, и никакую собаку ни за какие деньги не затянуть было тогда сюда, на сарозеки. Сколько поездов прошло тут на веку его – волос не хватит на голове… Пусть он подумает. Так и скажи. И еще слушай…
– Слушаю.
– Буди всех подряд. Стучи в окошки. Сколько нас тут народу – восемь домов, по пальцам перечесть… Всех подними на ноги. Никто не должен спать сегодня, когда умер такой человек. Всех подними на ноги.
– А если ругаться начнут?
– Наше дело известить каждого, а там пусть ругаются. Скажи, что я велел будить. Надо совесть иметь. Постой!
– Что еще?
– Забеги вначале к дежурному, сегодня Шаймерден сидит диспетчером, передай ему, что и как, и скажи, пусть подумает, как быть. Может, найдет мне замену на этот раз. Если что, пусть даст знать. Ты поняла меня, так и скажи!
– Скажу, скажу, – отвечала Укубала, а потом спохватилась, как бы вспомнив вдруг о самом главном, непростительно забытом ею: – А дети-то его! Вот те на! Надо же им первым долгом весть послать, а то как же? Отец умер…
При этих словах Едигей нахмурился отчужденно, еще больше посуровел. Не отозвался.
– Какие ни есть, но дети есть дети, – продолжала Укубала оправдывающим тоном, зная, что Едигею это неприятно слушать.
– Да знаю, – махнул он рукой. – Что ж я, совсем не соображаю? Вот то-то и оно, как можно без них, хотя, будь моя воля, я бы их близко не допустил!
– Едигей, то не наше дело. Пусть приедут и сами хоронят. Разговоров будет потом, век не оберешься…
– А я что, мешаю? Пусть едут.
– А как сын не поспеет из города?
– Поспеет, если захочет. Позавчера еще, когда был на станции, сам телеграмму отбил ему, что, мол, так и так, отец твой при смерти. Чего еще больше! Он себя умным считает, должен понять, что к чему…
– Ну, если так, то еще ладно, – неопределенно примирилась жена с доводами Едигея и, все еще думая о чем-то своем, тревожащем ее, проговорила: – Хорошо бы с женой заявился, все-таки свекра хоронить, а не кого-нибудь…
– Это уж сами пусть решают. Как тут подсказывать, не малые же дети.
– Да, так-то оно, конечно, – все еще сомневаясь, соглашалась Укубала.
И они замолчали.
– Ну, ты не задерживайся, иди, – напомнил было Едигей.
У жены, однако, было еще что сказать:
– А дочь-то его – Айзада горемычная – на станции с мужем своим, забулдыгой беспробудным, да с детьми, ей ведь тоже надо успеть на похороны.
Едигей невольно улыбнулся, похлопал жену по плечу.
– Ну вот, ты теперь начнешь переживать за каждого… До Айзады тут рукой подать, с утра подскочит кто-нибудь на станцию, скажет. Прибудет, конечно. Ты, жена, пойми одно – и от Айзады, и от Сабитжана тем более, пусть он и сын, мужчина, толку будет мало. Вот посмотришь, приедут, никуда не денутся, но будут стоять как гости сторонние, а хоронить будем мы, так уж получается… Иди и делай, как я сказал.
Жена пошла, потом остановилась нерешительно и снова пошла. Но тут окликнул ее сам Едигей:
– Не забудь перво-наперво к дежурному, к Шаймердену, пусть кого-то пошлет вместо меня, а потом отработаю. Покойник лежит в пустом доме, и рядом никого, как можно… Так и скажи…
И жена пошла, кивнув. Тем временем на дистанционном щите загудел, заморгал красным светом сигнализатор – к разъезду Боранлы-Буранный приближался новый состав. По команде дежурного предстояло принять его на запасную линию, чтобы пропустить встречный, тоже находящийся у входа в разъезд, только у стрелки с противоположного конца. Обычный маневр. Пока поезда продвигались по своим колеям, Едигей оглядывался урывками на уходящую краем линии Укубалу, точно бы он забыл что-то еще сказать ей. Сказать, конечно, было что, мало ли дел перед похоронами, всего сразу не сообразишь, но оглядывался он не поэтому, просто именно сейчас он обратил внимание с огорчением, как состарилась, ссутулилась жена в последнее время, и это очень заметно было в желтой дымке тусклого путевого освещения.
«Стало быть, старость уже на плечах сидит, – подумалось ему. – Вот и дожили – старик и старуха!» И хотя здоровьем бог его не обидел, крепок был еще, но счет годам набегал немалый – шестьдесят, да еще с годком, шестьдесят один было уже. «Глядишь, года через два и на пенсию могут попросить», – сказал Едигей себе не без насмешки. Но он знал, что не так скоро уйдет на пенсию и не так просто найти человека в этих краях на его место – обходчика путей и ремонтного рабочего, стрелочником он бывал от случая к случаю, когда кто-то заболевал или уходил в отпуск. Разве что кто позарится на дополнительную оплату за отдаленность и безводность? Но вряд ли. Поди сыщи таких среди нынешней молодежи.
Чтобы жить на сарозекских разъездах, надо дух иметь, а иначе сгинешь. Степь огромна, а человек невелик. Степь безучастна, ей все равно, худо ли, хорошо ли тебе, принимай ее такую, какая она есть, а человеку не все равно, что и как на свете, и терзается он, томится, кажется, что где-то в другом месте, среди других людей ему бы повезло, а тут он по ошибке судьбы… И оттого утрачивает он себя перед лицом великой неумолимой степи, разряжается духом, как тот аккумулятор с трехколесного мотоцикла Шаймердена. Хозяин все бережет его, сам не ездит и другим не дает. Вот и стоит машина без дела, а как надо – не заводится, иссякла заводная сила. Так и человек на сарозекских разъездах: не пристанет к делу, не укоренится в степи, не приживется – трудно устоять будет. Иные, глядя из вагонов мимоходом, за голову хватаются – господи, как тут люди могут жить?! Кругом только степь да верблюды! А вот так и живут, у кого на сколько терпения хватает. Три года, от силы четыре продержится – и делу тамам[1]: рассчитывается и уезжает куда подальше…
На Боранлы-Буранном только двое укоренились тут на всю жизнь – Казангап и он, Буранный Едигей. А сколько перебывало других между тем! О себе трудно судить, жил не сдавался, а Казангап отработал здесь сорок четыре года не потому, что дурнее других был. На десяток иных не променял бы Едигей одного Казангапа… Нет теперь его, нет Казангапа…
Поезда разминулись, один ушел на восток, другой на запад. Опустели на какое-то время разъездные пути Боранлы-Буранного. И сразу все обнажилось вокруг – звезды с темного неба засветились вроде сильнее, отчетливее, и ветер резвее загулял по откосам, по шпалам, по гравийному настилу между слабо позванивающими, пощелкивающими рельсами.
Едигей не уходил в будку. Задумался, прислонился к столбу. Далеко впереди, за железной дорогой, различил смутные силуэты пасущихся в поле верблюдов. Они стояли под луной, застыв в неподвижности, пережидали ночь. И среди них различил Едигей своего двугорбого, крупноголового нара – самого сильного, пожалуй, в сарозеках и быстроходного, прозывающегося, как и хозяин, Буранным Каранаром. Едигей гордился им, редкой силы животное, хотя и нелегко управляться с ним, потому как Каранар оставался атаном – в молодости Едигей его не кастрировал, а потом не стал трогать.
Среди прочих дел на завтра припомнил для себя Едигей, что надо с утра пораньше пригнать Каранара домой, поставить под седловище. Пригодится для поездок на похоронах. И еще приходили в голову разные заботы…
А на разъезде люди пока еще спокойно спали. С примостившимися с одного края путей небольшими станционными службами, с домами под одинаковыми двускатными шиферными крышами, их было шесть сборно-щитовых построек, поставленных железнодорожным ведомством, да еще дом Едигея, построенный им самим, и мазанка покойного Казангапа да разные надворные печурки, пристройки, камышитовые загороди для скота и прочей надобности, в центре ветровая и она же универсальная электронасосная и при случае ручная водокачка, появившаяся здесь в последние годы, – вот и весь поселочек Боранлы-Буранный.
Весь как есть при великой железной дороге, при великой Сары-Озекской степи, маленькое связующее звено в разветвленной, как кровеносные сосуды, системе других разъездов, станций, узлов, городов… Весь как есть, как на духу, открытый всем ветрам на свете, особенно зимним, когда метут сарозекские вьюги, заваливая дома по окна сугробами, а железную дорогу холмами плотного мерзлого свея… Потому и назывался этот степной разъезд Боранлы-Буранный, и надпись висит двойная: Боранлы – по-казахски, Буранный – по-русски…
Вспомнилось Едигею, что до того, как появились на перегонах всевозможные снегоочистители – и пуляющие снег струями, и сдвигающие его по сторонам килевыми ножами, и прочие, – пришлось им с Казангапом побороться с заносами на путях, можно сказать, не на жизнь, а на смерть. А вроде бы совсем недавно это было. В пятьдесят первом, пятьдесят втором годах – какие лютые зимы стояли. Разве только на фронте приходилось так, когда жизнь употреблялась на одноразовое дело – на одну атаку, на один бросок гранаты под танк… Так и здесь бывало. Пусть никто тебя не убивал. Но зато сам убивался. Сколько заносов перекидали вручную, выволокли волокушами и даже мешками выносили снег наверх, это на седьмом километре, там дорога проходит низом сквозь прорезанный бугор, и каждый раз казалось, что это последняя схватка с метельной круговертью и что ради этого можно не задумываясь отдать, к чертям, эту жизнь, только бы не слышать, как ревут в степи паровозы – им дорогу давай!
Но снега те растаяли, поезда те промчались, те годы ушли… Никому и дела нет теперь до того. Было – не было. Теперешние путейцы прибывают сюда наездами, шумливые типы – контрольно-ремонтные бригады, так они не то что не верят, не понимают, в голову не могут себе взять, как это могло быть: сарозекские заносы – и на перегоне несколько человек с лопатами! Чудеса! А среди них иные в открытую смеются: а зачем это надо было – такие муки брать на себя, зачем было гробить себя, с какой стати! Нам бы такое – ни за что! Да пошли вы к такой-то бабушке, поднялись бы – и на другое место, на худой конец на стройку-матку двинулись бы или еще куда, где все как положено. Столько-то отработали – столько-то плати. А если аврал – собирай народ, гони сверхурочные… «На дурняка выезжали на вас, старики, дураками и помрете!..»
Когда встречались такие «переоценщики», Казангап не обращал на них внимания, точно бы это его не касалось, усмехался только, будто бы он знал про себя нечто большее, им недоступное, а Едигей – тот не выдерживал, взрывался, бывало, спорил, только кровь себе портил.
А ведь между собой у них с Казангапом случались разговоры и о том, над чем посмеивались теперь приезжие типы в контрольно-ремонтных спецвагонах, и о многом другом еще и в прежние годы, когда эти умники наверняка еще без штанов бегали, а они тогда еще обмозговывали житье-бытье насколько хватало разумения и потом постоянно, срок-то был великий от тех дней – с сорок пятого года, и особенно после того, как вышел Казангап на пенсию, да как-то неудачно получилось: уехал в город к сыну на житье и вернулся месяца через три. О многом тогда потолковали, как и что оно на свете. Мудрый был мужик Казангап. Есть о чем вспомнить… И вдруг понял Едигей с совершенной ясностью и острым приступом нахлынувшей горечи, что отныне остается только вспоминать…
Едигей поспешил в будку, услышав, как щелкнул, включился микрофон переговорника. Зашуршало, зашумело, как в пургу, в этом дурацком устройстве, прежде чем голос раздался.
– Едике, алло, Едике, – просипел Шаймерден, дежурный по разъезду, – ты слышишь меня? Отзовись!
– Я слушаю! Слышу!
– Ты слышишь?
– Слышу, слышу!
– Как слышишь?
– Как с того света!
– Почему как с того света?
– Да так!
– А-а… Стало быть, старик Казангап того самого!
– Чего того самого?
– Ну, умер, значит. – Шаймерден тщился найти подходящие к случаю слова. – Ну как сказать? Стало быть, завершил, того самого, ну, это самое, свой славный путь.
– Да, – коротко ответил Едигей.
«Вот хайван[2] безмозглый, – подумал он, – даже о смерти сказать не может по-людски».
Шаймерден примолк на минутку. Микрофон еще сильнее разразился шорохом, скрипом, шумом дыхания. Затем Шаймерден прохрипел:
– Едике, дорогой, только ты, того самого, голову мне не морочь. Если умер, то что ж теперь… У меня людей нет. Чего тебе понадобилось сидеть рядом? Покойник, того самого, от этого не подымется, как я думаю…
– А я думаю, понятия у тебя никакого нет! – возмутился Едигей. – Что значит «голову не морочь»! Ты здесь второй год, а мы с ним тридцать лет проработали вместе. Ты подумай. Среди нас человек умер, нельзя, не положено оставлять покойника одного в пустом доме.
– А откуда ему знать, того самого, один он или не один?
– Зато мы знаем!
– Ну ладно, не шуми, того самого, не шуми, старик!
– Я тебе объясняю.
– Ну что ты хочешь? У меня людей нет. Что там будешь делать, все равно ночь кругом.
– Буду молиться. Покойника буду обряжать. Молитвы буду приносить.
– Молиться? Ты, Буранный Едигей?
– Да, я. Я знаю молитвы.
– Вот те раз – шестьдесят лет, того самого, советской власти.
– Да ты оставь, при чем тут советская власть! По умершим молятся люди испокон веков. Человек ведь умер, а не скотина!
– Ну ладно, молись, того самого, только не шуми. Пошлю за Длинным Эдильбаем, если согласится, то придет, того самого, заступит вместо тебя… А сейчас давай, сто семнадцатый подходит, готовь на вторую запасную…
И на том Шаймерден отключился, щелкнул выключатель переговорника. Едигей поспешил к стрелке и, занимаясь своим делом, думал, согласится ли, придет ли Эдильбай. И обнадежился, совесть-то есть у людей, когда увидел, как ярко засветились окна в некоторых домах. Собаки залаяли. Значит, жена тревожит, поднимает боранлинцев на ноги.
Тем временем сто семнадцатый встал на запасную линию. С другого конца подошел нефтеналивной состав – одни цистерны. Они разминулись, один – на восток, другой – на запад.
Был уже второй час ночи. Звезды в небе разгорались, каждая звезда выделялась сама по себе. И луна засветила над сарозеками чуть ярче, наполняясь некой добавочной, постепенно приливающей силой. А под звездным небом далеко, беспредельно простерлись сарозеки, только контуры верблюдов – и среди них двугорбый великан Буранный Каранар – да смутные очертания ближайших привалков были различимы, а все остальное по обе стороны железной дороги уходило в ночную бесконечность. Да ветер не спал, все посвистывал, шуршал вокруг сором.
Едигей то входил, то выходил из будки, ждал, не покажется ли на путях Длинный Эдильбай. И тут он увидел в стороне зверька какого-то. То оказалась лисица. Глаза ее отсвечивали зеленоватым мигающим переливом. Она понуро стояла под телеграфным столбом, не собираясь ни приближаться, ни убегать.
– Ты чего тут! – пробормотал Едигей, шутливо пригрозив пальцем. Лиса не испугалась. – Ты смотри! Я тебя! – И притопнул ногой.
Лисица отскочила подальше и села, оборотившись к нему. Пристально и скорбно смотрела она, как казалось ему, не сводя глаз, то ли на него, то ли на что-то другое возле него. Что ее могло привлекать, почему она появилась здесь? То ли огни электрические приманили, то ли с голоду пришла? Странным показалось Едигею ее поведение. А почему не пристукнуть каменюкой, раз такое дело, коли добыча сама в руки просится? Едигей пошарил на земле камень покрупней. Примерился и, замахнувшись, опустил руку. Выронил камень под ноги. Даже пот прошиб. Надо же, чего только не приходит человеку в голову! Чушь какая-то! Собираясь прибить лису, вспомнил вдруг, как кто-то рассказывал, то ли кто из тех приезжих типов, то ли фотограф, с которым о боге беседовал, то ли еще кто-то, да нет же, Сабитжан рассказывал, будь он неладен, вечно у него разные чудеса, лишь бы ему внимали, лишь бы поразить других. Сабитжан, сын Казангапа, рассказывал о посмертном переселении душ.
Вот ведь выучили на свою голову болтуна никчемного. Поглядеть с первого раза – вроде ничего малый. Все-то он знает, все-то он слышал, только толку мало от всего этого. Учили, учили по интернатам, по институтам, а человечек получился не ахти. Похвалиться любит, выпить, тосты сочинять мастак, а дела нет. Пустышка, одним словом, оттого и жидковат против Казангапа, хотя и дипломом козыряет. Нет, не удался, не в отца пошел сын. Но бог с ним, что же делать, какой есть.
Так вот, как-то рассказывал он, что в Индии верят в учение, по которому считается, что если человек умирает, то душа его переселяется в какую-нибудь живую тварь, в любую, пусть даже то муравей. И считается, что каждый человек когда-то, еще до своего рождения, побывал птицей, или зверем каким-нибудь, или насекомым. Поэтому у них грех убить любую животину, пусть даже змея, кобра встретится на пути, не тронет, а лишь поклонится и уступит дорогу.
Каких только чудес нет на свете. Насколько все это верно, кто его знает. Мир велик, а человеку не все дано знать. Вот и подумалось, когда хотел пристукнуть камнем лису: а что, если в ней отныне душа Казангапа? Что, если, переселившись в лису, пришел Казангап к своему лучшему другу, потому что в мазанке после его смерти пусто, безлюдно, тоскливо?.. «Из ума выживаю никак? – укорял он себя. – И как может такое придуматься? Тьфу ты! Оглупел вконец!»
И все-таки, подступая осторожно к лисице, он говорил ей, точно она могла понимать его речь:
– Ты иди, не место тебе здесь, иди к себе в степь. Слышишь? Иди, иди. Только не туда – там собаки. Ступай с богом, иди себе в степь.
Лисица повернулась и потрусила прочь. Раз-два оглянувшись, она исчезла во тьме.
Между тем на разъезд снова подходил очередной железнодорожный состав. Погромыхивая, поезд постепенно замедлил ход, неся с собой мерцающую мглу движения – летучую пыль над верхами вагонов. Когда он остановился, из локомотива, сдержанно гудящего холостыми оборотами двигателей, выглянул машинист:
– Эй, Едике, Буранный, ассалам-алейкум!
– Алейкум-ассалам!
Едигей задрал голову, чтобы получше разглядеть, кто бы это мог быть. На этой трассе они все знали друг друга. Свой оказался парень. С ним и передал Едигей, чтобы на Кумбеле, на узловой станции, где жила Айзада, сообщили ей о смерти отца. Машинист охотно согласился выполнить эту просьбу из уважения к памяти Казангапа, тем более на Кумбеле пересмена поездных бригад, и обещал даже на обратном пути подвезти Айзаду с семьей, если она к тому времени поспеет.
Человек был надежный. Едигей почувствовал даже облегчение. Значит, одно дело сделано.
Поезд тронулся через несколько минут, и, прощаясь с машинистом, Едигей увидел, что кто-то долговязый шел к нему краем полотна, вдоль набирающего ход состава. Едигей вгляделся, то был Эдильбай.
Пока Едигей сдал смену, пока они с Длинным Эдильбаем поговорили о случившемся, повздыхали, повспоминали Казангапа, на Боранлы-Буранный вкатилась и разминулась еще пара поездов. И когда, освободившись от всех этих дел, Едигей пошел домой, вспомнил по дороге наконец-то, что позабыл давеча напомнить жене, вернее посоветоваться, как же быть, дочерям-то своим да зятьям как сообщить о кончине старика Казангапа. Две замужние дочери Едигея жили совсем в другой стороне – под Кзыл-Ордой. Старшая в рисоводческом совхозе, муж ее тракторист. Младшая жила вначале на станции под Казалинском, потом переехала с семьей поближе к сестре, в тот же совхоз, муж ее работал шофером. И хотя Казангап не приходился им родным человеком, на похороны которого полагается непременно прибыть, Едигей считал, что Казангап был для них дороже, чем любой другой родственник. Дочери народились при нем на Боранлы-Буранном. Здесь выросли, учились в школе, в станционном интернате в Кумбеле, куда отвозили их поочередно то сам Едигей, то Казангап. Вспомнил девчушек. Вспомнил, как на каникулы или с каникул возили их верхом на верблюде. Младшая впереди, отец посередине, старшая сзади – и поехали все втроем. Часа три, а зимой так и дольше, рысцой размашистой бежал Каранар от Боранлы-Буранного до Кумбеля. А когда Едигею некогда было, отвозил их Казангап. Он был им как отец. Едигей решил, что утром надо дать им телеграмму, а там как сумеют… Но пусть знают, что нет больше старика Казангапа…