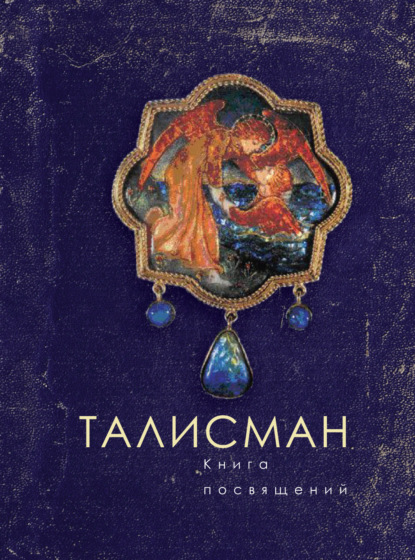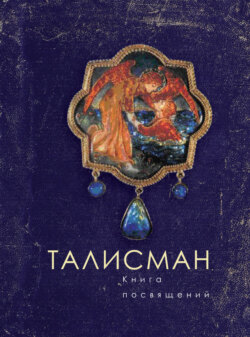
000
ОтложитьЧитал
Память сердца
Передо мной – книга, скомпонованная по довольно редкому принципу: в ней собраны стихотворения с посвящениями. Можно сказать, находка для литературоведа, ибо здесь представлена вся жанровая палитра посвящений – от буквенных инкогнито до полных имён, включая топонимы. Известно, что любое стихотворение, даже обращённое к самому себе, – поиск собеседника, родственной души. Стихотворение с посвящением – это «слышание себя изнутри <…> в эмоциональном голосе другого» (М.М. Бахтин). Таково неизбывное родовое свойство лирики.
Классическое посвящение в малых жанрах, знакомое каждому из нас, обычно сохраняло криптонимную, тайную природу. Встречаются такие и в книге «Талисман», например, у Риммы Запесоцкой – К*** («Всё дальше расходятся наши пути…»), Галины Комичевой – NN («Как яблоко, готовое упасть…»), у Юрия Кобрина («Друг для друга» с целомудренным посвящением Н.К.) и др.
Пограничным жанром по отношению к классическому посвящению выступают, конечно же, мемории: «На могиле Высоцкого» (Светлана Куралех), «Кавказский мечтатель. Памяти отца» (Георгий Яропольский), «Памяти Серафимы Бронштейн» (Татьяна Ивлева), «Памяти Наташи Хаткиной (Владимир Авцен), «Мемориал над Рейном «Маалот» (Римма Запесоцкая), триптих «Вечной памяти моего отца» (Анна Креславская) и многие другие. В крошечном мемориальном цикле Эллы Крыловой «Синхронизм» – непреходящая боль утраты. Цикл написан верлибром, и от этого переживание лирической героини предстаёт жизненным, безыскусным. Название цикла подчёркивает родство душ оставшихся и ушедших.
Из этого скорбного ряда выламывается неожиданное, отточенное и грациозное «Воспоминание о плоде граната» Алексея Хвостенко, где угадываются философские интонации.
Светлана Куралех представлена в сборнике ещё и редким, да и технически сложным жанром акроэкспромта, сочетающего приметы акростиха, эпиграммы и «стиха на случай» («Белле Ахмадулиной» и «Евгению Евтушенко»). Имя адресата из названия дублируется здесь и в акроним-ной вертикали.
Сегодняшняя поэтическая вольница позволяет экспериментировать с традиционными приёмами в использовании эпиграфов и посвящений, что порой придаёт заглавию барочную избыточность и прихотливость. Посвящения становятся иногда лишь поводом для игры смыслов, как в стихотворении Алексея Хвостенко «Приличия ради» с посвящением М.В. Ломоносову:
мы в колбочках теперь
летим в стекляшках
бусинах
летим теперь
и вежливо киваем встречным <…>
Вот и стихотворение Юрия Берга «Набокову» также является сложной композиционной системой. После собственно заглавия здесь следует эпиграф из набоковской же «Лилит» («От солнца заслонясь, сверкая / подмышкой рыжею, в дверях / вдруг встала девочка нагая / с речною лилией в кудрях»), но само мучительное воспоминание адресовано не Набокову, а вовсе другому человеку – любимой женщине. В силу этого «плотские» флюиды эпиграфа истончаются и разрушаются в произведении, ибо разрушаются и ритмо-метрический рисунок, и тематический план: в эпиграфе из Набокова всё – надежда и жизнь, а в стихотворении – скрытое отчаянье и смерть:
Руки тянешь ко мне – люби, люби!
но лишь стоит шагнуть к тебе,
ускользаешь вновь и кричишь: лови!
а вокруг – круги по воде.
…Поминальной молитвы шепчу слова,
крест кладу на себя рукой,
«попереши змия, на Мя упова,
сам и душу раба упокой»!
И, напротив, в стихотворении Берга «Гоголю» заглавие-посвящение продуцирует гоголевскую эстетику тайны и комического ужаса, вызывая в читательской памяти сцены то ли «Майской ночи», то ли «Заколдованного места»:
А у омута крутятся черти,
с отраженьем играя Луны,
и котяра играет на флейте,
и танцуют гопак кавуны.
Во всех посвящениях сборника «Талисман» обнаруживается несколько тематических «болевых точек». Прежде всего, это родные поэтам люди: мать, отец, братья, сёстры, бабушки, тёти… Дети. Кровная и духовная связь – иногда всё ещё существующая, длящаяся, но чаще – прерванная или близкая к разрыву. Память сердца – всегда востребованная, всегда спасительная, вызывающая то очистительные слёзы, то грустную улыбку. Щемящие ноты невозвратности жизни пронизывают стихи-посвящения Бориса Марковского («Отцу», «Матери», «Дочери», «Старые фотографии» и другие). И вместе с тем в них натянута и звенит тугая нить, связующая времена: отец, мать, дочь, закат и рассвет, финал и начало…
Вторая «болевая точка» – друзья и любимые. Иногда те и другие названы по именам, иногда лишь обозначены: Татьяна Ивлева – «Мальчики. Светлой памяти друзей детства – Юры, Володи, Нуржана»; Леонид Блюмкин – «Друзья детства» («Клён у крыльца дощатого барака…»). У Валерия Рыльцова, чей отточенный и безжалостный стих словно вскрывает бытийные покровы, некоторые послания друзьям маскируются под стихоподобную прозу, где только «рифм сигнальные звоночки» (А.А. Ахматова) и чувство ритма приходят на помощь читателю:
Срезает времени фреза азарт лица и плоти порох,
как ни дави на тормоза, не избежать краёв, в которых
свирепствует пора утрат, нас обрекая на забвенье… Ка
ким люминофором, брат, на стенах третье поколенье
начертит знаки, наш типаж уничтожая без вопросов.
Что им, глумливым, эпатаж трубящей эры парово
зов?.. («Леониду Григорьяну»).
У Бориса Марковского в посвящении Е.М. («Не пишешь, не пишешь, не пишешь…») фактура стиха резонирует с верленовским настроением, отчего «полутон» печали лишь усиливается:
«Не пишешь, не пишешь, не пишешь…»
О чём же тебе написать?..
О том ли, что ветер над крышей
листву заставляет летать?
<…> Всё та же, всё та же морока,
вселенская хворь или хмарь —
кромешная музыка Блока,
аптека, брусчатка, фонарь…
Женственна и прозрачна лирика Веры Зубаревой. Интонации тоски и грусти неназойливы, однако их спокойные, без эффектного надрыва ноты лишь усиливают драматизм происходящего:
<…> Здесь – только лампа и луна
Во всём большом квадрате ночи.
Я думаю, что я одна,
Ты думаешь, что ты одна,
И сумма наших одиночеств
Кому-то третьему видна.
(Посвящение Людмиле Шарга)
В посвящениях Юрия Кобрина – имена и близких, и весьма именитых: Андрей Битов («Русская поэзия»), Арсений Тарковский, Татьяна Озерская («15 мая 1984»)… В каждом произведении Кобрина, дружески интимном или гражданском, – философское вопрошание жизни, истории, судьбы:
<…> Дрожало море слюдяною плёнкой,
и, замирая, видели втроём,
что даль уже не та за дымкой тонкой,
и голос звонкий смуглого ребёнка
раздался:
«Для чего живём?»
Третья «болевая точка» – «великие» (известные) люди. Помыслы авторов обращены к Борису Чичибабину, Матвею Грубияну, Инне Лиснянской (Владимир Авцен), Белле Ахмадулиной и Юрию Любимову (Светлана Куралех), Анне Ахматовой (Татьяна Ивлева) и Осипу Мандельштаму (Римма Запесоцкая, Борис Марковский)… Каждое «великое» имя – своего рода камертон, проверка не только поэтического, но и этического слуха, как в стихотворении Владимира Авцена «Поэт» (посвящение Борису Чичибабину), где определяющими становятся совесть художника и трагический дар предвиденья:
Эпохи постыдная мета —
державный мажор и елей.
Непраздное слово поэта
непразднично в сути своей.
<…> Как будто бы пламенем серным
нутро его обожжено,
как будто он знает, что смертным
ни ведать, ни знать не дано…
Небольшой цикл Дины Дронфорт под названием «Вослед кометам» объединяет сразу три посвящения – Булату Окуджаве, Анне Ахматовой и Акутагаве Рюноскэ. Особенность компоновки материала продиктована тематически (песенник Окуджава, режиссёр Иоселиани, завораживающий дальневосточный колорит Акутагавы).
Стихотворение Сергея Сутулова-Катеринича «Кавказ: две с половиной цитаты над пропастью» представляет в определённом смысле поэтическую игру. Казалось бы, оно посвящено цеховому братству – Лере Мурашовой и Георгию Яропольскому (кстати, выходцам с Кавказа). Но, вчитываясь, понимаешь: произведение имеет свою внутреннюю логику, заключает в себе адресный посыл не только к поименованным в посвящении друзьям, но и к авторам этих самых «двух с половиной цитат» – Пушкину (цитата «Кавказ подо мною…»), Лермонтову (цитата «Как сладкую песню отчизны моей…») и Пастернаку («Кавказ, что мне делать..», который и есть «половинная» цитата из его стихотворения «Пока мы по Кавказу лазаем…»). Таким образом, в акт художественной коммуникации наравне с друзьями, упомянутыми в посвящении, включаются три великих поэта.
Мастерские стихи Марины Гарбер обращены к поэту-современнику Даниилу Чконии («Перепахивай Лету, спеши, колеси её вброд…»). У Гарбер особая творческая манера. Её терпкие, напряжённые, словно формирующиеся на лету образы нижутся без передыха, без паузы, сталкиваясь друг с другом во всё более рискованных уточнениях, пытаясь то ли по-пастернаковски «дойти до самой сути», то ли истощиться до того предела, за которым – уже немота:
<…> И пока ты плывёшь, нерадивый, пропащий, чужой,
Горьковатую воду ловя вороватой губою,
Посмотри, как бескрайне закат покрывается ржой,
Как безадресно птицы кружат над твоей головою.
На прибрежье любовь, пошатнувшись, сошла с колеи,
Что игрушечный поезд,
под склоны скатилась послушно
И бросает слова, словно сети, – на губы твои,
Но других не дано, и не будет других, и не нужно.
В сборнике представлены и весьма своеобычные, завораживающие своей фантазийной прямотой произведения безвременно ушедшего поэта Андрея Ширяева, и среди них – два посвящения легендарным персонажам. Первый – библейская Далила, погубившая Самсона, второй – Каллиопа, богиня эпической поэзии. Тема Далилы накрепко связана с темой любви до гроба (в прямом смысле слова), вечного противоборства страсти, предательства и благородства: <…> «Ворота отворила и кровь отворила, / отравила, оплакала, похоронила; / слышишь – ждут на пороге, клинками звеня…» <…>
«Каллиопа» посвящена петербургскому поэту Виктору Сосноре, который много работал именно в жанре эпической лирики, так что перекличка имён (посвящения и адресата) и словно подслушанный монолог богини выглядит оправданно и органично:
<…> Мы только тень. Ты – в полусмерти, полусне —
Обрывок древнего древесного покоя,
Ночное таинство, нет, каинство ночное.
И птичий дар в руке. И в небе птичий снег.
Поэзия барда Марины Белоцерковской пронизана песенными интонациями, что неудивительно. Её открытая, добрая, порой по-детски озорная и слегка лукавая манера узнаваема сразу. Читая её стихи, нужно настроить внутреннее ухо на мелодию. Иногда автор просто подталкивает читателя к музыкальному решению, оставляя в тексте рефрены и ритмические перебивы, как, например, в «Посвящении Анне Бонни и Мэри Рид…». Общий настрой благодаря перебивам колеблется в финале от эмоционального всплеска к вздоху сожаления:
А брызги иль слёзы – не всё ли равно!
Еще остаются надежда и шпага,
И хрупкая грань между небом и дном.
Ах, леди, леди удачи!
Ах, леди, леди, леди удачи!
Ах, леди…
И ещё одна саднящая «болевая точка» – назовём её условно топографической. Родина. Или местность, где поэт бывал счастлив, где обретал понимание, вдохновение. «Городам и Любимым» посвящён цикл Дины Дронфорт, здесь встречаются и словно воспитанно спорят друг с другом Верона, Амстердам, Киль… Южный, горячий и пряный, экзотический мир, продуваемый ветрами свободы, предстаёт в профессионально отточенных стихотворениях Елены Чертковой «Patio», «Цыганская песня» и «Salsa». В «Лианозовских прудах» Елены Данченко соединяются боль за живую природу городских окраин («Под застройку закатаны насмерть пруды») и свежесть поэтического восприятия жизни («из расщелин асфальта траву выдувать /все трудней…»). Посвящение М.Ц. («Где тутовник и туя тесно переплелись…») поэтессы Леры Мурашовой чудесным образом – через конкретику и метафорику – восстанавливает цветаевский и гумилёвский контексты Серебряного века и недолгого коктебельского братства. Внутреннее напряжение сродни рвущейся струне достигается за счёт глубинных аллюзий вечной неприкаянности поэта и ранней гибели: читатель знает о смерти Николая Гумилёва (его скрытое присутствие обозначено у Мурашовой словосочетанием «скудно многоразличье» из гумилёвского стихотворения «Природа»), знает о трагической кончине самой Марины Цветаевой… И угадывает жертвенный мотив вина, приходящий в трагическое противоречие с юным цветаевским пророчеством (вспомним: «Моим стихам, как драгоценным винам, / Настанет свой черёд»):
<…> В южной зелени томной мирно зреет инжир.
Он, транзитный, бездомный, он, как мы, – пассажир,
станет ягодой винной. Значит, истина – есть?
Ах, Марина, Марина, благодатная весть. <…>
Талисман становится композиционным маркером всего сборника. Мотив талисмана звучит в начале книги у Юрия Берга – «Храни меня, мой верный талисман» («Храни меня») и в финале («Талисман» Татьяны Ивлевой). Поэтесса находит изящное смысловое решение, тонко играя с подтекстом – в трудную минуту человек хватается за соломинку. Свой талисман, собственную «охранную грамоту» – всё, чем «богата» героиня, она готова протянуть во спасение сыну:
Мою соломинку судьбы
Я разломила на две части.
Держи, одну тебе – на счастье!
Она поддержит в миг борьбы.
<…> Но счастье гость, увы, не частый,
Ты талисман мой не забудь —
Он стрелкой компаса в ненастье
Тебе укажет верный путь.
Для каждого поэта, представленного в сборнике, – свой талисман, свой ангел-хранитель, своя путеводная звезда: творчество, дружба, любовь… Всё то, что составляет память сердца, которая, как известно, «сильней рассудка памяти печальной» (К.Н. Батюшков). И которая делает сильней и тоньше читателя, прикоснувшегося к поэтическому талисману.
Ирина Попова-Бондаренко,кандидат филологических наук, доцент кафедры мировой литературы и классической филологии Донецкого национального университета
Леонид Блюмкин / Гамбург /

Леонид Блюмкин родился в 1944 году в Зауралье, в городе Кургане. Образование высшее техническое. Вторая профессия – журналист. Более 30 лет работал на Курганской студии телевидения. Стихи публиковались в газетах, журналах и альманахах, издающихся в городах Урала, Сибири, Москвы, а также в Германии. Автор пяти сборников стихов. Член Союза писателей России. С 2004 года живёт в Гамбурге.
«Клён у крыльца дощатого барака…»
Друзьям детства
Клён у крыльца дощатого барака —
его из прошлой жизни не сотру.
Им выдержана времени атака,
поёт зелёный парус на ветру.
По улицам, где нет ещё асфальта,
гонял я маломерку – велик свой.
И через руль крутил, бывало, сальто,
спасаемый землёю и травой.
Здесь, во дворе шпаны и книгочеев,
нас проверяло детство на излом.
Чем старше мы и суше, и мрачнее,
тем чаще вспоминаем о былом.
Мы остаёмся там, где родились,
в какой земле нам не пришлось лежать бы.
Там, где судьба ещё, как чистый лист,
и далеко до зрелости и жатвы.
Всё исчезает в сутолоке лет,
кумиров и диктаторов свергают.
Но подростковый мой велосипед
везёт меня и спицами сверкает.
Снесён давно простуженный барак,
меняются и климат, и режимы.
Но сквозь десятилетий кавардак
зелёный парус реет одержимо.
Вячеславу Веселову
Писателю, журналисту, лётчику, археологу
Ты этих строк не услышишь и не прочитаешь.
К нам не зайдёшь, чтобы «трёшку» занять на похмел.
Сколько их было, победных и горьких ристалищ
в жизни твоей, где устроиться ты не умел.
В северном небе, душе не дающем привала,
с птицей железной в кабине сроднился стрелок…
Всё, что узнал ты, в тебе до конца бунтовало,
всё, что впитал ты, бродя в перекрестьях дорог.
Струи воздушные или потоки морские,
прошлых веков по раскопам рассыпанный быт —
всё сохранилось в тебе, словно золото Скифов,
всё в твоих книгах, как жёрновом, память дробит.
В ста словарях не нашёл бы я нужного слова,
в сотне пророчеств свою не узрел бы звезду.
Ты сберегал от безвкусного, глупого, злого,
ты ободрял невозможную брать высоту.
Мне ль не ответить: «Спасибо, старик, за науку!»
Мне ль не отправить тебе в неизвестность привет.
Где я пожму твою лёгкую верную руку,
где я найду твой затерянный в вечности след?
«Немки российские, немки казахские…»
Поздним переселенцам
Немки российские, немки казахские —
русские бабушки в скромных платках.
Дома вставали с рассветными красками,
с песней хлопочущих утренних птах.
В избах – уют, чистота – в палисадниках,
выметен двор, и порядок в хлеву.
Только душа беспокойная в ссадинках,
с детства цеплявшая злую молву.
Изгнаны с Волги. Вагоны телячии
вас притащили в тайгу или в степь.
Кто-то вам в спину бросался проклятьями,
кто-то делил с вами угол и хлеб.
Что перенять вы смогли от родителей? —
Верность укладу, терпенье, язык.
Где ваши судьи и ваши гонители,
где побеждённые, где победители? —
Правды и лжи нестыкуемый стык.
Здесь, вдалеке от привычного берега,
здесь вам и дом приготовлен, и стол.
Здесь вы по-русски общаетесь в скверике,
руки сложив на широкий подол.
«Слов сентиментальных не любитель…»
Брату
Слов сентиментальных не любитель,
с давних пор трудяга из трудяг,
сам себя создатель и спаситель
сам себя из бед и передряг.
Может быть, под сатанинским небом
в поезде, идущем на восток,
в страхе и беспомощности слепо
в материнский тыкался платок.
Мальчик в синей новенькой матроске,
с локонами светлыми до плеч.
Выли бомбы, скрежетали доски,
и молчаньем становилась речь.
Вырвались из смертного капкана,
приняла на жительство Сибирь,
и за всех вздыхая покаянно,
за руку взяла, как поводырь.
По снегам, по лужам, по жаре ли
шёл, обид и злости не копя.
Тут тебя любили и жалели,
огорчали тоже тут тебя.
Рано повзрослевший, по-отцовски
всё в себе стараешься сберечь…
Мальчик в синей новенькой матроске,
с локонами светлыми до плеч.
«Никуда уезжать нам не надо…»
Моим санкт-петербургским знакомым
Впрочем, нам и не надо
уезжать никуда
А.Кушнер
Никуда уезжать нам не надо,
Рим, Париж и Венеция – здесь.
Петербурга тире Ленинграда
красота, величавость и спесь.
Зародился российской столицей,
горделиво взметнул купола.
По утрам над Невою дымится
трёх веков седоватая мгла.
Ровно дышат роскошные парки,
и не гаснут проспектов лучи.
Во дворах с зарешёченной аркой
чьи-то тени блуждают в ночи.
И во граде Петровом, где мокро
от холодных осенних дождей,
улыбаясь чему-то, вдоль Мойки
Пушкин резво идёт из гостей.
Летний сад просыпается рано,
сон слетает с богинь и богов.
Сверлит небо струя из фонтана,
пробивая заслон облаков.
А картина меняется снова:
мчит троллейбус, где был экипаж.
Царь с царицей стоят на Дворцовой,
приглашают зайти в Эрмитаж.
Рядом с ними снимитесь на фото
со счастливым смущённым лицом.
Нам в России плохая погода
не мешает, – считает ВЦИОМ1.
Бродит прошлое мраморным эхом
меж дворцов и священных могил…
Разве можно отсюда уехать,
если даже ты здесь и не жил!
«Не желая Господа тревожить по пустякам…»
Валентине
Не желая Господа тревожить по пустякам,
да на это и прав никаких не имея,
всё же с просьбой к нему пробегу по райским мосткам,
избегая в деревьях уснувшего змея.
И найдя старика в небесной его мастерской,
предъявлю ему женщины снимок случайный,
затерявшейся где-то по ходу жизни мирской,
внятных весточек от неё не получая.
И ничтоже сумняшеся, осмелев, попрошу:
поскорей отыщи мне заблудшую деву.
Обозначь ей тропку домой, как в лесу мурашу,
осени на благое и доброе дело.
Я стою пред тобою с дорожной сумкой, небрит,
и бубню отчаянно: озари прозреньем,
ибо, видно, не ведает женщина, что творит —
не обидь её жалостью или презреньем.
Ей по вере воздать бы удачей на много дней —
говорят, всё можешь, чего б не коснулся.
Сделай утро ранним, а закат хоть на миг длинней,
сделай так, как прошу, пока змей не проснулся.
Алексей Хвостенко / 1940–2004 /

Хвостенко Алексей Львович («Хвост») родился 14 ноября 1940 года в Свердловске. Учился в Высшей школе искусств и Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. В 1963 году создал литературное направление, которое назвал «Верпа». Поэт и композитор, художник, скульптор. В конце 1960-х начале 1970-х годов Алексей Хвостенко принимал большое участие в жизни ленинградского и московского андеграунда: самиздат, сочинение песен, написание картины. В 1977 году эмигрировал во Францию, жил в Париже, где издавал совместно с Владимиром Марамзиным журнал «Эхо». Организовывал выставки, концерты, спектакли, перформансы на заброшенных фабриках и сквотах, был вице-президентом Ассоциации русских художников во Франции, В Париже Хвостенко возглавлял Ассоциацию русских художников во Франции, тогда же была написана песня «Город золотой» («Рай»), которую исполнил Б. Гребенщиков в к/ф «АССА». В Лондоне в 1981-м году Алексей Хвостенко записал альбом «Последняя малина», запись прошла с двумя парижскими цыганами: Паскалем де Люшеком и Андреем Шестопаловым. В России этот диск вышел только в 2004 году при поддержке Олега Ковриги. Так же Хвостенко вместе с группой «АукцЫон» записал альбом «Жилец Вершин» на стихи Велимира Хлебникова и альбом «Чайник вина». В начале 2000- х годов Алексей Хвостенко стал бывать в России, в 2003 году он провел несколько концертов в Москве и Петербурге, записал совместно с питерской командой «deГенераторс» диск «Могила-live». В начале 2004 года Хвостенко было возвращено российское гражданство, и он вернулся в Россию. Скончался Алексей Хвостенко 30 ноября 2004 года в Москве в 61 городской больнице от сердечной недостаточности на фоне пневмонии…
- Мой дом на Урале
- Немка. Повесть о незабытой юности
- Еврейское счастье Арона-сапожника. Сапоги для Парада Победы
- Жизнь спустя
- Люди земли Русской. Статьи о русской истории
- Будь здоров, жмурик
- Ноша
- И каплет время…
- Дежавю
- Родники и камни (сборник)
- Цветы мертвых. Степные легенды (сборник)
- Просветленный хаос (тетраптих)
- Цена тишины
- Чемодан из музея партизанской славы
- Сизиф на вершине
- На задворках империи. Детские и юные годы Давида Ламма
- История о страшном злодеянии евреев в земле Бранденбург: Немецкие антисемитские сказки и легенды
- Время и вечность. Мысли вслух и вполголоса
- Если буду жив, или Лев Толстой в пространстве медицины
- Рассказы из Парижа
- Кочевье
- Египетский дом
- Русское письмо
- Английский дневник
- Вечные предметы
- Вечные ценности. Статьи о русской литературе
- Нечаянные откровения
- Черные стяги эпохи
- Писатель на дорогах Исхода. Откуда и куда? Беседы в пути
- Искусство читать книги. Записки путешественника
- Прямая речь. Избранные стихи
- Ода горящей свече. Антология
- Перечитывая молчание. Из дневников этих лет
- Шорохи и громы
- Когда боги удалились на покой. Избранная проза
- Логово смысла и вымысла. Переписка через океан
- Дорогая буква Ю
- Шарманщик с улицы Архимеда
- Прерывистые линии
- Отражения
- Дуновение из-за кулис. Записки драматурга
- Мимолетные встречи
- Другие времена. Антология
- Необыкновенный консилиум
- Звуки далекой флейты
- «Голос жизни моей…» Памяти Евгения Дубнова. Статьи о творчестве Е. Дубнова. Воспоминания друзей. Проза и поэзия
- Прощание с Литинститутом
- Поиски стиля
- Мифы о русской эмиграции. Литература русского зарубежья
- Повелитель четверга. Записки эмигранта
- Зимние сны
- Два Парижа
- Горькая истина
- Дым отечества. В поисках привычного времени
- Птица Феникс
- Слушая ветер. Стихи последних лет
- Миф Россия. Очерки романтической политологии
- Подвиг Искариота
- Несколько минут после. Книга встреч
- Сад наслаждений
- Кент Бабилон
- Закон бабочки
- Судьбы моей калейдоскоп
- Неизбежность нашего мира
- Сады земные и небесные
- Русская жена английского джентльмена
- Дом, пропахший валерьянкой
- Аэротаник
- Летающий верблюд
- Утраченный воздух
- Женский портрет
- С ба-а-льшим приветом!
- Городошники
- В трубу трубили слоники…
- Жизнь в музыке от Москвы до Канады. Воспоминания солиста ансамбля «Мадригал»
- Талисман. Книга посвящений
- Фантом Я
- Снег для продажи на юге
- Будущее без антисемитизма. Миниатюры на еврейскую (и не только) тему
- Вне времени. Стихи, избранные читателями
- Пансион Беттины
- Наследство опального генерала
- Прикосновения. 34 эссе о внутреннем величии
- Покажи мне дорогу в ад. Рассказы и повести
- Фабрика ужаса. Страшные рассказы
- Цветок эмигранта. Роза ветров. Антология
- Последний успех. Стихи