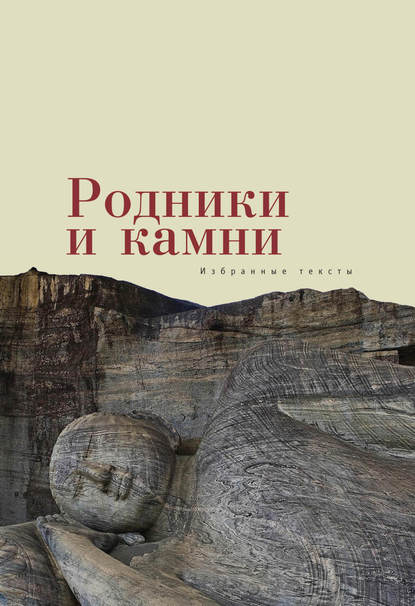© Коллектив авторов, 2017
© Б. Н. Марковский, составление, 2017
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2017
Борис Хазанов (Мюнхен)
Тоска по многословию
Карамзина спрашивали, откуда у него такой дивный слог. Из камина, сказал он. «Напишу, и в огонь, напишу снова – и снова в огонь». С именем автора «Бедной Лизы» школа приучила нас связывать представление о чувствительной, слезливой словесности. Но если вы раскроете сейчас эту повесть, вам бросится в глаза её лаконизм.
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина», собственно, не повести, а новеллы. Двухтомный роман «Дубровский» занимает, странно сказать, от 60 до 70 страниц отнюдь не убористой печати. И даже «Мёртвые Души», с которыми в русскую литературу пришёл совершенно другой темп повествования, книга, производящая впечатление огромного, просторного сочинения, – на самом деле совсем невелика.
Можно вычертить кривую среднего объёма русского классического романа, и окажется, что на протяжении всего XIX века график многоглаголания ползёт вверх.
Существуют три типа прозы, назовём их условно французским, немецким и русским. Французская проза словно вышла из-под пресса: вся жидкость отжата; сухой, выветренный веками, прозрачный и лаконичный язык; ориентация на латинских классиков. По возможности простой синтаксис (если при чтении фразы вслух у вас перехватывает дыхание, значит, фраза плохая, учил Флобер), короткие абзацы, энергичная дикция. Так достигается прославленная clarte, французская ясность, о которой говорил Золя над гробом Мопассана. Немецкий слог, напротив, тяготеет к длинным ветвистым периодам, это проза глубокого дыхания, замедленного ритма, задумчивая, обстоятельная и тяжеловесная, как шаг першерона. Наконец, проза русского типа как бы вовсе не помышляет о литературных правилах, это живая стихия: раскованная, прихотливая, нарочито неряшливая и неэкономная. Само собой, речь идёт не о национальных литературах; в каждой литературе представлены, хотя и в разных пропорциях, все три типа. «Французы» – это не только Стендаль или Камю, но и Пушкин, и, конечно, Тургенев. Пруста придётся отнести к немцам, а писателями русского склада оказываются, вместе с Достоевским, американцы Томас Вулф и Фолкнер или недавно умерший австриец Томас Бернхард. В конце концов то, о чём я говорю, можно обозначить одним словом: дисциплина. Есть писатели дисциплинированные и есть недисциплинированные. Есть авторы, которые ценят время читателя. И есть писатели, которым на него наплевать. Они пишут так, словно у публики столько же свободного времени, сколько у них самих, и читателю нечего делать, кроме как завалиться на диван и уйти с головой в многочасовое, многомесячное чтение.
Может быть, лет сто тому назад это было возможно. Но когда спрашиваешь себя, что больше всего повредило престижу современной советской и русской литературы, отчего её мало читают, то одним из возможных ответов будет утомительная многоречивость этой литературы.
Сказывается давняя и почтенная традиция. Существует бремя славного прошлого. И я подозреваю, что не кто иной, как Толстой, создатель самой длинной книги в русской литературе, породил и вечный, неумирающий соблазн многописания. Творить, как Толстой, – какой отечественный беллетрист устоял перед этим соблазном? Советская литература – это литература так называемых широких полотен и тысячестраничных народных эпопей.
В детстве я прочитал во время болезни гигантский роман Сергеева-Ценского «Севастопольская страда»; думаю, что немногие способны на такой подвиг. Читателям, у которых хватило сил перемолоть такие сочинения, как «Россия, кровью умытая» Артёма Весёлого, или кошмарную четырёхтомную эпопею Фёдора Панфёрова «Бруски», следовало бы выдавать особую награду. Стать новым Толстым всю жизнь мечтал Александр Фадеев; первые главы эпоса «Чёрная металлургия» показывают, что из этого могло бы получиться. Какой-нибудь Анатолий Иванов с его сагой «Вечный зов», Сергей Сартаков с трехтомными «Хребтами Саянскими», одолеть которые так же трудно, как взобраться на Эверест, Георгий Марков со стопудовой «Сибирью», Иван Стаднюк с многоэтажной «Войной», маститые авторы увесистых, как кули с мукой, исторических, революционных, военных, колхозных и индустриальных повествований – всё это не было случайной модой, но тянулось десятилетиями, а многоосная колесница Александра Солженицына служит доказательством, что традиция многоглаголания не умерла и днесь.
Быть может, некоторые новые стимулы для неё представляет современный русский язык. Этот язык, сохранивший эллинские черты, утратил лаконизм языков древности. Он потерял и вкус к той экономии, которая определяла стилистику русской прозы во времена, когда она ещё находилась под обаянием французской литературы XVIII века. Взамен он приобрёл скверную привычку махать руками там, где можно ограничиться движением бровей.
Писание – это война с хаосом. Нет ничего притягательнее, чем зов хаоса, будь то стихия жизни или хаос собственной души; броситься ему навстречу, погрузиться в него – нет большего соблазна. Тут мы выходим за пределы искусства, потому что тяга к безмерности, тайная любовь к хаосу и наркотическая завороженность стихией – быть может, самая сильная страсть русской души. И можно сказать, что русская литература укротила эстетически русскую душу, подобно тому как авторитарная государственность укрощала её другими средствами. Литература – терапия души. Для мастера, имеющего дело со словом, это означает укрощение стихии языка.
Наш язык хаотически-многоречив, избыточен и неопрятен, в нём есть какая-то непреодолимая тяга к информационным шумам. Пыльные хвосты прилагательных, мусор плеоназмов одинаково свойственны языку деловых бумаг, журнальных статей, языку народа и языку посредственной литературы. Высокая энтропийность языка – первый признак плохого писателя. Мы говорили о предках. Подумаем, сколько вреда принёс примитивно понятый совет Пушкина учиться языку у московских просвирен. Поколения писателей оказались в плену у этого языка, сложилась целая традиция лубочной словесности, – что с ней делать, куда деваться от этих сказителей, уверенных, что они возвращают народу его природную речь, между тем как народ давно уже изъясняется на языке газеты. Нет, литература – это война с языком, с расхристанностью русского языка; писатель управляет языком, как генерал-губернатор – покорённой провинцией. И нет ничего более очищающего душу, чем чтение хороших стилистов.
Некогда Гейне предлагал ввести налог на романтические баллады. Что если обложить многословных, водянистых, слизистых, анархически-недисциплинированных и не знающих никакого удержу отечественных прозаиков хорошим налогом? По крайней мере, государство смогло бы залатать свои прохудившиеся штаны.
К северу от будущего: Хайдеггер и Целан
«Хайдеггер – это долгая история. Муки и катастрофы целого столетия породили эту философию… Из философских соображений он сделался на какое-то время революционером-национал-социалистом, но философия помогла ему и отряхнуться. С тех пор его мысль кружила вокруг проблемы соблазна, совращения духа волей к власти. Хайдеггер, мастер из Германии… Он и в самом деле был очень "немецким", не меньше, чем герой Манна композитор Адриан Леверкюн. История жизни и мысли Хайдеггера – это ещё один вариант легенды о докторе Фаусте. В ней, в этой истории, проступает гипнотическое очарование и головокружительная бездонность немецкого пути в философии… Политическое головокружение превратило Хайдеггера отчасти и в того "учителя из Германии", голубоглазого арийца, о котором говорит Целан».
Это – цитата из книги «Мастер из Германии» (1994) Рюдигера Зафранского, писателя, историка и биографа, чьи книги о Шопенгауэре, Гофмане, Шиллере, Ницше, Хайдеггере, о раннем и позднем немецком романтизме сделали автора известным во многих странах.
Слово Meister означает учитель; другие значения – мастеровой-умелец, выдержавший специальный экзамен; учёный магистр; художник или музыкант-маэстро; глава рыцарского ордена или масонской ложи; руководитель и образец для подражания. Hexenmeister в «Вальпургиевой ночи» (Фауст I) – что-то вроде бригадира над ведьмами. Но прежде всего заголовок книги Зафранского намекает на знаменитую «Фугу смерти» Пауля Целана.
Opus magnum Мартина Хайдеггера, 400-страничный главный труд «Бытиё и время», создан в молодости. Книга (оставшаяся незаконченной) была написана в 20-х годах, в пору тайной близости Хайдеггера с его ученицей, тогдашней студенткой Фрейбургского университета и будущим философом и социологом, автором «Истоков тоталитаризма» Ханной Арендт.
То, что называется последними вопросами философии, напоминает вопросы ребёнка. Почему то́, что есть, есть? Почему существует что-то, а не ничто? Что значит – быть? Последний вопрос распадается на два. Первый: что мы имеем в виду, говоря – я есмь, я существую; и второй: в чём смысл моего существования? Естественные науки рассматривают человека как часть предметного мира. Между тем наша жизнь, бытиё «вот здесь», не может быть только предметом внешнего рассмотрения, об этом знают поэты, это понял Шопенгауэр. Бытиё – это мы сами, и, в отличие от «объектов», мы никогда не бываем кем-то или чем-то готовым и окончательным. Бытиё человека заключает бесчисленные возможности самоосуществления. Но я своё бытиё не выбрал; меня не спрашивали, хочу ли я быть. Мы заброшены в мир. И мы не можем уйти от себя. Мы – это то, чем мы становимся.
Тут появляется второй персонаж философской пьесы: Время. Всматриваясь во время, мы замечаем надвигающееся облако на горизонте – смерть. Время постоянно что-то уносит. Когда-нибудь оно унесёт и нас.
Во временности, в том, что бытиё «временится», заключён двойной вызов: время открывает перед бытиём всё новые возможности, и время превращает его в бытиё-к-смерти. Время – это и есть смысл бытия. Вопрошание смысла есть «ситуация страха». Анализу страха – экзистенциальной тревоги – посвящён 40-й параграф «Бытия и времени», чуть ли не самый известный текст Хайдеггера.
Страх (die Angst, в переводе В. Бибихина – «ужас») нужно отличать от боязни, испуга (die Furcht). Если боязнь – это страх перед конкретной опасностью, то страх в собственном смысле, в том, что подразумевает под этим словом философ, есть нечто безграничное, безотчётный страх перед миром как таковым. Мир зияет чёрной бездной. «Страх – это откровение перед лицом Ничто». Это также опыт погружения в трансцендентное, похожий на религиозный опыт общения с Богом. Но общаться не с кем – Бога нет. Поставим на этом точку.
Мы живём в мире рядом с другими и вместе с другими. Эта необходимая форма бытия заключает в себе известный риск: приноравливаясь к другим, я теряю себя. Я становлюсь «как все», я уже больше не я сам, я – это «люди». («Не видите, что ли, – говорили в России пытающемуся протолкнуться в очереди, – здесь люди стоят!»). Теперь я уже «кто-то», man Хайдеггера. Фразы «man sagt», «man schreibt» передаются по-русски безличной формой глагола: говорят, пишут… Но и man состоит из таких же поддельных людей, у которых вместо лиц вывески: толпа, безличный и безответственный коллектив. Взгляд философа устремлён на близкое будущее. Тоталитарное общество уже на пороге.
Вот краткая хроника: дело происходит во Оренбурге, в старинном, славном университете XV столетия, где с 1928 года Хайдеггер занимает кафедру своего бывшего учителя Гуссерля. Весной 1933-го Хайдеггер избран ректором, первого мая вступает в национал-социалистическую партию, 20 мая подписывает приветственную телеграмму вождю, 27 мая, в присутствии партийных бонз, министра, ректоров других университетов произносит речь, в которой призывает студентов и учёных коллег служить делу национальной революции. Всё это сопровождается фантастическим философствованием о прорыве к подлинному бытию. Хайдеггеру кажется, что нацистский переворот возвращает человеческому существованию утраченную подлинность. Хайдеггер словно под властью какого-то наваждения. Он даже назвал его, в стиле пронацистской риторики, опьянением судьбой. Он разъезжает по городам, ораторствует, летом организует студенческий «научный лагерь», странную смесь платоновской Академии и военно-спортивного стана бойскаутов, – костры, патрули, поверки, вынос знамени под барабанный бой и песню «Сегодня нам внемлет Германия, а завтра – целый мир». С помпой, в коротких штанах и гетрах, ректор Хайдеггер принимает рапорт некоего доцента, который руководит экзерцициями студентов с деревянными ружьями. Готовится реформа университета, где по примеру всей страны должен быть введён принцип «вождизма».
Это продолжалось недолго. Нечего и говорить о том, что новому режиму философия Хайдеггера была ни к чему. Никто из этих троглодитов никогда не читал и не мог бы прочесть его сочинения. Сам мыслитель-фантаст мало помалу не то чтобы образумился, но как-то остыл. Политика приелась, административные обязанности обрыдли. Начались трения с партийными инстанциями, интриги коллег. Через год после назначения ректором Хайдеггер подал в отставку.
После войны у него начались неприятности. Философ, внутренне давно порвавший с нацизмом, оправдывался, подчас кривил душой; тягостная история опьянения и похмелья известна сейчас во всех подробностях. Увы, Хайдеггер не был исключением. Он просто был самым знаменитым из писателей, мыслителей, интеллигентов, поддавшихся теперь уже почти непонятному для нас обаянию фашизма. От Хайдеггера ожидали публичного признания своих заблуждений. Он этого не сделал. Почему? Из гордости? Или оттого, что считал своё грехопадение невольным, искренним, в каком-то смысле даже логичным?
Арендт эмигрировала в 1933 г. во Францию. Останься она на родине, её сожгли бы в печах. Через много лет она посетила философа и его жену в Шварцвальде. После этого она приезжала к ним каждый год. Ханне Аренд принадлежит следующее высказывание об учителе из Германии:
«Буря, пронизывающая мысль Хайдеггера подобно тому ветру, который тысячелетия спустя всё ещё веет на нас со страниц Платона, родилась не в нынешнем веке. Она пришла из незапамятного прошлого, и то, что она оставила, есть нечто свершившееся и совершенное – то, что возвращается, как всё совершенное, к глубинам прошлого».
В июле 1967 года Пауль Целан, приехав во Фрейбург, с некоторым удивлением увидел свои книги в витринах книжных лавок. На его выступление в Большой аудитории университета собралось больше тысячи человек, никогда ещё он не видел перед собой такую массу слушателей. В зале сидел Мартин Хайдеггер. Целан основательно знал философию Хайдегтера, ощущал магнетизм его мысли. Принадлежавший ему экземпляр «Бытия и времени» испещрён пометками. Помнил он и то, что произошло с Хайдеггером в 1933 году. Чего он не знал, так это то, что 78-летний философ обошёл заблаговременно книжные магазины города и попросил владельцев заказать и выставить сборники стихов Целана.
Их познакомили, кто-то предложил им сфотографироваться вдвоём. Целан отказался. Но Хайдеггер не обиделся. На другой день Целан отправился в гости к Хайдеггеру в Тодтнауберг, в уединённый домик в горном Шварцвальде, с видом на дальние развалины замка Церингов, владетельного рода, вымершего в XIII веке. О чём они там беседовали, неизвестно. Памятником этой встречи остались одно стихотворение и запись в книге для посетителей: «В надежде на встречное слово…». Надеялся ли гость услышать сочувственный отклик? Или ждал, когда же, наконец, знаменитый философ произнесёт своё слово в осуждение Голокауста? Хайдеггер промолчал – и распрощался с Целаном.
Последние 15 лет своей жизни Целан не читал на своих выступлениях «Фугу смерти» (Todesfuge, 1946). То ли она казалась ему «зачитанной», слишком известной и зацитированной, то ли он не хотел поддерживать ставшее понемногу общим местом представление о нём как о поэте каббалистической темноты и неотвязных воспоминаний о лагерях смерти.
Чёрное молоко рассвета мы пьём его на ночь
пьём его в полдень и утром мы пьём его ночью
пьём и пьём
и роем могилу в воздушных пространствах где лежать не так тесно
некто живёт в своём доме играет со змеями пишет
пишет когда стемнеет в Германию твои золотые волосы Маргарита
пишет он и выходит из дому и звёзды сверкают свистит своим псам
евреям своим свистит пусть вылезают и роют могилу в земле
он отдаёт нам приказ и играет и приглашает сплясать
Чёрное млеко рассвета мы пьём тебя ночью
пьём тебя утром и в полдень пьём тебя на ночь
пьём и пьём
некто живёт в своём доме тот кто играет со змеями тот кто пишет
пишет когда стемнеет в Германию твои золотые волосы Маргарита
твои пепельные волосы Суламифь
мы роем могилу в воздушных пространствах там лежать не так тесно
он кричит эй вы там глубже втыкайте лопату
а вы запевайте кричит и играет
выхватит нож из-за пояса машет ножом глаза у него голубые
глубже втыкайте лопату вы там и вы и снова играет чтоб дальше плясали
Чёрное млеко рассвета мы пьём тебя ночью
пьём тебя в полдень и утром пьём тебя на ночь
пьём и пьём
некто в доме живёт твои золотые волосы Маргарита
твои волосы ставшие пеплом Суламифь он играет со змеями
Он зовёт играет всё слаще смерть
смерть наставница из Германии
он зовёт
и водит по струнам смычком темнеет и дымом плывёте вы к небу
в могилу над облаками где лежать не так тесно
Чёрное молоко рассвета мы пьём тебя ночью
пьём тебя в полдень смерть педагог из Германии
пьём тебя ночью и утром и пьём и пьём
смерть педагог из Германии мастер глаза у него голубые
выстрелит пулей свинцовой в тебя наповал
некто в доме живёт твои золотые волосы Маргарита
псов натравил на нас подарил нам
в воздушных пространствах могилу
некто играет со змеями и грезит смерть педагог из Германии
твои золотые волосы Маргарита
твои пеплом одетые волосы Суламифь
Перевод, который я решаюсь здесь поместить, далеко не передаёт пронзительной силы, невыразимой тоски и музыкальной прелести этого стихотворения; всё же попробуем просто понять, о чём оно.
Как и у Мандельштама (чья слава в Германии основана в огромной степени на конгениальных переложениях Целана; он замечательно переводил и других русских поэтов: Лермонтова, Цветаеву, Есенина), мы встречаем здесь то, что принято называть смысловыми пучками. Активизировано множество смыслов, содержащихся в слове; каждая метафора многослойна и не просматривается до конца. Стихотворение – сложная система ассоциаций, допускающих всё новые и неожиданные толкования. Секрет в том, что в пространстве стиха имплицитно присутствуют все толкования; исчерпать их, однако, невозможно.
«Фуга смерти», с её расшатанным синтаксисом (не зря она печатается без знаков препинания), бормочущей монотонной дикцией, с почти маниакальным повторением одних и тех же формул, в самом деле построена как фуга: голоса подхватывают одну и ту же музыкальную фразу.
Первый слой очевиден: речь идёт о лагере уничтожения, о заключённых, которых заставили рыть яму, куда на рассвете будут сброшены их трупы. Но, кажется, их ждёт другое: сожженные в печах, невесомым дымом поднимутся они в облачное небо. За этим кругом образов просматривается другой – воспоминания детства. Ребёнок пьёт на ночь молоко. Утром он сидит в классе на уроке музыки. Лагерь – это немецкая школа, обречённые на смерть евреи – ученики. (Воспитание – постоянная тема классической немецкой литературы). Надзиратель-эсэсовец с кинжалом у пояса, пишущий по вечерам нежные письма невесте и играющий на скрипке, – это педагог, лагерь вдалбливает то, чему нигде нельзя научиться, смерть – учитель из Германии. Сквозь всю ткань стихотворения просвечивают два женских образа: золотоволосая Гретхен, согрешившая героиня Гёте и традиционный образ Германии, – и Суламифь, возлюбленная царя Соломона, девушка с пепельными волосами. Теперь она сама станет пеплом.
Настоящее имя Целана было Пауль Анчель-Тейтлер; он родился 23 ноября 1920 года в Черновцах, главном городе Буковины, которая до конца первой Мировой войны была коронной землёй Австро-венгерской империи, затем отошла к Румынии, ныне входит в состав Украины. Как во всех еврейских семействах круга, к которому принадлежали родители Целана, его родным языком был немецкий. Вторым родным языком был румынский (Целан окончил в своём городе лицей имени великого князя Михая), кроме того, как всё образованное румынское общество, он говорил по-французски. Хорошо владел русским, знал английский, древнееврейский, позднее учился итальянскому и португальскому.
Целан решил стать врачом и отправился учиться во Францию. Летом 1939 г. он приехал на каникулы к родителям. В сентябре началась война, пришлось остаться в Черновцах. Он поступил в университет. Его интересы изменились: теперь он увлечён романской филологией. В июне следующего года в Буковину вступает Красная Армия, и на один год подданные румынского короля становятся советскими гражданами. Затем город оккупируют части вермахта и румынские войска. Седьмого июля 1941 года в город прибывает эсэсовское оперативное формирование – Einsatzgruppe D. Девушка по имени Рут Лакнер, подруга Целана, находит убежище для семьи – маленькую румынскую фабрику; хозяин готов помочь евреям, но родители Целана считают, что опасность преувеличена. Целан прибегает домой – матери и отца уже нет, они были отправлены в лагерь. Там они и погибли.
Самому Целану удалось бежать, правда, он угодил в румынский трудовой лагерь и находился там до февраля 1944 года. Осенью советские войска освобождают Буковину. 24-летний Целан снова записывается в университет, но в конце войны перебирается в Бухарест, затем уезжает в Вену и в конце концов, в сорок девятом году, поселяется в Париже. Здесь он женился на художнице Жизель Лестранж.
Целан писал стихи ещё в лицее. После войны его стихотворения, написанные по-немецки, стали появляться в печати; румынский поэт и критик Ион Карайон включил их в антологию современной лирики, вышедшую в Бухаресте после войны. Тогда и возник псевдоним «Целан» – анаграмма фамилии Анчель. Первый поэтический сборник вышел в свет в Вене в 1948 году. Книжка была издана плохо, впоследствии автор включил большую часть стихотворений цикла (в том числе «Фугу смерти») в сборник «Мак и память». Мак, из которого добывается опиум, – это символ забытья; память борется с жаждой забвения. Вот отрывок из стихотворения «Марианна» (перевод Вл. Топорова):
Вдруг молния губы сведёт – приоткроется пропасть,
где сломанной скрипки звучанье,
и зубы, как пальцы к смычку, прикоснутся:
прекрасный тростник, запой!
Любимая, ты ведь тростник,
мы шумим над тобою, как ливни,
вино бесподобное ты – и глубокими чашами пьём,
челнок на полях твоё сердце, но выплывет в ночи
кувшин синевы,
ты склоняешься к нам: засыпаем…
В 50-е и 60-е годы Целан опубликовал ещё несколько сборников, среди них «От порога к порогу», «Решётка языка», «Роза ничья, никому», «Поворот дыхания», «Нити солнца», «Насильственный свет». Нелегко перевести самые заголовки этих тонких книжечек. Подстрочники трёх коротеньких стихотворений могут дать представление о сложности адекватного переложения:
На реках к северу от будущего
я забрасываю сеть, которую ты,
медля, отягощаешь
тенями, что написали камни.
Не у моих губ ищи свои уста,
не за воротами – чужестранца,
не в глазах – слёзы.
Семью ночами выше странствует красное к красному,
семью сердцами глубже рука стучится в ворота,
семью розами позже журчит фонтан.
Солнца из нитей
над серо-чёрной пустыней.
Мысль высотою
с дерево
перебирает звуки света: есть ещё
песни, чтоб петь
по ту сторону людей.
Целан дожил до признания, хотя по-настоящему его значение осознано после его смерти. Он в том ряду, где Рильке, Блок, Мандельштам, Аполлинер, Т. С. Элиот. В 1960 году ему вручили бюхнеровскую премию, самую престижную литературную награду в Германии, он произнёс по этому поводу речь, ставшую знаменитой, – благодарный материал для академических словопрений. С годами язык Целана становился всё концентрированней, стихи всё лаконичней, их многосмысленная загадочность часто ставила читателей в тупик, музыка становилась семантикой, и можно сказать, что его поздняя поэзия уже почти недоступна для перевода на другой язык. В одном стихотворении из сборника «Sprachgitter» (возможный перевод: ограда языка, решётка языка) употреблено выражение zwei Mundvoll Schweigen. По аналогии со словом Handvoll (горсть) образовано Mundvoll, «пригоршня рта». Две пригоршни молчания, два рта, полных молчания. Невозможность выразить полноту чувства заставляет влюблённых умолкнуть. Едва ли не центральная тема поэзии Пауля Делана – проблематичность поэтического высказывания. Так ставится под сомнение коронный тезис Хайдеггера: Язык – дом бытия. Может быть, язык – это крематорий бытия?
Целан принадлежал к поколению самоубийц, тех, кто случайно не попал в лагерь или уцелел в лагере чудом, но так и не сумел уйти от смерти: как Примо Леви, как Тадеуш Боровский, как Жан Амери. Весной 1970 года автор «Фуги смерти» бросился с парижского моста в Сену.
- Мой дом на Урале
- Немка. Повесть о незабытой юности
- Еврейское счастье Арона-сапожника. Сапоги для Парада Победы
- Жизнь спустя
- Люди земли Русской. Статьи о русской истории
- Будь здоров, жмурик
- Ноша
- И каплет время…
- Дежавю
- Родники и камни (сборник)
- Цветы мертвых. Степные легенды (сборник)
- Просветленный хаос (тетраптих)
- Цена тишины
- Чемодан из музея партизанской славы
- Сизиф на вершине
- На задворках империи. Детские и юные годы Давида Ламма
- История о страшном злодеянии евреев в земле Бранденбург: Немецкие антисемитские сказки и легенды
- Время и вечность. Мысли вслух и вполголоса
- Если буду жив, или Лев Толстой в пространстве медицины
- Рассказы из Парижа
- Кочевье
- Египетский дом
- Русское письмо
- Английский дневник
- Вечные предметы
- Вечные ценности. Статьи о русской литературе
- Нечаянные откровения
- Черные стяги эпохи
- Писатель на дорогах Исхода. Откуда и куда? Беседы в пути
- Искусство читать книги. Записки путешественника
- Прямая речь. Избранные стихи
- Ода горящей свече. Антология
- Перечитывая молчание. Из дневников этих лет
- Шорохи и громы
- Когда боги удалились на покой. Избранная проза
- Логово смысла и вымысла. Переписка через океан
- Дорогая буква Ю
- Шарманщик с улицы Архимеда
- Прерывистые линии
- Отражения
- Дуновение из-за кулис. Записки драматурга
- Мимолетные встречи
- Другие времена. Антология
- Необыкновенный консилиум
- Звуки далекой флейты
- «Голос жизни моей…» Памяти Евгения Дубнова. Статьи о творчестве Е. Дубнова. Воспоминания друзей. Проза и поэзия
- Прощание с Литинститутом
- Поиски стиля
- Мифы о русской эмиграции. Литература русского зарубежья
- Повелитель четверга. Записки эмигранта
- Зимние сны
- Два Парижа
- Горькая истина
- Дым отечества. В поисках привычного времени
- Птица Феникс
- Миф Россия. Очерки романтической политологии
- Подвиг Искариота
- Несколько минут после. Книга встреч
- Сад наслаждений
- Кент Бабилон
- Закон бабочки
- Судьбы моей калейдоскоп
- Сады земные и небесные
- Русская жена английского джентльмена
- Утраченный воздух
- Женский портрет
- Наследство опального генерала
- Прикосновения. 34 эссе о внутреннем величии
- Покажи мне дорогу в ад. Рассказы и повести
- Фабрика ужаса. Страшные рассказы
- Цветок эмигранта. Роза ветров. Антология