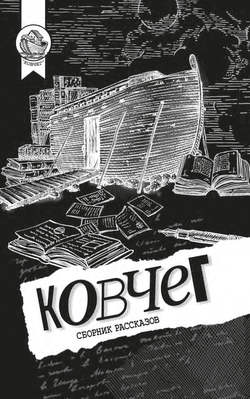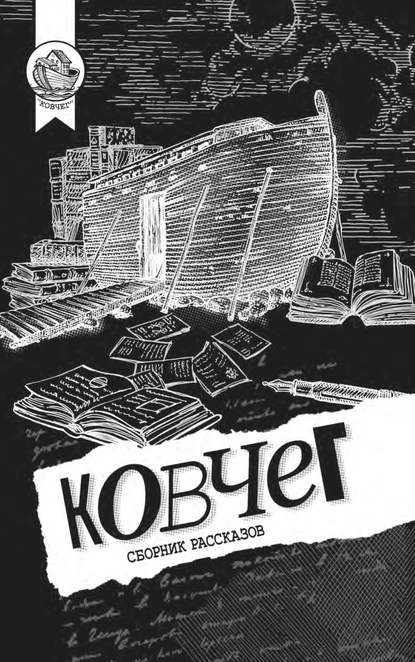© Ю. Алехина, А. Гумерова,
© ИД «Городец», 2019
* * *
Елена Пучкова
Кукла
Нас не было тогда на свете,
Но в памяти отражена
Та, незабвенная весна,
Мы тоже за нее в ответе.
Этот город был далеко от войны. Он не знал маскировки, перечеркнутых бумажными полосками окон, развалин. Но война пришла и сюда. Сначала ее узнавали, толпясь у хрипящих репродукторов, провожая на фронт близких и незнакомых, работая по-новому, для войны. Потом город узнал, что такое смерть. Только сюда смерть приходила как-то спокойно, по-канцелярски, а потому особенно страшно: просто узенькая бумажка, у которой уже появилось имя – похоронка.
Война приезжала в прокопченных теплушках, битком набитых эвакуированными, в строгих и тревожных санитарных поездах. И постепенно вошла в быт, обернулась мелкими житейскими неурядицами, да и прижилась…
Из квартиры стали уходить вещи. О первых еще тосковали, как о чем-то дорогом, потерянном невозвратно. Потом привыкли. На всю зиму застыли батареи парового отопления, в форточки потянулись кривые шеи «буржуек». Электричества не хватало, и тоненькие, слабые язычки коптилок усердно, но тщетно стали слизывать темноту.
Люди привыкают ко всему. Привыкли и к этому. Постаревшая, изуродованная и даже уже приспособившаяся к своему уродству жизнь продолжалась.
А Ефросинья Петровна не могла никак успокоиться. Она подолгу пропадала на заводе, хотя у нее, рядового заводского бухгалтера, не очень-то прибавилось работы. Приходя домой, слушала радио и плакала потихоньку, будто оставленный нашими войсками город – ее родной город, и даже представляла себе какой-то уютный домик на окраине, обязательно с березкой и старенькими ходиками. Представляла, как этот домик горит, а ходики стали, потому что хозяева погибли и некому их завести. И потом целый день ходила с красными глазами и сморкалась в продранный кружевной платок.
– Что с вами? – спрашивали ее сослуживцы. Но она только сморкалась, отводила глаза и вздыхала.
Однажды в комнату Ефросиньи Петровны протянулись через чисто вымытую кухню две дорожки мокрых, холодных следов. Одни следы были большие, сбивчивые, другие – маленькие, торопливые. Две фигурки в зябких пальто несмело остановились на пороге. Осунувшаяся женщина, будто извиняясь, суетливо рылась в сумочке, когда-то лакированной, а теперь покрытой тонкой сетью морщин, но не старческих, а каких-то болезненных, преждевременных. Рядом переминалась маленькая серьезная девочка, все время поправлявшая старое одеяльце, в которое была завернута кукла. Руки у девочки были красные и неповоротливые от мороза, но она все поправляла одеяльце и пришептывала:
– Видишь, здесь тепло, Светка. Ты теперь согреешься, ты спи, ты не плачь.
А у женщины из сумки посыпались разные бумажки: узкая похоронка, истрепанное свидетельство о рождении, какие-то телеграфные квитанции, хлебные карточки. Она все извинялась, спешила и наконец протянула Ефросинье Петровне бумажку, где было написано, что эвакуированная из Воронежа учительница Л.М. Сорокина с дочкой будут жить у Е.П. Нестеровой.
Ефросинья Петровна забегала по комнате, стала усаживать гостей и вдруг вспомнила, что они не разделись, кинулась раздевать девочку, волнуясь и все путая. Девочка сказала: «Я сама».
Она разделась, неторопливо, чинно и аккуратно складывая на сундук свою незамысловатую одежду. Раздевшись, подошла к матери и, не говоря ни слова, стала снимать с ее ног ботинки, опустившись на колени.
Ефросинья Петровна бросилась помогать, и тогда девочка вместо благодарности подняла большие, по-взрослому усталые глаза и проговорила коротко:
– Она больная. И устала. Мы замерзли. Мне ничего, а она – больная.
Наконец женщину раздели и уложили. Ефросинья Петровна сняла довоенный пуховый платок, подаренный еще покойным мужем, и укутала ноги гостьи. Женщина все время молчала, только часто-часто моргала, а когда ее уложили, заплакала, тихо, будто боялась помешать окружающим. Девочка погладила ее руку и прошептала:
– Ну не надо, мы же договорились. Не надо. Теперь все будет хорошо.
– Да, да, все будет хорошо, – машинально повторила Ефросинья Петровна и побежала на кухню за чаем и хлебом.
Выглянула соседка:
– Кто это у вас? Ох, наследили-то как! Вы бы хоть вытерли.
– Да, да, я сейчас, – заторопилась Ефросинья Петровна. – Эвакуированные это, из Воронежа. Женщина совсем плоха, а девчушка, будто взрослая, серьезничает все, но, видно, здорово есть хочет. Я уж соберу поскорее, что найдется.
Соседка сглотнула слюну, моргнула, постояла, борясь с собой. И вдруг, решившись, буркнула:
– Погодите немного.
Она исчезла у себя в комнате, загремела посудой, что-то уронила, чертыхнулась и наконец вынесла блюдце с лохматыми кусками застывшего джема.
– Вот. Дайте девчонке. Сегодня случайно в шахтерской столовой достала.
Ефросинья Петровна, постелив на стол старую, стертую на сгибах клеенку, несколько раз переставила стаканы с места на место, передвинула блюдце и воткнула в джем витую серебряную ложечку, которая почему-то оказалась непроданной, начала резать хлеб тонкими красивыми кусочками, но, посмотрев на женщину, раскроила на большие аппетитные ломти. Потом глянула на стол с сожалением: не получилось сервировки, – и вздохнула.
Женщина задремала. Лицо ее, воспаленное, с красными пятнами на лбу, щеках, подбородке, все время менялось, скомканное болью. Девочка, по-хозяйски расположившись на сундуке, перепеленывала куклу. Маленькие пальцы с обгрызенными ногтями, под которыми виднелись полоски грязи, нежно и ловко завертывали в одеяльце довольно крупный шероховатый, с неровными краями осколок снаряда.
Ефросинье Петровне вдруг захотелось закричать, вырвать у девочки осколок, но она сдержалась, закрыла глаза и осторожно, пошарив, оперлась рукой о стол.
«Вымыть девчушку надо. Заусенцев-то сколько. А она, наверное, тяжелая… кукла эта».
Нужно было что-то сказать, и Ефросинья Петровна сказала самое простое и неважное:
– Тебя как зовут?
– Меня Ира. А ее Светка. А вас как зовут?
Ефросинье Петровне захотелось погладить Иру по голове, но было почему-то неловко. Может быть, потому, что рядом с детской наивностью в девочке уживалась такая зрелость, что она казалась старше и мудрее Ефросиньи Петровны. И невольно подумалось: «А вдруг она возьмет – и меня погладит».
– Тетей Фросей зовут. Ну, чай будем пить. Иди, буди маму.
– Не надо ее будить, лучше она потом, а то ей опять больно будет.
Женщину не разбудили. Но все-таки ей стало больно. Руки дрогнули, заметались, взлетели и тяжело упали на одеяло. Потом выбился сквозь сведенные губы стон, долгий и робкий, как будто стыдливый. Этот стон приподнял с кровати тело. Оно напряглось, борясь с бессилием, но сразу же обмякло, упало в подушки и забилось в беззвучном плаче. Плакали плечи, руки, грудь. Только глаза, неожиданно разжавшиеся и испуганные, – не плакали.
Накинув платок, Ефросинья Петровна побежала звонить в «Скорую помощь», а Ира гладила тонкую, исчерканную синими жилками руку матери и пришептывала:
– Не надо. Ну не надо, ты спи. Здесь тепло. Теперь все будет хорошо. Не надо…
Вернулась Ефросинья Петровна. Приехали врачи. Женщину долго одевали и укладывали на носилки, а потом унесли. Ефросинья Петровна пошла проводить врача, ничего не понимая и не пытаясь понять, но согласно кивая головой, когда врач говорила, что это истощение, что теперь уже поздно, что утром нужно позвонить в больницу. А потом Ефросинья Петровна долго записывала на обрывке газеты адрес детдома и фамилию заведующего, а сама думала: «Откуда взялся карандаш? Может, соседка дала? Так где же тогда соседка? Нет… Откуда взялся карандаш?»
Давно уже уехали врачи, уснула Ира, всхлипывая, уткнувшись в подушку. Давно уже соседи обсудили на кухне все необычайные события вечера, решили, в какой детский дом нужно отдать девочку, и, зевая, разошлись по своим комнатам. А Ефросинья Петровна все еще не гасила коптилку, все еще сидела перед стаканом с недопитым чаем и думала, думала…
Она уже знала, что Ира останется у нее, что нельзя эту девчушку никуда отдать. Как они будут жить – об этом она не думала. Как-нибудь проживут. Ей только очень хотелось, чтобы у Ирочки была кукла, настоящая, большая, красивая, в накрахмаленном ситцевом платье. Почему-то, наверное, от усталости, это казалось сейчас самым главным и важным.
На другой день, когда Ефросинья Петровна вернулась с работы, Иры дома не было. В комнате все прибрано, аккуратно застелено, хотя впервые сегодня Ефросинья Петровна ушла, не притронувшись ни к чему. На столе притулилась к коптилке бумажка, написанная крупными печатными буквами:
«Тетя Фрося! Мне тетя Поля достала случайно в шахтерской столовой немного молока. Я понесла маме в больницу».
Ефросинья Петровна забеспокоилась: как же она пошла? Мороз крутой сегодня, а у нее варежек нет. Замерзнет девочка.
– Замерзнет девочка, – говорила она на кухне соседке, засыпая в кипяток остатки пайкового пшена.
Соседка хотела ответить, успокоить: она дала Ире старые дочкины носки, чтобы надеть вместо варежек, – но в это время за дверью поцарапались, толкнулись, и вошла Ира, туго сведенными пальцами стискивая баночку с мерзлым молоком.
Девочка не заметила растерявшихся женщин и прошла прямо в комнату. Ефросинья Петровна бросилась следом.
– Ну что, как она?
– Не взяли. – Ира сидела, не отпуская из рук банку. Усталым равнодушным голосом пояснила: – Молоко не взяли. Сказали, уже не нужно.
Ефросинья Петровна бросилась к девочке, хотела заговорить ее, заласкать, чтобы хоть на минутку забыла, чтобы согрелась хотя бы, – но смолчала. Взяла у девочки молоко, растерла ее скованные морозом руки, раздела. А потом сказала спокойным голосом:
– Ты сиди, грейся. А я тебе это молоко вскипячу. Тебе надо сейчас горячего молока.
Очень трудно заметить движение времени. Только какое-нибудь событие может заставить увидеть, что вот промелькнули часы, прошли месяцы, утекли годы. А у Ефросиньи Петровны и Ирочки никаких особенных событий не было.
Ефросинья Петровна приносила с завода старые конторские книги. Ира делала из них тетради и решала задачи все более сложные, но как-то не замечалось, что более сложные, потому что все происходило постепенно. И писала упражнения по грамматике, а потом изложения и сочинения, но по-прежнему казалось Ефросинье Петровне, что девочка ее еще маленькая. Давно уже была заброшена «Светка», и Ефросинья Петровна спрятала игрушку на дне сундука, там, где хранились документы и фотографии покойного мужа, засушенный букетик ландыша и бумажка, в которой написано, что учительница Л.М. Сорокина, эвакуированная из Воронежа, будет жить у Е.П. Нестеровой…
Уже несколько месяцев, как была не нужна коптилка: еще тускло, но уже светил под потолком маленький пузырек, наполненный засиженным мухами светом. И только сгусток копоти на потолке напоминал о том, что электрическая лампочка не светилась какое-то время – может быть, пять минут, а может, три года…
Но однажды Ефросинья Петровна увидела в магазинной витрине кукольную головку. Головка была важная, с тугими, лоснящимися щеками и круглыми голубыми глазами. И сразу же сердце зашлось, и снова, как в тот далекий, хлопотный вечер, показалось самым главным и важным, чтобы у Ирочки была кукла. Ефросинья Петровна в минуту подсчитала, на чем она сэкономит, из какого чересчур нарядного для ее сгорбившейся фигуры платья можно будет сшить кукле полный гардероб, а шить можно вечерами, в завкоме. Ее накрепко охватила почти детская нерасчетливая радость – у Иришки будет кукла!
В магазин Ефросинья Петровна вошла торжественно, даже ноги вытерла, чтобы не наследить, хотя и видела, что наследить негде: так захламленно и грязно было перед прилавком. Она медленно отсчитывала деньги и все время улыбалась кассирше, а в голове вертелось назойливой мухой, что мяса завтра не придется купить, – это мясная трешка, хлеба придется купить только на ту мелочь, что завалилась за подкладку пальто, – это хлебный рубль… Муха жужжала, жалила, а радость все равно не уходила – это была прочная радость.
Теперь Ефросинья Петровна возвращалась с работы поздно, осунувшаяся, усталая, но очень довольная. Она долго, кряхтя, укладывалась, кутаясь в зябкое одеяло, давно уже отслужившее свое. Ира перебиралась к ней и трогала тонкими пальцами узенькие, теплые морщинки…
– Тетя Фрося, опять ты сегодня допоздна. Смотри, устала как, ты бы береглась лучше. Ты ведь самая, самая нужная.
Но Ефросинья Петровна сердилась, хотя все в ней тянулось к этой ребячьей угловатой ласке.
– А ты учись, как хлеб зарабатывают. Он ведь, хлеб, отдыха не любит, на дороге не валяется. И марш спать. А то завтра будешь на контрольной носом клевать! Ну, чего сидишь? Я ведь дело говорю.
Ира шлепала босиком через всю комнату, а Ефросинья Петровна ворчала:
– Да укройся, смотри, хорошенько!
И вот наконец наступил этот день. Кукла получилась веселая, нарядная, накрахмаленное платье на ней так и топорщилось, так и звенело, даже прохожие на улице, когда важная и торжественная Ефросинья Петровна несла куклу домой, оборачивались на этот звон.
И вдруг вырос на пути солдат, вырос и загородил дорогу. Сапоги у него с блеском, только по самому ранту бугорки засохшей грязи – не уберег. Шинель распахнута. На гимнастерке ордена и медали звенят – награды, а рядом – узенькие желтые нашивки, короткая пометка о долгих страданиях. Стоит, переминается с ноги на ногу, хочет сказать – и трудно, неловко, наверное. Мялся, мялся и выговорил наконец:
– Слушай, тетка! Продай. Душевно тебя прошу, продай свою барышню. Разве такую купишь сейчас? А я, понимаешь, домой еду, дочка… Так никаких денег не пожалею! Продай. А?..
Сколько мыслей может пронестись в голове за какую-то долю секунды, сколько чувств, трудных и неуживчивых, может поместиться в сердце. «Отдать, просто так отдать! Ведь живой вернулся, к дочке едет. Или продать? Пусть немного денег, а все-таки для Ирочки хлеб, масло… Нельзя ему дальше без куклы идти, нельзя!»
– Не могу! Ты пойми меня, не могу. Целый месяц для девочки шила, для сироты. У нее кукол никогда не было, а ведь нельзя же так – все детство без кукол. Ты прости…
Солдат помялся, буркнул какое-то некстати прозвучавшее извинение и пошел, утирая пот со лба и бормоча что-то досадливое и смущенное. Потом он повернул за угол, будто и не было его. Но кусочек радости он у Ефросиньи Петровны унес.
Ира только и нашлась сказать:
– Ооо!
Она смотрела то на куклу, то на тетю Фросю, тихо смеялась и осторожно трогала гипсовые румяные щеки. Потом она бережно усадила куклу на кровать; почти не касаясь, расправила звонкое платье; и вдруг обхватила Ефросинью Петровну, неловко ткнулась холодным носом в морщинистую щеку, да так и приникла, так и замерла…
Ефросинья Петровна гладила ее волосы, плечи – что под руку приходилось. Только теперь заметила она, как вытянулась Ирочка, какая стала длинноногая, нескладная, только теперь поняла, что ей, наверное, уже и не нужна кукла. Губы зашевелились, скомкались и нехотя улыбнулись.
– Ну хватит, дочка. Порадовались, и хватит. У меня забот полон рот, да и ты человек занятой, серьезный.
Ефросинья Петровна долго гремела на кухне кастрюлями, на вопросы соседей улыбалась:
– Обрадовалась, конечно. Как не обрадоваться! – А сама все думала: «Как она дальше сложится – жизнь?!»

Сергей Платон
Головастики
Чем старше становится человек, тем меньше ему нравится война. Наверное, самая популярная во всем мире, игра в войну по-настоящему любима только маленькими людьми и детенышами животных.
С каким же наслаждением едва вставший на ноги человечек лупит первой попавшейся под руку палкой по первым попавшимся на его пути препятствиям, не важно, по птицам, качелям или кустам! Как радостно гоняется за кошками, барахтается с собаками, с каким восторгом бросается в потешные рукопашные бои с друзьями! Маленький ближе к природе. Подрастая, он уже не так восторженно относится к шуточным потасовкам, боям, приключениям, дракам, погоням, атакам и даже победам.
Пашка пока очень любил войну. Любил своих оловянных солдатиков гораздо больше, чем головастиков, живущих с весны до осени в красной пожарной бочке рядом с его домом.
Солдатиков было всего два, однако в войнах они уже совершенно спокойно участвовали и побеждали. Как только рядом вставали пластмассовые ковбои и рыцари, сразу получалась хорошая армия, моментально пугающая плохих противников, которых Паша называл захватчиками. Плохая армия была намного сильнее, коварнее, злее, командовал ею хитрый маленький чукча, вырезанный из белого рога или какой-то кости. В дальнем углу ковра этот чукча выстраивал в ряд двух резиновых слонов, медведя, тигра, за ними – десяток свирепых индейцев, следом – машинки и мотоциклистов, а потом – мелких обезьян, собак и кошек. Сам он сидел на перевернутом ведерке, наблюдая за ходом сражения в театральный бинокль. Ну, как бы наблюдая, будто бы в бинокль, поскольку тот на самом деле был во много раз крупнее гадкого агрессора и просто лежал рядом.
Войнушка выходила увлекательной, шумной. Эти дерзко нападали, завоевывали, штурмовали, а наши героически сопротивлялись, защищая родной замок – вертикально поставленную обувную коробку под столом. Оловянные командиры, уже израненные в боях (у первого обломился штык, у второго отвалилось дуло автомата, а широкие лица под касками покрывала у обоих паутина шрамов-царапин), были все-таки непобедимы. И это правильно, ведь они свою родную землю обороняли. Ура! И очень хорошо, что у них был жестяной самолет и бомбы разной мощности, сделанные из разобранной матрешки. В общем, как и положено, в войне всегда побеждали хорошие, высокие, благородные.
Победа рождала тихое удовольствие, можно было долго-долго лежать, уткнувшись щекою в колючий ковер, и радостно обозревать поле боя, в центре которого гордо стояли высокие полководцы.
С тем же удовольствием Павлик наблюдал за войнами головастиков, положив подбородок на шершавый край бочки. Внутренние стенки подводного мира были ровно покрыты бархатной ржавчиной, по зеркальной поверхности сновали водомерки, а в прозрачной глубине друг за другом носились стайки крохотных одинаковых рыбок, немного похожих на его солдатиков, такие же светлые и крупноголовые. Что-то там у них постоянно происходило, кто-то за кем-то безостановочно гонялся, кто-то убегал и прятался. Лишь жуки-плавунцы никого не боялись, спокойно всплывали к поверхности, выныривали на время и так же вальяжно опускались на дно.
– Паша, подушку! – скрипучим шепотом скомандовал дедушка со своей койки.
– Какую?
– Большую.
Дедовы подушки лежали на кресле-кровати у тумбочки. Каждое утро, собрав свою постель и кресло, Паша выкладывал аккуратную пирамиду из разных подушек, а в течение дня то приносил их деду, то относил обратно.
– Вот, хорошо. Хоть посижу чуток. Кто у тебя сегодня победил? – косо улыбнулся дед, привалившись спиной на горку из диванных валиков, старых одеял и подушек.
– Наши.
– Если наши проиграют, наши вашим напинают! – хохотнул дедушка и тихо закашлялся. – Чего это у тебя все время наши выигрывают? Враги у них дураки, что ли?
– Наши хорошие, – уверенно ответил Пашка.
– Хорошие потому, что родину спасают? Так, что ли?
– Да! Наше дело правое!
– Молодец! Наша порода, башковитая! В том году, когда в школу пойдешь, я тебе за каждую пятерку буду солдатика покупать, вот и будет у тебя нормальная армия. Почем у Физы солдатик стоит?
– Пять копеек.
– Вот, отлично! За каждую пятерку – пятачок.
– В том году – это когда?
– А вот сейчас эта осень наступит, зима придет, новый год, потом весна, лето, а потом, следующей осенью, прямо с первого сентября – «в первый раз в первый класс».
– Долго, – расстроился Павлик чуть не до слез. Дед говорил о каком-то неимоверно далеком будущем, а солдатиков хотелось теперь, сегодня.
– Ну-ка отставить, рядовой! Солдат не плачет! Понятно?
– Понятно, – проскулил Паша, сдержав слезы.
– Собирай игрушки – и гулять. Дрова на обратном пути захвати, полешка четыре.
– Тепло же.
– Тебе всегда тепло, а ночами-то сыро уже, выстужается дом. Родители придут со смены, мы им печку-то и разведем. Топай-топай, я посплю пока. Подушку убери.
Баба Физа была на своем обычном месте рядом с киоском «Союзпечать» у троллейбусного кольца. Перед ней, на крышке фанерного ящика, на свежей газете, стояли ряды прекрасных новеньких солдат, в этот раз – с винтовками и в касках. В киоске тоже было на что посмотреть, за высокими стеклами стояло и висело множество интересного, но Паша никак не мог отвернуться от блестящих на солнце одинаковых касок и солдатских лиц с едва распознаваемыми чертами.
– Пять копеек за штуку, – склонилась к нему продавщица солдатиков, утирая зеленой косынкой широкую шею и подбородок. Физа сидела на самом солнцепеке и уже насквозь пропиталась потом. – Жарища, да? – выдохнула она, обмахнулась картонкой и привычною скороговоркой отбарабанила: – Пять копеек. Пять копеек. Пять копеек за штуку!
Напутал что-то дедушка: троллейбусы, дома, киоск, асфальт, деревья в палисаднике, завод через дорогу, сараи, огороды, редкие прохожие – все побелели на улице от солнечного жара. Какие тут дрова в такую-то жарынь, зачем они? Вон, даже солдатикам жарко.
– А с автоматами будут? – решился спросить Пашка.
– Э-э! Ты этих сначала купи! Будут потом и с автоматами, и погранцы с собаками, и конники! Что, денег нет?
– Нет.
– Э! Ложки-вилки тогда неси, сеточки из аккумуляторов. За двести грамм – солдатик. Беру олово, алюминий, свинец. Пять копеек за штуку! Пять копеек! Пять копеек! Айда, поройте там за гаражами с мальчиками, там все время аккумуляторы выбрасывают. Пять копеек за штуку! Пять копеек!
От неожиданной радости у Паши немного закружилась голова. Он все понял. Он уже бежал как угорелый в сторону гаражей через тополиную рощу. Ах! Это же уже сегодня можно будет взять себе солдатиков, не дожидаясь того года! Витрины киоска и бочка с головастиками тоже могут спокойненько подождать, надо срочно разыскать ложки и сеточки. По дороге он встретил дворовых мальчишек, быстро все им рассказал. Те с удовольствием присоединились к поискам алюминия и свинца.
Копаясь в мусорных слоях огромной свалки, они задорно горланили уморительно смешную песенку. Как выразился Сашка, уже первоклассник и уже успевший побывать в пионерском лагере, настоящую отрядную песню: «У солдата выходной, пуговицы в ряд. Ярче солнечного дня, пуговицы в ряд. Часовые на посту, пуговицы в ряд. Проводи нас до ворот, пуговицы в ряд. А солдат попьет кваску, пуговицы в ряд. Никуда не торопясь, пуговицы в ряд. Карусель его помчит, пуговицы в ряд. И в запасе у него – пуговицы в ряд».
К вечеру удалось насобирать целую сумку нужных железок. Пока волокли эту, найденную там же, на свалке, драную сумку без ручек через тополя, были счастливы, а вот на троллейбусном кольце их ожидало разочарование. Ящик стоял на месте, но ни бабы Физы, ни солдатиков рядом с ним не было. И ждать не имело никакого смысла – солнце уже усаживалось за горизонт, развесив по темному небу мелкие вишневые облака. Припрятав только им понятное сокровище в кусты палисадника, пацаны разбрелись по домам.
Всю следующую неделю Паша начинал каждую прогулку у киоска, садился на ящик и ждал. Он был уверен, что дождется. Однако Физа почему-то не появлялась. Как так-то? Обещала же солдатиков за ложки, а сама куда-то делась. Однажды маленькая бабушка-киоскерша, аккуратно забинтованная белым платком, подсказала, где найти бабу Физу. Та, как выяснилось, жила совсем рядышком, в первом подъезде двухэтажного барака, в квартире номер один. Собравшись с духом, Павлик ходил туда несколько раз и даже стучал в деревянную дверь, но ему отвечали, что Физы нет дома. Теперь он ждал у подъезда на лавочке, прямо под окнами ее кухни. Должна же она была хоть когда-то вернуться домой.
Через неделю он дождался. Через неделю он и разлюбил войну.
– Ой, война-война, будь она проклята… – пропела из открытого окошка невидимая тетенька под бряканье кастрюльных крышек. – А что это за имя-то за такое: Физа? Какое-то не наше.
– Наше, наше, только басурманское оно. У меня золовку так зовут. Хорошая девочка, смешная такая, все время всем рассказывает, как ее имя переводится. Физа – значит серебро или серебряная монетка. Правда, красиво? Тебя вот как зовут?
– Тома. Ну, Тамара, в смысле…
– Знаешь, как переводится?
– Не, не знала никогда.
– А эти – знают все.
– Физа – серебро. Надо же…
– Ой, бедная она, бедная. Воевала, оказывается. Инвалидность-то получила не за завод, а за войну. Куда ты столько луку сыплешь?
– А сколько надо?
– Половину – в самый раз!
– Так чо там Физа?
– Физа, Физа… Пенсия тебе – не фронтовой паек и не зарплата, а кушать каждый день хочется. Только солдатики ее и кормили. Сама все отливала, формовала, отделывала. «Уралмаш» на дому устроила, понимаешь ли. Сталевар! Представляешь, тигли настоящие себе завела, сплавы готовила, формы сама делала.
– Хорошие солдатики получались?
– Кривые-косые, как нет-то? Но народ покупал.
– И куда она подевалась?
Пашка напряг весь свой слух. На минутку конечно же стало неловко. Понимал ведь, что подслушивать нехорошо, но узнать о случившемся было необходимо. Он почувствовал свое законное право на это знание и поэтому слушал.
– В дурку увезли, там и отошла.
– Чо такое случилось-то?
– Ты вообще не в курсе, что ли? Дочка к ней с зятем приехали, богатые такие, чистые, с дорогими подарками. А зять-то – настоящий немец из ГеДеэР оказался. Так она же их выгнала к чертовой матери, понимаешь ли. А потом параличом ее сразу разбило, а она все орала чего-то про немецкую овчарку, бедная.
– И где это, интересно мне знать, наши дочери могут немцев себе найти?
– УПИ она у нее закончила, еще в Москве потом училась, понимаешь?
– И чо?
– Обмены там у них с Европой всякие, аспирантуры.
– Ничего себе. Кто теперь в этой комнате будет жить?
– Вот-вот-вот. Мы с тобой, как соседки, имеем самое полное прямое право! Тома, послушай меня, – забирай!
– Мне куда эта комната, я и так кое-как плачу.
– Тогда я заберу.
– Забирай себе на доброе здоровье… Ой, война-война… Надо же… – тихо ответила соседка Тамара.
На той скамейке Павлик ясно понял, что солдатиков он уже никогда не дождется. Ну и пусть. Их уже не хотелось. С тех пор он больше не играл в войну. Его загадочный средневековый замок под столом как-то просто и сразу превратился в обычную обувную коробку с игрушками.
Осенью он увидел в поленнице дров те самые тигли и формы и тех самых, когда-то до головокружения любимых солдатиков от бабы Физы. Днем у сараев кто-то наколол дрова, а вечером кто-то выбросил рядом кучу солдатиков, ложек и аккумуляторных сеток, наверное, соседки. Можно было взять всю эту армию сразу, целиком, только руку протянуть. Не взял. Вот же как, их не то что брать, их даже видеть не хотелось!
Ночью Паша узнал наконец, почему дедушка спит днями напролет. Оказывается, все ночи он стонет. Война, будь она проклята! На чукчу и игрушки наплевать, а вот двух раненых солдатиков было просто необходимо вернуть своим, туда, к поленнице, чтоб они были вместе все. Павел тихо прыгнул в отцовские валенки, прислушался к тихой шторке, за которой сопели родители, осторожно схватил в ладошку обоих солдатиков и плавно повернул ключ входной двери.
Над черными дровяниками сияло звездное небо. Как же там, во дворе, было холодно и красиво! Все силуэты дворовых построек залиты сверху синим светом огромной луны. А под ногой, с каждым шагом, звонко хрустели ледяные лужицы. Кучи солдатиков в поленнице уже не было, кто-то их уже прибрал. Паша даже и не сомневался, куда пристроить своих раненых солдат на крайний случай, он все заранее предусмотрел. Бойцы отважно нырнули в бочку, прямо в ледяное отражение луны, на самое дно, зимовать к головастикам…
Много-много лет спустя, живя уже совсем в другом конце города, на последнем этаже новой уралмашевской высотки, рядом с проходной уже другого завода, Пашка припозднился, возвращаясь домой с дежурства. В лифте он рассеянно придумывал, чем возразить на слово жены «опять», однако же лифт у них был скоростной, и он снова ничего убедительного не придумал. Работа, ничего не поделаешь.
– Ну, ты опять? Все у нас по-прежнему. Выходные-то не забрали хоть? – неожиданно умиротворенно спросила Ленка, выглянув из ванной комнаты и махнув, как флагом, полосатой простыней.
– Выходные наши, не волнуйся!
– Я сейчас достираю уже. На кухне там подарок посмотри пока.
– Головастик спит?
– Час почти вертелся, успокоиться не мог. Потом сам понял: чем быстрее заснет, тем быстрее день рождения наступит, и сразу засопел.
Павел оставил ремень и фуражку в прихожей, а китель понес в гардеробную. Переодевшись там, сдвинул занавесы из постельного белья в коридоре, шагнул в кухню и оторопел. В центре стола, под лампой, лежала потрясающе красивая упаковка оловянных солдатиков. Тех самых, из его детства!
Под прозрачным плотным пластиком, на красочном картоне с яркой надписью «Rote Armee», в пять рядов была выложена сотня удивительно аккуратно отлитых фигурок. Действительно, Красная армия… красота! Там были пограничники с собаками, бойцы с винтовками и с автоматами, солдаты в касках, фуражках, папахах, матросы в бескозырках, танкисты и летчики в шлемах, даже несколько генералов в шапках с кокардами. На обороте сиял логотип «MADE IN GERMANY», а чуть пониже штрихкода мелким шрифтом было написано: «Hetgestellt in Deutschland».
Как о вчерашнем дне он вспомнил и о тополях, и о смешной отрядной песне, и о бочке с головастиками. Мгновенно припомнился и дед, и первый дом, и троллейбусное кольцо у проходной завода, киоск, сараи, гаражи, бараки и конечно же баба Физа с ее корявыми солдатиками. Почему-то у нее они всегда получались какими-то шибко большеголовыми, что-то там, видимо, с формами было неверное.
«А ведь те солдаты больше на нас походили, – подумал Паша, улыбнувшись, – на меня, на отца и на деда. Такие же глобусы вместо голов. Башковитая наша порода, да. Вон, за стенкой, еще один головастик растет».
Захватив сигареты, он вышел на балкон. Над миром висела та самая, бледно-синяя луна. Вот где была красота! Внизу копошился город, сновали автомобили, по освещенным улицам и переулкам двигались муравьиные цепочки прохожих, у основания дома дремал темный парк, напоминающий сверху ровно подстриженный газон. В эту-то тьму Павел и бросил неудачный подарок, нисколько не усомнившись в правильности решения.
– Ты что, с ума сошел? Ты что, их выбросил? – спросила Лена, вытаращив глаза. Она еще не успела обидеться, просто не разобралась и ждала объяснений.