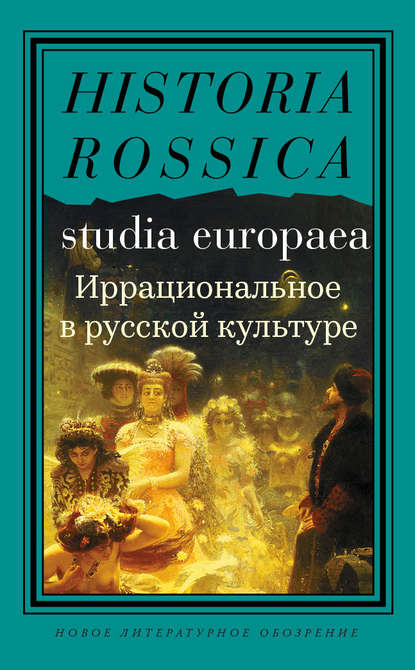000
ОтложитьЧитал
Противопоставленная формальной рациональности содержательная рациональность подобной автономностью не обладает. Для нее
формальный <…> однозначно устанавливаемый факт целерациональных расчетов, пусть даже производимых весьма адекватными техническими средствами, оказывается недостаточным, поэтому по отношению к хозяйству применяются этические, политические, утилитарные, гедонистические, сословные, эгалитарные или какие-либо иные критерии, и с ними <…> соизмеряют результаты хозяйствования (сколь бы «рациональны» они ни были с формальной точки зрения, то есть с точки зрения расчета) <…> В отличие от этой содержательной критики хозяйственного результата, самостоятельное значение <…> может иметь этическая, аскетическая, эстетическая критика хозяйственного образа мыслей и хозяйственных средств. Для всякой такой критики «чисто формальный» результат денежного расчета может показаться второстепенным или даже враждебным ее постулатам62.
Как мы видим, содержательная (материальная) рациональность оказывается враждебной логике безотносительного экономического успеха. Причем именно логике, а не самому успеху. Сперва она его релятивизирует, ставя в один ряд с другими видами деятельности, к которым применимы те же оценочные установки. Затем этот успех оценивается (и часто обесценивается, но иногда и сакрализуется) согласно той системе координат, которая ему в принципе нерелевантна, поскольку ценностно-рациональная логика не замечает автономности, самодостаточности этого типа деятельности. Результаты оценки обычно таковы: экономические достижения, не конвертированные в тот капитал, который признан актуальным этой рациональностью, признаются неудовлетворительными, а формально рациональная деятельность, соответственно, иррациональной. И это касается не только поля рационально организованной экономики, которое мы покидаем, чтобы взглянуть на то, как работает этот идеальный тип за его пределами.
Вообще говоря, здесь мы опять сталкиваемся с двумя трудностями. Они связаны с многовекторностью веберовского анализа. Первое. Вебер мыслит исторически, пытаясь рассказать историю о том, как возник модерный западный мир, и его реконструкция событий не предполагает, что это единичное событие, которое не может повториться или быть реверсировано. Это касается и становления господства формальной рациональности, связанного с процессами рационализации, завершенными Реформацией. Мне кажется, что Юрий Давыдов верно описывает основной вектор этого построения: «Религиозное обесценивание „мира“, толкавшее протестанта-буржуа на путь деятельного овладения „миром“, осуществляемого посредством все дальше заходящей рационализации, неуклонно вело к выявлению его „самозаконности“, его собственной – формальной, технической – рациональности, не имеющей ничего общего с рациональностью содержательно-смысловой, этической»63. Историчность этого построения входит в известное противоречие с тем, что Вебер порой оперирует концептами разных рациональностей как внеисторическими типами. Это в принципе находится в полной гармонии с тем, что он без конца говорит о невозможности встретить чистые случаи господства какого-то одного типа мотивационного основания для действования – будь то аффект, традиция или одна из рациональностей. Здесь стоит заметить, что при всей внимательности к реконструкции (или допущению) осознанной деятельности человека изучаемого общества Вебер относится к выделяемым идеальным типам скорее как к академическим абстракциям, хотя и пишет о потенциальном или реальном логическом диссонансе, возникающем при столкновении двух типов логик («с целерациональной точки зрения ценностная рациональность всегда иррациональна»64).
Второе. Вебер мыслит телеологически, то есть у него есть некоторый результат, к которому пришло развитие если не человечества, то западного мира. Это система капитализма, работающего по принципу формальной рациональности и требующего соответствия его критериям от иных областей социальной жизни – правовой и административной систем, позитивистской науки и т.д. Получается, что рациональный капитализм логически первичен по отношению к другим рационально организованным социальным системам, которые он должен приспособить под себя. Так, ему нужно формально-рациональное право, работающее предсказуемо и автономно от других институтов:
Но это формальное право дает возможность предварительного точного учета. В Китае случается, что человек, продавший дом другому лицу, через некоторое время снова возвращается в него и просит принять его вследствие его разорения. Если покупщик не выполнит древнекитайского завета братской помощи, то духи приходят в негодование; таким путем обедневший продавец снова насильственно вселяется в дом, не платя ничего за помещение. При таких законах капитализм немыслим: для него необходимо право, работающее по заранее определенному плану, как машина; обрядово-религиозные и магические соображения не должны играть здесь никакой роли65.
Образ машины здесь неслучаен. Чтобы представить работающий по этому принципу суд, нам надо вообразить судью, который при принятии решения по делу не учитывает никаких этических соображений – ни низменных, ни возвышенных, включая среди прочего и представление о справедливости. Этот судья при вынесении приговора по уголовному делу не может и не должен радеть о наказании или исправлении преступника. Он равнодушен к чувствам всех сторон тяжбы, включая потерпевших, и, разумеется, к требованиям заповедей Божьих и к общественному мнению. Только тогда он действует формально рационально.
Подобный тип формального рационализма возникает гораздо раньше рационального капитализма, а именно в античном Риме как римское право, и насколько европейские общества наследуют этой правовой системе, настолько они являются юридически формально рациональными. И только в Новое время формально рациональная экономика и формально рациональная юриспруденция встречаются. Таким образом общественная система, которая характеризуется логикой целерационального действия, может возникать вне Реформации и вне модерной капиталистической системы.
Применимо ли веберовское различение между формальной и содержательной рациональностью к анализу религиозных явлений вообще и христианства в частности? Вообще говоря, да, но только если мы готовы расстаться с инерцией применения к пониманию религиозных явлений исключительно тех концепов, которые ассоциируются с областью иррационального, то есть традиции и харизмы (близкой родственницы аффективной мотивации как источника праксиса), к использованию которых толкает нас не столько логика самого Вебера, сколько наши собственные ментальные привычки. Для самого Вебера было исключительно важно подчеркивать, что религия не является областью господства иррациональных мотиваций и что становление религии за счет отступления магии происходит в том числе через рационализацию мира (как трансцендентального, так и социального), которой методично занимаются представители священнических корпораций: это стало одной из основных линий книги «Типы религиозных сообществ»66. Но мы не ошибемся, если отнесем эти построения к области ценностно-рационального действия, имеющего критерии оценки и источники легитимности своего действия вне самого действия.
Однако мы можем обнаружить в тех социальных явлениях, которые обычно объединяются термином «религия», и проявления собственно формальной рациональности, то есть той рациональности, которая определяет функционирование акциональной системы, действующей автономно от другого социального мира («мира сего»). В ней есть своя расчетливая логика, основанная на целях, абсолютных для самой системы. Согласно этой логике, ценностно-рациональное действование есть явление иррациональное, причем не только на том основании, что у него иные ценности, но и потому, что оно, ориентируясь на внешние для себя самого ценности, оказывается не способным следовать кратчайшим и безопасным путем к достижению поставленной цели. Конечно, автономность целерациональной системы относительна. Внешний мир является источником раздражителей, которые усиливают степень автономности проекта, ведь его участники стараются избегать иррационально выстроенных внешних мотиваций. Но самое важное – внешний, в общем и целом основанный на логике традиции, аффекта и материальной рациональности мир является единственным источником и гарантией существования подобных автономных систем. Несложный парадокс заключается в том, что эти системы являются скорее фактами социального воображения «большого социального» мира, высоко ценящего формальную рациональность, но одновременно (и по этой причине) боящегося ее. Сфера деятельности формальной рациональности, которая «есть, по существу, <…> лишь конструируемый предельный случай»67, – это воображенный самодостаточный мир, в котором возможно то, что невозможно в мире внешнем, – прямое рациональное действие, совершенное без оглядки на традицию и на более слабые с отвлеченной точки зрения, но в реальности могущественные рациональные основания.
Подобных формально рациональных (воображенных) миров много: предприятие, на котором работают работники, не замечающие вокруг себя ничего, кроме собственно производства, кабинет полубезумного ученого или мастерская художника – все их обитатели «не от мира сего». И очевидно, что существуют религиозные локусы, в которых особые люди, движимые логикой прямого эффективного действия, мастеровито достигают своих целей. Сам факт существования подобных локусов и личности их обитателей тревожат воображение верующих тем, что они отделены от мира и «запрещены», а стало быть недостижимы в качестве образца и доступны для контакта только в рамках специальных процедур, то есть относятся к дюркгеймовской области сакрального. Это, собственно, святые68. Рассмотренный с этой точки зрения феномен христианской святости предполагает, что рационально, а значит, эффективно действующий подвижник благочестия действует так, чтобы самым верным пути достигнуть спасения. Ему принципиально безразлично, признает ли его «сей мир» святым или нет. Ему нет дела до того, как высоко будет оценен его подвиг другими. Ему даже неважно, признали ли его благочестивым христианином или христианином вообще. Но этого мало, так как «мир» должен видеть это его безразличие. Так возникает юродивый Христа ради как факт восточнохристианского агиологического воображения, как персонаж агиографического нарратива и этнографически наблюдаемое явление69.
Напомню, что мы, говоря о святых юродивых, имеем в виду не столько реальных людей и их мотивы, хотя мы не должны исключать, что выбор подобного пути (социальной роли) реально основывался на христианской формальной рациональности. Предмет нашего анализа – это скорее тот самый мир, которому «ругаются» юродивые и который рассказывает себе об этих странных, порою страшных людях, вписывая в их поступки (действование) «юродские» смыслы. Создание этих смыслов предполагает столкновение двух типов рациональности, вступающих в игру взаимного обличения в иррациональности, безумии. Подобные столкновения (вернее, рассказы о них) создают условия для актуализации религиозной харизмы, понимаемой здесь не как личные качества лидера, а как якобы неподвластная контролю общества характеристика объектов социального ландшафта70, включая, кстати говоря, институции71. И одним из источников этой харизмы может быть формально рациональная система. Ей коллективное сознание приписывает вызывающую пиетет герметичность и, соответственно, использует ее как источник не только актуальной информации, но и знания о том, что источник «неотмирного» знания по-прежнему функционирует, а доказательством этому является сам юродивый, который время от времени должен просто подтверждать свой специальный статус соответствующими поступками. И здесь мы можем допустить то, что харизма, по крайней мере в некоторых случаях, может оказаться не определяемой с точки зрения конкретной ценностно-рациональной системы рациональностью. Вернее было бы говорить о том, что общество делает вид, будто мотивы определенного действования ему непонятны с точки зрения его рациональности, а значит, они интеллигибельны только с точки зрения иррациональности, в нашем случае имеющей сакральное происхождение. Но при этом само общество транслирует через свои (контр)культурные коды, главным из которых является код безумия, ментальной неадекватности, правила рационального поведения.
Герметичная (харизматическая формальная) рациональность юродивого делает его идеальным святым с точки зрения проблематизации рутинной рациональности (или здравого смысла) или практик повседневного благочестия, которые в силу своей повседневности не предполагают конфликта между ценностями, на которые они ориентированы, и естественным течением жизни. Он напоминает христианскому обществу о религиозном экстремизме евангельских требований и перспективе короткого пути.
Но кажется, это становится очевидным, только если фигура юродивого становится предметом богословской рефлексии. С этой точки зрения
настоящее юродство – высшая форма святости. Другие категории святых – святители, мученики, преподобные, благоверные князья – в результате длительного самоусовершенствования подготавливают себя к жизни в Царстве Небесном; юродивые – уже живут в нем, не дожидаясь смерти своего тела. Они только кажутся жителями земли, на самом деле они небожители. И приходят к этому состоянию не постепенно, не путем борьбы со своими страстями, путем подвигов и молитв, а сразу72.
То есть получается, что юродивые практически неотличимы от мучеников. Те через публичное исповедание Христа и смерть резким эффективным деянием стяжали себе спасение, не озаботившись выполнением земных обязанностей христианина. Юродивый же делает практически то же самое. Он отрекается от себя – собственных разума и тела, не говоря уже о таких мелочах, как социальный статус и семья. А затем он, забыв про земные дела, в том числе про обязанности, налагаемые требованиями регулярного благочестия, остается в дольнем мире в ожидании того, когда не только заслуженная, но уже полученная награда будет ему доставлена. Эта довольно статичная икона юродивого, которую нужно отличать от умозрительных спекуляций о самой природе юродства73, как раз и опирается на представление о его специфичной рациональности как сотериологическом механизме и источнике агиологической харизмы, что, кстати говоря, дает нам ответ на вопрос, почему призыв подражать подвигу юродивых звучит попросту нелепо74.
Но уже для нарративизирующего этот подвиг агиографа и стремящегося к использованию агиографии для достижения практической духовной пользы учителя христианской нравственности этого оказывается недостаточно. Агиограф через выстраивание жития прослеживает траекторию, по которой следует юродивый на пути достижения святости, а затем демонстрирует доказательства его действительной святости, тем самым релятивизируя его статус чужака в мире дольнем. Особое место в агиографических методах рутинизации харизмы занимает топос тайных дел благочестия, посредством которых его герой, равнодушный к мнению современников, убеждает потомков, что те читают повествование про жизнь настоящего христианского святого, соответствующую принятым поведенческим стандартам. Наиболее последовательно идущий по этому пути писатель становится настоящим учителем нравственности, который призывает извлечь урок из каждой детали жития святого. Под его пером житийный текст лишается одних деталей, обогащается другими, а образ святого рисуется практически заново. Тем самым юродство «приручается», переводится в область ценностно-рационального поведения.
Кажется, ближе всего к идеальному образу юродивого как религиозному типу стоит практическая народная агиология. Она обычно не пытается реконструировать путь восхождения юродивого к вершинам святости, довольствуясь одним ярким событием, определяющим его статус, и используя его дары с «исконным расчетливым рационализмом», который «присущ повседневной и массовой религиозности всех времен и народов и всем религиям вообще»75. Такой юродивый из человека, сделавшего рациональный выбор, сам становится объектом выбора, тем, кто свыше отмечен вполне реальным безумием, что, собственно, и отличает его от притворщика.
О ВИДЕНИЯХ ВО СНЕ И НАЯВУ. ВИЗИОНЕРСТВО И ОТНОШЕНИЕ К НЕМУ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В 30–60-Е ГОДЫ XIX ВЕКА
Ирина Пярт
В 1922 году в Сергиевом Посаде Павел Флоренский закончил свой трактат «Иконостас» о богословской эстетике иконографии, интерпретируемой им как явление «обратной перспективы». Флоренский начал трактат с теистического постулирования объективного существования двух форм реальности, видимой и невидимой, мира горнего и мира дольнего, обоих сотворенных Творцом (Быт. 1:1), выдвигая вопросы о связанности этих двух миров: «…эти два мира – мир видимый и мир невидимый – соприкасаются. Однако их взаимное различие так велико, что не может не встать вопрос о границе их соприкосновения. Она их разделяет, но она же их и соединяет. Как же понимать ее?» 76
Жизнь человеческой души, согласно Флоренскому, и есть место, где происходит встреча двух миров, видимого и невидимого. «В нас самих покров зримого мгновениями разрывается, и сквозь его, еще сознаваемого, разрыва веет незримое, нездешнее дуновение: тот и другой мир растворяются друг в друге, и жизнь наша приходит в сплошное струение, вроде того, как когда подымается над жаром горячий воздух»77. Сон, продолжал Флоренский, есть «ступень» (хотя и низшая) человеческой жизни в невидимом, возможность разорвать «покров зримого», прикоснуться к реальности, которая лежит за пределами видимого. Процесс времени во сне, имеющий обратное течение, от будущего к прошедшему, привел Флоренского к формулировке понятия «обратной перспективы» иконы.
Сновидения с древних времен являлись формой знания и самопознания. «Сон – уникальная форма самонаблюдения, саморефлексии и самоописания – саморассказа или самоинсценировки»78. Хотя в каждой культуре снам и видениям придавалось значение коммуникации, возможности получить знание о мире видимом от обитателей мира невидимого, включая ушедших предков, интерес к снам, как и к другим способам постигнуть внутреннюю, скрытую от разума жизнь души (например, психоанализ), особенно ярко проявлялся в исторические эпохи, когда общества и индивидуумы, живущие в них, испытывали кризис идентичности и «разочарование в политической, социальной и сенсуальной ориентации <…> общества»79. Флоренский, писавший трактаты о сновидениях, духовном зрении и обратной перспективе в период, когда большевистское государство расправлялось с идеалистической философией и ее представителями, подтвердил этот тезис. В тоталитарном обществе сновидение становится способом артикулировать невысказанные, подавленные и неосознанные мысли, эмоции, страхи и желания, а также коллективное бессознательное80.
Типологически можно отделить видения, происходящие во сне, от происходящих во время бодрствования или во время «обмирания». Тем не менее эта типология будет достаточно искусственной. Так, выделение мистического видения как явления сверхъестественного и редкого, полученного в результате внезапного экстаза во время бодрствования, из множества широко распространенных в разных культурах способов общения с «другим» миром, включающих и сновидения, связано с авторитетом святого Фомы Аквинского. На самом деле бóльшая часть видений и в Западной Европе, и в России происходит именно во сне. Также связан со сном и синдром «обмирания», во время которого многие визионеры получали откровение о загробной жизни. Этот достаточно загадочный феномен народной культуры иногда объясняется как летаргический сон, иногда как клиническая смерть, а то и как обморок81. Пережившие такие необычные состояния рассказывали о встрече с умершими родственниками, святыми, о ландшафте загробного мира. Рассказы со слов «очевидцев» о путешествиях души в «тот» мир, представления о котором не всегда совпадали с «официальной» теологической геодезией, становились частью популярного чтения в народе82. В русской крестьянской культуре сон и смерть считались сравнимыми состояниями. Семиотическая близость этих двух состояний может объяснить, почему бессознательное состояние и сон могут служить лиминальной зоной между миром живых и миром мертвых, создавая богатый фольклорный материал о встречах с умершими родственниками и другими представителями загробного мира83.
В русской восточнохристианской традиции жанр видений (во сне и наяву) был широко распространен и имел определенные этические и дидактические функции. Исследователи обратили внимание на связь литературы видений и социального протеста против церковных и светских властей84. В то время как жанровые особенности литературы видений достаточно изучены, относительно мало известно о конкретных исторических условиях, в которых происходили видения, об их восприятии со стороны общества и церкви, а также о личностях и судьбах визионеров. Отношения между церковными властями и богословами, с одной стороны, и визионерами из народной среды, с другой, поднимают важный вопрос о том, как на языке нормативного богословия интерпретировались опыт и формы «народной» религиозной культуры. Можно ли говорить об определенной рационализации религиозного опыта, которая происходит не обязательно извне, то есть со стороны агностически настроенной науки, а внутри самой институционализированной религии? В своем критическом анализе современных религиоведческих категорий А.А. Панченко пишет, цитируя финского исследователя Вейко Анттонена, что различение категории священного как «дискурсивного, логического, интеллигибельного компонента религии» и нуминозного, обозначающего «не-дискурсивные, аффективные, невыразимые, непостижимые» характеристики религии, не вполне правомерно85. Соглашаясь в целом с предложениями Панченко, в нашем исследовании мы пытаемся показать, как «нуминозный» опыт подвергается разным формам рационализации. Признавая ограниченность терминологии, под «рациональным» в данном исследовании имеются в виду разные явления, как то: теологический дискурс об иерархии и категориях сверхъестественных явлений, процедуры канонизации и другие практики церкви как культурного и общественного института. Что происходит, когда сверхъестественное вторгается в повседневную жизнь, какие в тот момент возникают отношения между разными действующими лицами («народ», церковь, светская власть, визионер и общество), какую позицию занимают представители церкви? Данная статья предлагает восполнить «дефицит исследований, посвященных изучению феномена визионерской литературы»86 и визионерства в контексте русской православной традиции вообще, предлагая анализ одного визионерского опыта XIX века и его интерпретаций.
ДЕЛО АНУФРИЯ КРАЙНЕВА (1855–1859) КАК CASE-STUDY ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО ВИЗИОНЕРСТВА XIX ВЕКА
Рассматриваемый здесь случай визионерства возник во время Крымской войны (1853–1856) и несмотря на достаточно распространенную форму видения, указывавшего на «забытую» непочитаемую святыню, привлек внимание столичных церковных властей. Двадцатилетний неграмотный солдат Ануфрий Крайнев, проходивший службу в береговой охране Балтийского побережья, получил первое откровение в Нарве в августе 1855 года. Сначала он услышал голос: «Иди, младый юноша, и объяви своему начальству, что в Москве, в Крутицких казармах есть разоренный храм. У сего храма под престольным окном стена белая, и в сей стене камень старый четыреугольный. И на сем камне начертаны слова: „Почивают под сим камнем святые мощи Федора, божьего угодника“. Прошу и молю у сего мира православного, прежде просил я московских жителей и они приходили молиться на гроб мой, а теперь помолись обо мне ходя-проходящий»87. Голос стал преследовать Крайнева почти каждую ночь, а во время пребывания в Москве его полк размещался в Крутицких казармах, и он получил возможность посетить место, указанное в его видениях88. С двумя товарищами Крайнев удостоверился, что в бывшей церкви подворья действительно было надгробие с именем некоего Федора, что укрепило его особые отношения с неизвестным подвижником. С тех пор он видел несколько раз во сне «Федора угодника сидящего на подобие Николы Чудотворца и просящего о возобновлении храма»89. Крайнев сообщал также, что Федор был митрополитом и жил 120 лет назад. В 1858 году Крайнев доложил о своих видениях начальству, после чего был «наказан» святым сначала слепотой, потом булимией за невыполнение его совета.
Крайнев описывал в деталях сон, повторявшийся каждую ночь. Во сне он видел себя входящим в склеп со свечой, которая зажигалась сама собой, угодник лежал на левом боку, и виднелась только часть его груди и лицо, похожее на святителя Николу. При приближении Крайнева угодник якобы говорил: «Вот, младый юноша, не веруют мне. Иди и проси начальство, чтоб построили на сем месте храм и вынесли меня отсюда». Увидев, что Крайнев не выполняет просьбы, угодник начал его шантажировать, «в одну ночь повторив приказание, сказал с гневом „если ты будешь молчать, то я уморю тебя голодом“»90. С тех пор рядовой признавался, что «начал томиться алчбой, что никогда не мог наесться досыта, хотя много употреблял пищи». Продолжалось это месяца три. Потом угодник пригрозил: «Вот я тебя избавил от глада, а теперь я тебя ослеплю», после чего Крайнев временно потерял зрение91.
Поведав о своих видениях полковому начальству, Крайнев был отправлен в Александро-Невскую лавру под наблюдение митрополита Санкт-Петербургского и Новгородского Григория (Постникова, 1784–1860) для удостоверения в его благочестии. Митрополит охарактеризовал Крайнева как человека, который «вообще ведет жизнь благочестивую и образ мыслей имеет простой и благонамеренный», на основании чего митрополит и Синод заключили, что Крайнев сделал заявление о своих видениях не «из суетных помыслов», «а единственно по чистосердечному верованию в ниспосланное ему свыше видение»92. Затем Крайнева отправили в Москву в распоряжение митрополита Филарета (Дроздова). Причиной отправки Крайнева в Москву могло быть расположение Крутицкого подворья и мощей, то есть предложение ведомству московских духовных властей заняться этим делом.
Появление Крайнева в Москве привело к распространению слухов о «явлении неизвестного подвижника». С 12 января 1859 года в течение пяти дней происходили многолюдные паломничества в Крутицкую церковь, к останкам «новообретенного угодника Федора». Обеспокоенные таким несанкционированным проявлением благочестия, московские власти должны были удалить Крайнева из Москвы. Визионера отправили в Троице-Сергиеву лавру под наблюдение настоятеля.
Почитание крутицкого святого имело предысторию. Как свидетельствует расследование, в начале XIX века было несколько случаев спонтанного проявления народного почитания неизвестного святого Федора. Но сначала несколько слов об особенностях этого московского десакрализованного пространства.
Крутицкое подворье, служившее в XVII веке резиденцией епископов Сарских и Подонских, включало в свой ансамбль палаты Крутицких митрополитов, палаты Крутицкого казенного приказа и две церкви: двухэтажный Успенский собор (1682) и церковь Воскресения (основана в XIV веке; до 1682 года называлась церковь Успения и даже служила патриаршим собором в Смутное время). На подворье провел под следствием несколько месяцев в 1666 году «раскольник» дьякон Федор Иванов, выступавший против церковных реформ патриарха Никона. Федор после краткого раскаяния в своих заблуждениях снова вступил в оппозицию правящей церкви и после ссылки и отрезания языка был отправлен в Пустозерск, где он был сожжен в срубе вместе с Аввакумом и его сподвижниками в 1682 году. В 1788 году архиерейский дом был упразднен, церковь Воскресения была закрыта, а Успенский собор стал приходским храмом. В бывших митрополичьих палатах стали размещаться военные казармы, а впоследствии – части жандармского корпуса. Несмотря на попытки князя Голицына сохранить церковь в Духовном ведомстве, по решению главнокомандующего Москвы графа Тормасова в 1816 году древняя Воскресенская церковь была сломана.
Сохранившиеся надгробия в упраздненной церкви Воскресения служили предметом любопытства московских жителей, возможно, еще со времен закрытия храма. Особенно привлекали и неофициально почитались москвичами мощи «неизвестного святого Феодора», находившиеся в разоренном храме. Так, в 1804 году к Московскому митрополиту Платону (Левшину) обратился мещанин Алексей Пуговкин (из старообрядцев), сообщавший, что два года назад он и еще трое старообрядцев исцелились от неизвестной болезни и помешательства после молитвенного обращения к святому Дмитрию Ростовскому и к захороненному на Крутицах «преподобному» Федору. Пуговкин добивался разрешения восстановить храм на Крутицах во имя Федора, а также Андреевский и Варсонофьевский монастыри, для чего просил выдать ему книгу для сбора подаяний, построить часовни по удобным местам для сбора и устроить трехдневный колокольный звон93. И хотя требования Пуговкина были оставлены без удовлетворения, слухи о мощах святого Федора быстро распространялись. Так, известно, что в 1805 году священник Успенской церкви на Крутицах отец Василий служил панихиды «по неизвестному рабу Феодору» по просьбам прихожан. К нему также обращался Пуговкин с просьбой о книге для сбора подаяний, но священник ему отказал, так как «тот казался ему помешанным»94. Почитание неизвестного святого Федора свидетельствует о том, что интерес к мощам не исчезал в народной культуре, несмотря на то что многие церковные иерархи с XVIII века уже не разделяли веру в то, что неизвестные святые могут явить себя через чудеса и видения95. Также примечательно, что в данном случае речь идет о городских жителях, а не о крестьянской среде, рассматриваемой в большинстве исследовательских работ96.
ВИЗИОНЕРСТВО В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В XIX ВЕКЕ В МИРСКОЙ И МОНАШЕСКОЙ СРЕДЕ
Для реконструкции дискуссии о деле Крайнева нам важно установить религиозный и церковно-политический контекст, в котором стали возможными и поведение Крайнева, и последующие действия церковных властей.
Вряд ли можно считать парадоксом, что если в век Просвещения интерес к видениям и пророческим снам был уделом в основном низшего класса и представителей духовенства, то в России XIX столетия толкования снов и визионерство были распространены во всех слоях общества97. Вдова полковника Агафья Мельгунова стала основательницей одного из самых известных женских монастырей в России, после того как ей явилась Богородица и сказала, что глухое провинциальное Дивеево Нижегородской провинции будет ее, Богородицы, четвертым уделом (после Грузии, Афона и Киево-Печерской лавры)98. Дворянин-послушник Дмитрий Брянчанинов писал о глубоком влиянии, которое на него оказало видение креста99. Видения монаха Авеля, предсказавшего смерть Павла и другие катаклизмы, стали частью городских легенд Москвы и Петербурга100. Европейский интерес к пророчествам и хилиастическим и апокалиптическим видениям в период Наполеоновских войн особым образом преломлялся в русском обществе с его традиционными эсхатологическими представлениями и пропагандой против Наполеона101.
- Идеал воспитания дворянства в Европе. XVII–XIX века
- Вера и личность в меняющемся обществе
- Иррациональное в русской культуре. Сборник статей
- Лаборатория понятий. Перевод и языки политики в России XVIII века: Коллективная монография
- Французский язык в России. Социальная, политическая, культурная и литературная история
- Россия в глобальном конфликте XVIII века. Семилетняя война (1756−1763) и российское общество
- Монастырь и тюрьма. Места заключения в Западной Европе и в России от Средневековья до модерна
- Рождение Российской империи. Концепции и практики политического господства в XVIII веке