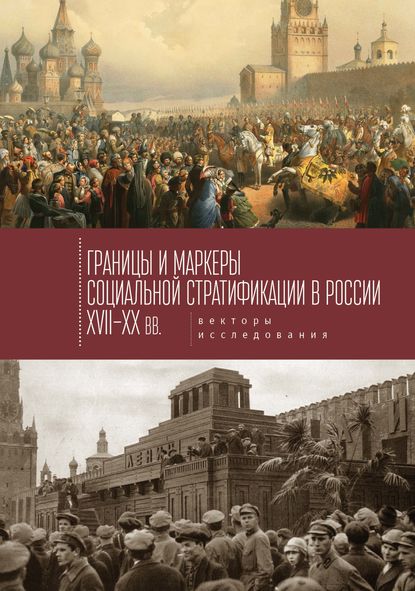Границы и маркеры социальной стратификации России XVII–XX вв. Векторы исследования
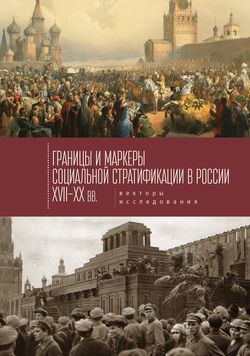
000
ОтложитьЧитал
* * *
Авторство в коллективной монографии распределилось следующим образом: В. А. Аракчеев (разд. III, гл. 1, 2), Е. В. Бородина (разд. III, гл. 1), К. Д. Бугров (разд. II, гл. 2, 4), С. В. Воробьев (разд. III, гл. 7), О. К. Ермакова (разд. I, гл. 2; разд. III, гл. 4), М. А. Киселев (разд. II, гл. 1), Н. В. Мельникова (разд. I, гл. 2; разд. III, гл. 8), Д. А. Редин (введение; разд. I, гл. 1, 2; разд. III, гл. 3; заключение); Д. О. Серов (разд. III, гл. 5), А. В. Сушков (разд. III, гл. 7), Д. В. Тимофеев (разд. I, гл. 1), Г. Н. Шумкин (разд. II, гл. 3), О. Н. Яхно (разд. III, гл. 6). Общая редакция Д. А. Редина.
Раздел I
Осмысление социального
Название предметов вначале всегда дается по сходству, молва же, перенося их другим людям, создает вследствие неведения истинного смысла другие, неправильные представления. И в дальнейшем время становится могучим творцом таких сказаний, а свидетелями тех событий, которые никогда не происходили, берет себе поэтов, в силу, конечно, права свободного творчества в их искусстве.
Прокопий Кесарийский. Война с готами
Глава 1
Адаптация социологических моделей в исторических исследованиях: «исторический поворот» в социологии
В современной отечественной и зарубежной историографии нет четкого ответа на вопрос о том, что такое «социальная история». О приблизительных границах ее проблемного поля можно составить представление, например, по рубрикации секций на проходящей каждые два года Общеевропейской конференции по социальной истории. На одной из них, в 2012 г., самостоятельными были признаны 27 направлений: труд (рабочая история); женщины и гендер; политика, гражданство и нации; этничность и миграции; культура; семья и демография; экономика; материальная и потребительская культура; социальное неравенство; здоровье и окружающая среда; социальная история криминальности («Criminal Justice»); образование и детство; элиты; сельская социальная история («Rural»); устная история; мировая история; религия; теория и историография; пространственная и цифровая история («Spatial and digitalhistory», прежде эта секция называлась «Historical GIS/History and Computing»); технология; городская социальная история («Urban»); сексуальность; Средние века; Африка; античность; Азия; Латинская Америка[8].
Впрочем, такая ситуация сложилась не сегодня. Так, например, еще в 1969 г. немецкий историк Ханс Розенберг констатировал: «Так называемая социальная история стала для многих расплывчатым собирательным понятием всего, что в исторической науке считается… нужным и прогрессивным»[9].
Очевидно, что такой всеохватывающий масштаб не только не позволяет четко определить границы социальной истории, но и чреват утратой предмета исследования. Расширение социальной истории до истории человека и его деятельности во всех сферах жизни привело к положению, когда содержательно «социальная история» практически совпала с предметным полем исторической науки в целом. П. Ю. Уваров, рассуждая на этот счет, создал яркую метафору, уподобив классическую социальную историю королю Лиру, «все раздавшему неблагодарным дочерям»[10].
Но, в сущности, произошедшее с социальной историей есть лишь частный случай эволюции всей исторической науки за последние несколько десятилетий; результат того движения от расширения «территории историка», восходящего к началу прошлого столетия, до пресловутой полидисциплинарности Новейшего времени; борьбы с «историоризирующей историей», «эрудизмом», борьбы за преодоление «корпоративной» замкнутости и ограниченности историков; результат всех тех «антропологических», «лингвистических», «культурологических» и прочих «поворотов», сформировавших «новую историческую науку» сегодняшнего дня.
Отличительная особенность, определяющая достаточно размытое понятие «новой исторической науки», отмежевывающая ее от традиционной – событийной или институциональной – исторической науки, сводится в первую очередь к определению нового проблемного поля: исследование культуры, а не структуры, отношений, а не форм (насколько это, конечно, разделимо), динамики, а не статики. Новое проблемное поле задает иные, по сравнению с прежними, цели и методы исследования. Среди всевозможных практик, применяемых в «новой исторической науке», значительное, если не доминирующее, место занимают методы микроанализа, как бы они ни назывались в соответствии с различными национальными историографическими особенностями. Появившись как результат «недоверия в отношении метарассказов»[11], как реакция «на истощение эвристического потенциала макроисторической версии социальной истории»[12], микроисторические штудии стали быстро завоевывать популярность, главным образом потому, что в результате их применения на свет появился целый ряд сочинений, которые продемонстрировали продуктивность избранного подхода, способность дать на его основе ответы на те вопросы, которые оставались неразрешимыми или вовсе не обнаруживались в рамках концептуализации исторического процесса на макроуровне. Работы, выполненные с применением микроанализа, декларировали отказ от истории-синтеза, а сам микроанализ, по словам Эдоардо Гренди, вписался «в более широкий процесс развития европейской историографии, результатом которого стало так называемое раздробление истории, возникновение “истории в осколках”»[13]. При этом микроистория как направление не формировала строгой и стройной доктрины, объединяя своих последователей скорее объектом, масштабом и целями, нежели собственной системой исторических понятий и соответствующих логических механизмов. «Вот почему, – как писал уже цитированный Э. Гренди, – так трудно обнаружить какие бы то ни было “основополагающие тексты” по микроистории и теоретического, и конкретно-исторического характера»[14]. Такое положение дел привело к мысли о невозможности самой микроистории как альтернативы макроистории. «Микроистория, – по мнению одного из наиболее ярких и парадоксальных ее критиков Н. Е. Копосова, – фактически возможна лишь постольку, поскольку она использует макроисторические понятия и, следовательно, имплицитно отсылает к макроисторической проблематике, иными словами – поскольку она является одной из исследовательских техник макроистории»[15]. Тем не менее многие историки оказались не готовы подписаться под столь суровым приговором. Просто сам факт возникновения микроистории напомнил очевидную, казалось бы, истину о невозможности осознания глобального без учета того, что оно (глобальное) всегда реализуется в индивидуальном.
Понимая ограниченность возможностей микроанализа и те опасности, которые заложены в концепте «истории в осколках», историки стали искать возможность примирения микро- и макроподходов: в конце концов и макроистория, как показал опыт развития исторической науки, оказалась в состоянии методологического кризиса, а значит, не обладала объяснительным всемогуществом и имела свои ограничения. Среди серьезных историков, реализовывавших микроисторические практики, никогда не было тех, кто в принципе отрицал необходимость синтеза или провозглашал отказ от макроисторических понятий как таковых. Напротив, «уход на микроуровень в рамках антропологической версии социальной истории изначально подразумевал последующее возвращение к генерализации на новых основаниях, хотя и с полным осознанием тех труднопреодолимых препятствий, которые встретятся на этом “обратном пути”»[16]. Таким образом, формирование микроанализа как направления исторических исследований изначально задавало проблему поиска методолого-методического компромисса, одновременно побуждая к обновлению арсенала макроисторических практик. Осмысление проблемы методологического синтеза, интеграции микро-и макроподходов, как представляется, нашло наиболее емкое и лаконичное объяснение в формулировках, предложенных Ю. Л. Бессмертным. Отталкиваясь от открытого Нильсом Бором метода сочетания некоторых форм получения информации в квантовой механике, названного им «принципом дополнительности», историк сформулировал общие принципы осмысления прошлого посредством параллельного использования разных по своей сути способов: исследования больших структур и исследования микромира (как индивидуализированного воплощения стереотипов и уникальных поведенческих феноменов). Этот принцип дополнительности, примененный к изучению социальной материи, Ю. Л. Бессмертный образно сравнил с бинокулярным восприятием мира зрительным центром человеческого мозга[17].
Думается, что с некоторых пор подобная «бинокулярность» исторического исследования не остается лишь красивой метафорой, а с той или иной степенью успеха претворяется в жизнь. При всей нынешней дискретности профессионального сообщества и методологической полифонии, представляющейся пессимистам какофонией, а оптимистам – одой радости свободному творчеству, мы наблюдаем появление значительного количества авторов, благополучно реализующих этот принцип гармонизации исследовательских практик, и еще большее количество к таковому стремящихся. В этом смысле надежда П. Ю. Уварова на то, что дочери все-таки вернут старику Лиру – социальной истории – часть имущества, похоже, оправдывается, а «сюжеты социальной истории и даже “большие нарративы” вновь возвращаются», обогащенные новыми смыслами и новыми методами[18].
Примечательно в этом отношении то, что в последнее время мы наблюдаем не только эволюцию исторического знания, его обогащение методами и подходами, присущими другим дисциплинам социально-гуманитарного круга, но и встречный процесс – влияние на них методов и подходов исторической науки. В науковедческой литературе даже появилось понятие «исторического поворота в социологии», что было немыслимо не только в начале прошлого столетия, когда зарождавшиеся социальные науки стали обживать предметные поля, еще недавно находившиеся в исключительной «юрисдикции» историков, но и позже, когда влиятельные социологические теории брали на себя смелость подлинно научного объяснения неких законов развития общества, оставляя истории, в лучшем случае, роль поставщика эмпирического «сырья».
На сегодняшний день необходимость поиска адекватного инструментария для изучения множества аспектов жизни общества в различных временных и пространственных перспективах признана не только историками, но и социологами[19]. На страницах журнала «International Sociology» Т. Кларк и С. Липсет была развернута дискуссия об адекватности использования для описания социальной реальности понятия «социальный класс» и целесообразности формулировки принципа множественности критериев для обозначения места и роли различных социальных групп. В рамках «исторического поворота в социологии» произошло критическое осмысление ограниченности изучения «стабильных структур» и, как следствие, понимание недостаточности для исследования разнонаправленных социальных изменений ряда центральных категорий, а также признание многомерности статусных характеристик различных групп[20]. В работах представителей так называемой «третьей волны американской социологии» (Р. Аминадзе, Дж. Касанова, Э. Клеменс, Б. Дилл, Д. Дж. Франк, Л. Гриффин, Дж. Хайду, Дж. Мэйер, У. Сьюэл) заметно смещение исследовательского интереса с изучения стабильных макроструктур на выявление причин, содержания и последовательностей различных по своим масштабам событий, роли культурных паттернов поведения, суммарно приводящих к важным социальным изменениям[21]. Постепенно критическое осмысление ограниченности абстрактных теоретических схем для изучения социума и невозможность учесть все многообразие разнонаправленных факторов, воздействующих на мотивацию и поведение как отдельных индивидов, так и различных социальных групп, способствовало отходу от статичной модели изучения социальных феноменов и постепенному складыванию исследовательской модели «решения задач». Основой такой модели является признание бесперспективности поиска жестких детерминант, определяющих поведение индивидов, и акцентирование внимания на процессе возникновения актуальных для человека задач, поиск вариантов решения которых происходит как в соответствии, так и вопреки групповым представлениям о месте и границах допустимого поведения в конкретный момент времени. При таком подходе взгляд на общество как иерархически организованную социальную структуру, предполагающую наличие четко обозначенных сословий или классов, далеко не всегда позволяет объяснить, а в идеале – понять, многообразие социальных групп и направленность практических действий участников социальных взаимодействий.
Таким образом, заметной тенденцией в развитии как социологии, так и собственно исторического знания является поиск методологических оснований так называемого «среднего уровня». В перспективе необходима выработка системы категорий, позволяющей, с одной стороны, описывать историческую реальность, используя аутентичные понятия, с помощью которых сами исторические персонажи определяли свое место в системе социальных взаимосвязей, а с другой – прослеживать тенденции в развитии как отдельных групп, так и общества в целом. При этом не нужно стремиться построить очередную и все объясняющую модель, а необходимо, основываясь на данных исторических источников, выявить особенности мировосприятия и стереотипы поведения множества субъектов общественных отношений, формы и результаты их взаимодействий друг с другом. С этой целью следует обратиться к широкому спектру исторических источников различной видовой принадлежности, отражающих не только стремление властных структур к социальному проектированию, но и обоснование практических действий отдельных индивидов или коллективов. Все это позволит показать, что на уровне повседневных контактов взаимодействие представителей различных социальных групп было гораздо сложнее и многообразнее, чем это предписывалось юридическими нормами или принятыми в обществе представлениями о престиже, статусе и «приличиях».
Решение данной задачи возможно только в рамках комплексного междисциплинарного подхода на основе интеграции различных теоретических моделей, созданных в рамках истории и социологии. Очевидно, что при наличии множества теорий и методологических установок, сосуществующих в поле современного социологического знания, необходимо установить ряд критериев, с помощью которых исследователь может производить отбор только тех из них, которые отвечают целям и задачам конкретно-исторических исследований. Такими критериями могут быть следующие характеристики концептуальных моделей: 1) признание многомерности социального пространства и наличия множества признаков социальной дифференциации; 2) акцентирование внимания на характере существовавших в обществе «границ» между социальными группами и возможностях «трансграничных» перемещений; 3) направленность на исследование содержания и результатов повседневных взаимодействий представителей различных социальных групп; 4) постановка вопроса о соотношении индивидуальной и групповой самоидентификации, а также формальной и неформальной идентификации (юридическая дифференциация и внутригрупповые представления соответственно).
1.1. Историческая социология в поисках методологических оснований теории «среднего уровня»
С учетом обозначенных критериев из всего многообразия концептуальных конструкций изучения общества определенный интерес для историка, исследующего различные аспекты социального в исторической ретроспективе, представляют несколько теоретических моделей, наиболее продуктивных, на наш взгляд, с точки зрения их применения в современных исследованиях по социальной истории. Последовательно рассматривая каждую такую социологическую модель, историку необходимо сконцентрировать внимание на ряде ключевых вопросов:
– каким образом может быть представлено социальное устройство в пространственно-временном измерении, вне зависимости от его длительности – на протяжении жизни отдельного индивида или нескольких поколений;
– что определяет границы свободы индивида и характер структурного принуждения на различных уровнях социальной организации;
– возможно ли адекватно описать процесс формирования социальной идентичности не только на формально-правовом, но и эмоционально-коммуникативном уровне;
– какое влияние оказывают процессы социального подражания, адаптации и отторжения на характер межгруппового взаимодействия развитие общества в целом.
В качестве базовых концептуальных моделей изучения социального, содержащих потенциально применимые в историческом исследовании подходы, мы предлагаем сопоставить «фигуративную социологию» Норберта Элиаса, «теорию структурации» Энтони Гидденса, теорию «интеракционных ритуалов» Рэндалла Коллинза, «теорию подражания» французского социолога Габриеля Тарда.
Одним из примеров сближения исследовательского поля историков и социологов может служить «фигуративная социология» Норберта Элиаса (1897–1990)[22]. Еще в конце 1930-х гг. он писал о необходимости поиска новой исследовательской модели социальных процессов, которая не сводились бы ни к структуралистским схемам, рассматривавшим поведение индивида как производное от внешних условий, ни к крайне индивидуалистическим теориям, провозглашавшим доминирование роли субъективного фактора.
В предложенной Н. Элиасом модели «социум» не представляется чем-то заранее предопределенным, состоящим из статичных единиц, а рассматривается как множество динамично развивающихся во времени и пространстве взаимодействий. При таком понимании социальная реальность, по выражению Н. Элиаса, больше похожа на «танцплощадку», на которой, учитывая перемещения других людей, взаимодействуют индивиды. Используя метафору «танца» и командной «игры», он утверждал, что социальные процессы не обусловлены каким-то одним фактором, а разворачиваются на нескольких, имеющих сетевую структуру уровнях взаимодействия индивидов. В работе «О процессе цивилизации» он подчеркивал: «…люди находятся в сети взаимозависимостей, которые прочно привязывают их друг к другу»[23]. Именно сетевой характер человеческих взаимодействий, проявляющийся в том, что каждый индивид испытывает определенное влияние со стороны других индивидов и одновременно сам оказывает влияние на тех, с кем он вступает во взаимодействие, составляет сущность человеческого общества.
Для обозначения различных «форм связи, ориентированных друг на друга и взаимозависимых людей», Н. Элиас предложил термин «фигурация». Аргументируя целесообразность его использования, он писал: «С его помощью можно ослабить социальное принуждение думать и говорить так, будто “индивид” и “общество” есть две различные и, более того, антагонистические фигуры»[24]; «Оно лучше и без всяких двусмысленностей выражает то, что “общество” не является ни абстракцией, полученной от свойств каких-то внеобщественных индивидов, ни системой или “целостностью”, существующей где-то по ту сторону индивидов. Речь идет о сети взаимозависимостей, сплетенной самими индивидами»[25]. Понятие «фигурация», по мысли автора, применимо и при изучении малых групп, и в отношении «обществ, состоящих из тысяч или миллионов взаимозависимых индивидов». В качестве примера Н. Элиас приводит, с одной стороны, малые социальные группы, составляющие «относительно обозримые фигурации» (учитель и ученики в классе, врач и пациенты в группе терапии и т. п.), а с другой – «комплексные фигурации», в которых сети взаимозависимостей более сложные и масштабные (жители деревни, большого города)[26].
Взгляд на общество как на совокупность одновременно сосуществующих и взаимодействующих друг с другом «фигураций» делает бесперспективным использование категорий макросоциологии. Понятия «социальный институт» или «класс» могут быть удобны для построения масштабных теорий и концепций, но они не отражают всего спектра сложных социальных взаимодействий индивидов. Однако это не означает отказа Н. Элиаса от выявления общих тенденций развития социальных процессов. Напротив, фигуративный подход, наряду с исследованиями на уровне повседневных практик, позволяет изучать во многом абстрактные, с точки зрения отдельного индивида, но реально существующие и оказывающие непосредственное влияние на его жизнь структуры. Одной из таких организационных структур является, например, «государство», возникновение которого Н. Элиас рассматривал как процесс формирования «фигурации, образуемой из множества относительно малых общественных объединений, свободно конкурирующих друг с другом»[27].
В общем виде различные по числу участников и характеру взаимодействий локальные «фигурации» лишь часть общества, которое само является большей по масштабу, сложно организованной и внутренне гетерогенной «фигурацией». Таким образом, концептуальная модель Н. Элиаса – вариант снятия противоречия между макро- и микроуровнями при изучении социальных процессов. При этом автор, отвергая дедуктивную логику построения теоретических моделей, основные положения фигурационного подхода сформулировал на основе конкретно-исторического исследования изменений в сознании и поведении индивидов в странах Западной Европы при переходе от Средневековья к Новому времени[28].
Трактовка общества как сложной сети взаимодействий субъектов становится одной из заметных тенденций в социологии последней трети ХХ – начала ХХI в. Подтверждением интереса социологов к данной проблематике являются работы английского социолога Энтони Гидденса, разработавшего в середине 1980-х гг. «теорию структурации». Пытаясь создать теорию «среднего уровня», он предложил переосмыслить противостояние макро- и микроуровней «…с позиций того, каким образом взаимодействие… “лицом к лицу” структурно встроено в систему обширных пространственно-временных институциональных образований»[29].
Провозглашая практику взаимодействия индивидов ключевым феноменом для понимания природы социального, Э. Гидденс констатировал «дуальность» социальной структуры (Duality of structure), которая проявляется следующим образом: структуры делают возможным социальное действие, а социальное действие формирует структуры[30]. В такой модели «структуральные свойства социальных систем не существуют вне практических действий», а сама структура выступает как «посредник и как продукт поведения, которое она непрерывно организует»[31]. Именно поэтому, по мнению Э. Гидденса, исследование социальных процессов возможно посредством изучения разнообразных практик, содержание которых не ограничено только поведенческими стратегиями, имеющими всегда характер осознанного целенаправленного выбора, а включает в себя и нерациональные действия, совершенные в результате недостаточной информированности индивида или непредвиденного стечения обстоятельств. В данном контексте практика – это совокупность осознанных и неосознанных принципов, организующих поведение индивидов во времени и пространстве. Поэтому исследовать необходимо не столько материальные основания социальной дифференциации, сколько поведение акторов социальных взаимодействий, их представления об окружающем пространстве и то, что они считали нужным знать для свободной ориентации в потоке повседневной социальной жизни[32].
Акцентирование внимания на различных «феноменах, наделенных смысловым содержанием», по мнению Э. Гидденса, необходимо, так как любые трансформации в обществе связаны с изменениями характера взаимодействия людей, в процессе которых и образуются социальные структуры, а следовательно, «устройство общественных институтов можно осмыслить, поняв, каким образом различные социальные деятельности “растягиваются” в широком пространственно-временном диапазоне»[33].
В данном контексте обращение к ключевым для социальной теории понятиям «время» и «пространство» позволило автору утверждать, что «историческое исследование есть исследование социальное, и наоборот», а «история есть структурация событий во времени и в пространстве путем непрерывного взаимодействия деятельности и структуры»[34].
Подобное «прочтение» социальных процессов может быть полезно историку, так как оно позволяет рассматривать активно действующую личность не только как часть определенной социальной группы, но и как субъекта, соорганизующего окружающее социальное пространство в соответствии с его положением и возможностями. Однако при этом важно четко понимать, что представляла собой социальная структура в определенный исторический период и каким образом исследователь может зафиксировать ее основные характеристики с целью последующего изучения вопросов о самоидентификации и групповой идентификации индивида, границах и маркерах социальной дифференциации, существовавших ограничениях и стимулах тех или иных практических действий.
При всей абстрактности утверждения Э. Гидденса о природе социальной структуры, которая выступает как «…свойство социальных систем, “заключенное” в практиках, регулярно воспроизводимых в пространстве и времени»[35], она может быть описана и посредством вполне реальных характеристик. Любая социальная структура, по мысли автора, включает в себя «правила» и «ресурсы», рекурсивно вовлеченные в систему социального воспроизводства[36]. Содержательно «правила» представлены формально определенными нормами (например, законодательными актами) и сложившимися представлениями о значимости определенных моделей поведения, а ресурсы – способностью оказывать властное воздействие и распределять различные материальные блага. Наличие такого рода «правил» и «ресурсов» упорядочивает социальные системы «по вертикали и горизонтали»[37].
В общем виде предлагаемая модель изучения подразумевает комплексное рассмотрение поведенческих практик в четко определенном пространственно-временном контексте. Исходя из принципа контекстуальности (Contextuality) при исследовании социальных взаимодействий, необходимо выявить: а) «пространственно-временные границы» взаимодействия (локализация и изменение обстоятельств места и времени)[38]; б) эффект «соприсутствия акторов», т. е. особенности взаимовлияния одновременно присутствующих субъектов в процессе коммуникации между ними; в) осведомленность акторов социальных взаимодействий (личный опыт, знания, слухи и т. п.) о правилах и возможных последствиях своих действий[39].
В конкретно-историческом исследовании акцентирование внимания на «соприсутствии» других акторов, личном опыте и знаниях о поощряемых и запрещенных моделях поведения, содержании и санкциях за нарушение существующих запретов, а также осознании неравенства индексов социальной позиции представителями различных групп является основополагающим условием для постановки вопроса о личной самоидентификации и групповой идентичности людей изучаемого времени.
В теории структурации социальная идентичность имеет двойственную природу. С одной стороны, она непосредственно ассоциируется с нормативными правами, обязанностями и санкциями, которые формируют роли, функционирующие в пределах тех или иных коллективов, а с другой – проявляется посредством практических действий человека, которые и являются «маркерами» его «позиционирования» в обществе[40]. По мнению Э. Гидденса, «позиционирование» индивида может иметь несколько масштабов одновременно: 1) относительно других людей в условиях непосредственного «соприсутствия»; 2) «относительно потока повседневности», т. е. в рамках привычных и неоднократно повторяющихся контактных взаимодействий; 3) «относительно течения собственной жизни» и произошедших изменений статусных характеристик; 4) относительно «сверхиндивидуальной структуры социальных образований», т. е. в результате сопоставления себя как члена какой-либо социальной группы с другими группами и коллективами. Именно на этом уровне у индивида может возникать чувство групповой идентичности. При этом, по словам Э. Гидденса, «подобные чувства обнаруживаются на уровне практического и дискурсивного сознания и не предполагают “единодушия во взглядах” (“консенсуса ценностей”)». Более того, «индивиды могут осознавать свою принадлежность к определенной общности, не будучи уверенными, что это правильно и справедливо»[41].
Таким образом, социальная идентичность возникает на основе близости формально определенных прав и обязанностей, но не предполагает общности мировоззрения и позиций по различным вопросам общественной жизни. Для историка данная трактовка понятия «идентичность» позволяет конструировать более сложную модель социального устройства, нежели классовая или сословная парадигма. Близость, но не полная тождественность нормативно-правового статуса и необязательность «единодушия во взглядах» – все это, в совокупности с направленностью практических действий исторического персонажа, может стать методологическим основанием для объяснения противоречий и конфликтов, возникавших внутри одной социальной группы. С этих позиций тезис об отсутствии внутригруппового «единодушия» является интересным для историка, сталкивающегося в исследовании не только с множественной фрагментацией мнений и позиций по какому-либо вопросу, но и негативными оценками индивидом роли, качеств и способностей определенной части общей с ним социальной группы. Используя данный подход, возможно изучение «расколотости», или множественной дифференциации, социальной идентичности внутри, например, российского дворянства и крестьянства.
Еще один важный аспект исследования социальных процессов, представленный в теории структурации Э. Гидденса, – проблема соотношения свободы человека в обществе и силы так называемого «структурного принуждения». Руководствуясь обозначенным ранее принципом «дуальности» («двуединства»), Э. Гидденс подчеркивал: «Структурные ограничения не действуют независимо от мотивов и соображений субъектов деятельности, лежащих в основе того, что они делают. Их нельзя уподобить последствиям землетрясения, стирающего с лица земли города и лишающего жизни их население… Единственным подвижным объектом системы социальных отношений являются индивидуальные субъекты деятельности, намеренно или нет использующие ресурсы»[42]. В данном контексте «структура всегда как ограничивает, так и создает возможности для действия, и это происходит в силу объективных отношений между структурой и деятельностью (деятельностью и властью)»[43].
В общем виде, поскольку социальная структура есть одновременно и результат, и условие практических взаимодействий акторов, «структурное принуждение» осуществляется в результате деятельности индивидов в рамках тех норм, правил и ресурсов, которыми они обладают. С этих позиций, продолжая логику автора, можно утверждать, например, что государство не является неким абстрактно существующим субъектом, а действует только через конкретных людей, которые посредством нормативно-правовых актов создают границы свободы человека в обществе и осуществляют контроль за их исполнением. При этом сами «контролеры» также вынуждены подчиняться системе норм и правил, регламентирующих их поведение.