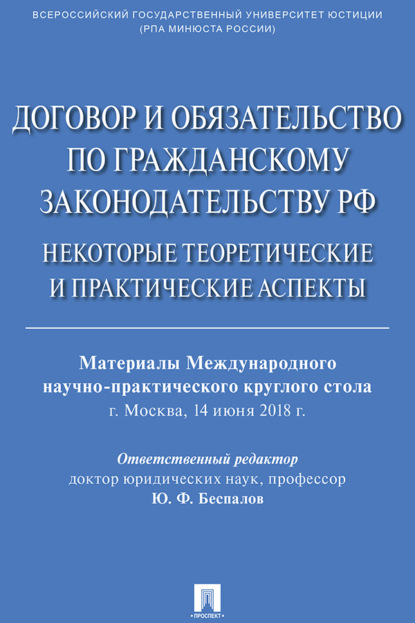Договор и обязательство по гражданскому законодательству РФ. Некоторые теоретические и практические аспекты
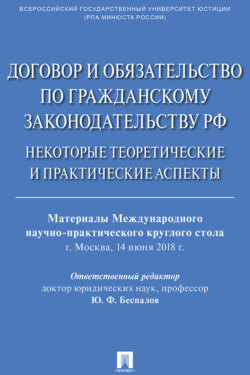
000
ОтложитьЧитал
3. Особенности договоров с участием несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы, связанные с заключением договоров несовершеннолетними лицами в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, в том числе предоставления согласия их родителей, усыновителей или попечителей, а также ответственностью несовершеннолетних контрагентов в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими договорных обязательств, на основе чего формулируются предложения о внесении отдельных изменений и дополнений в ст. 26 ГК РФ.
Ключевые слова: несовершеннолетние в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет; родители, усыновители, попечители; сделки, договоры и их заключение; согласие родителей; ответственность по договорам.
Mikhailova Irina Alexandrovna,
Professor of the Department of Civil and Entrepreneurial Law
of the Russian State Academy of Intellectual Property,
Doctor of Law, Professor.
3. The specifics of contracts involving minors from the age of fourteen to eighteen
Annotation. The article deals with theoretical and practical issues related to the conclusion of contracts by minors aged between fourteen and eighteen years, including the consent of their parents, adoptive parents or guardians, as well as the responsibility of underage contractors in the event of non-fulfillment or improper performance of contractual obligations by them on the basis of which proposals are made to introduce certain amendments and additions to Art. 26 of the Civil Code of the Russian Federation.
Keywords: minors from the age of sixteen to eighteen; parents, adoptive parents, trustees; transactions, contracts and their conclusion; parental consent; liability under contracts.
Действующее законодательство предусматривает ряд особенностей и ограничений в сфере заключения договоров несовершеннолетними лицами в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. Эти особенности нуждаются в анализе и обсуждении, поскольку в настоящее время представители данной возрастной группы являются весьма активными потребителями товаров, работ и услуг. Помимо сделок, самостоятельное совершение которых разрешено малолетним детям (п. 2 ст. 28 ГК РФ), такие несовершеннолетние вправе также: 1) самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами; 2) осуществлять права авторов произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата интеллектуальной деятельности; 3) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими (п. 2 ст. 26 ГК РФ).
Однако все остальные договоры, заключаемые несовершеннолетними лицами, подлежат обязательному одобрению их родителями, усыновителями или попечителями, согласие которых на заключаемый договор должно быть представлено в письменной форме (п. 1 ст. 26 ГК РФ), причем в соответствии с п. 2 ст. 157.1, введенной в ГК РФ Федеральным законом от 07.05.2013 № 100-ФЗ, лица, согласие которых требуется для совершения сделки, должны сообщить о своем согласии или отказе в нем «в разумный срок после получения обращения лица, запросившего согласие».
Это положение, явившееся одной из важных новелл, внесенных в положение о сделках, применительно к рассматриваемым договорам вызывает вопрос о том, кто должен запрашивать такое согласие: несовершеннолетний гражданин в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет или его контрагент по заключаемому договору. Что касается несовершеннолетнего лица, то (в большинстве случаев) совершение желаемого им договора становится возможным благодаря тому, что родители или заменяющие их лица предоставили необходимые для этого денежные средства, то есть фактически дали свое согласие на заключение сыном или дочерью соответствующего договора, поэтому осознание ими необходимости обращения к родителям с просьбой выразить их согласие в письменной форме носит чисто гипотетический характер, как и обращение с соответствующей просьбой к родителям несовершеннолетних клиентов тех организаций, которые продают им товары, оказывают услуги или выполняют те или иные виды работ.
Рассмотренное положение является не единственной коллизией в рассматриваемой сфере, нуждающейся в рассмотрении и разрешении. Как известно, требование о согласовании с родителями или заменяющими их лицами договоров, заключаемых несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, имеет давнюю правовую историю, уходящую корнями в положения римского частного права, но оно не учитывает современные реалии, в первую очередь – все более широкое распространение цифровых технологий, позволяющих заключать договоры в электронной форме, которыми несовершеннолетние нередко владеют намного лучше представителей старших возрастных групп, а также стремительное развитие фэшн-индустрии и зрелищных услуг, рассчитанных преимущественно на молодежную аудиторию.
Эти факторы, характерные для гражданского оборота в большинстве современных государств, обусловливают необходимость нового подхода к обсуждаемому положению. Так, во-первых, вызывает сомнение целесообразность сохранения письменной формы согласия родителей на сделку несовершеннолетнего безотносительно ее суммы и характера. Между тем, в новой редакции подп. 2 п. 1 ст. 161 ГК РФ предусмотрено, что в простой письменной форме должны совершаться сделки граждан на сумму, превышающую десять тысяч рублей, и только в случаях, предусмотренных законом – независимо от суммы сделок.
Необходимость соотношения формы договора, заключаемого несовершеннолетним, с формой согласия его родителей уже отмечалась в литературе: «В случае, когда сделка несовершеннолетнего может быть совершена только в письменной нотариальной форме, согласие законных представителей также должно быть выражено в письменной нотариальной форме». С этим мнением следует полностью согласиться и предложить ограничить необходимость письменного согласования только тех договоров несовершеннолетних лиц, которые требуют письменного оформления, то есть договоров на сумму свыше десяти тысяч рублей или иных сделок, предусмотренных законом.
Во-вторых, требует своего решения вопрос о необходимости согласия на заключение несовершеннолетним того или иного договора обоих родителей или заменяющих их лиц. В современной литературе многие ученые отстаивают мнение о том, что в таких ситуациях вполне достаточно согласия одного из них при условии, что относительно сделки отсутствуют письменные возражения другого родителя. Так, например, Н. М. Савельева полагает, что согласие обоих родителей должно быть получено лишь тогда, когда, во-первых, ГК РФ прямо указывает на это (напр., абз. 2 п. 1 ст. 27) и, во-вторых, когда существует угроза нарушения прав и интересов несовершеннолетнего лица (например, при приватизации жилого помещения без участия несовершеннолетнего).
Приведенное положение было подвергнуто резкой критике, хотя оно представляется разумным и обоснованным, поскольку в настоящее время количество детей, находящихся на попечении одного из родителей, беспрецедентно велико. Как было отмечено в проекте Концепции государственной семейной политики на период до 2025 г., «каждый 3-й ребенок проживает в неполной семье, 88 % из них это материнские семьи. Семья без отца становится нормой». В таких условиях обращение к отсутствующему отцу несовершеннолетнего лица с просьбой дать согласие на заключаемый им договор является, как правило, практически неосуществимым.
При решении рассматриваемого вопроса важное значение имеет и тот факт, что указание на одного из родителей предусмотрено применительно к гораздо более важной сфере жизни несовершеннолетних лиц: в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (далее – Закон об основах охраны здоровья), информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и право на отказ от медицинского вмешательства в отношении несовершеннолетнего дает один из родителей или законный представитель такого лица (п. 2–3 ст. 20).
Все выше сказанное позволяет предложить внести изменения в п.1 ст. 26 ГК РФ, указав в нем, что для заключения договора несовершеннолетним в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет достаточно согласия одного из родителей, усыновителей или попечителя.
В современной литературе не достигнуто соглашения и по поводу теоретической характеристики рассматриваемого родительского правомочия. Некоторые ученые предлагают рассматривать такое согласие как самостоятельную сделку, другие – как одно из условий действительности сделок, третьи – как «способ «допуска» ребенка к гражданскому обороту». Весьма интересной представляется теория «юридического соучастия» лица, совершающего действия, необходимые для заключения сделки несовершеннолетним ребенком, рассматривающая таких лиц в качестве его юридических соучастников.
Однако, гораздо более важным представляется вопрос о том, какое практическое значение имеет согласие родителей на договор, заключаемый их несовершеннолетним ребенком, для второй стороны – его контрагента, то есть могут ли лица, давшие согласие на заключение договора, привлекаться к возмещению убытков, возникших в результате его неисполнения или ненадлежащего исполнения. Как известно, ГК РФ устанавливает самостоятельную имущественную ответственность несовершеннолетних лиц по совершаемым им сделкам (п. 3 ст. 26 ГК РФ), но справедливость такого подхода вызывает сомнения, поскольку, во-первых, теряется смысл дифференциации договоров, совершаемых несовершеннолетними самостоятельно, и договоров, совершаемых с согласия их законных представителей, и, во-вторых, игнорируются законные интересы контрагентов таких лиц, которые оказываются юридически не защищенными в случае отсутствия у несовершеннолетнего лица имущества, достаточного для возмещения причиненных ими убытков.
Попытка разрешить отмеченную коллизию была предпринята в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» от 29.09.1994, в котором было отмечено, что «наличие письменного согласия родителей, усыновителей или попечителя на заключение несовершеннолетним договора возмездного оказания услуг не является основанием для возложения на этих лиц имущественной ответственности за неисполнение договора несовершеннолетним, за исключением случаев, когда в соответствии со ст. 361 ГК РФ был заключен договор поручительства. Вместе с тем родители, усыновители или попечитель могут нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора в случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда» (п. 28).
Приведенное положение было направлено на защиту прав и интересов контрагентов несовершеннолетних лиц, однако в настоящее время данное постановление утратило юридическую силу в связи с принятием 28.06.2012 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», в котором соответствующее правило своего закрепления не нашло, и вопрос об ответственности родителей по санкционированным ими договорам их несовершеннолетних детей вновь остался открытым.
Представляется, что обсуждаемую проблему можно решить путем установления в законе субсидиарной ответственности родителей, санкционировавших заключение договора несовершеннолетнего ребенка, в случае его неисполнения или ненадлежащего исполнения. С целью устранения отмеченного пробела и повышения стабильности гражданского оборота представляется целесообразным внести дополнение в п. 3 ст. 26 ГК РФ и изложить его в следующей редакции: «Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи. По сделкам, совершаемым с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителя, названные лица несут субсидиарную ответственность в случае отсутствия у несовершеннолетнего доходов или иного имущества, достаточных для возмещения причиненных убытков».
Ранее были рассмотрены частные вопросы, возникающие при заключении договоров несовершеннолетними лицами в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, однако еще более важным представляется разрешение принципиального вопроса о том, насколько обосновано и разумно требование согласования всех (кроме разрешенных законом) сделок всех несовершеннолетних, относящихся к данной возрастной группе. С одной стороны, признание законодателем явно недостаточной для заключения гражданско-правовых договоров зрелости несовершеннолетних лиц основано на объективных медико-психологических характеристиках возрастного становления личности, но, с другой, закрепление в п. 2 ст. 26 ГК РФ права несовершеннолетних самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами, осуществлять права авторов результатов интеллектуальной деятельности, вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими свидетельствует о признании достаточно высокого уровня их интеллектуального и социального развития и обладания определенными практическими навыками, позволяющими принимать активное участие в гражданском обороте. Лица, достигшие возраста четырнадцати лет, рассматриваются законодателем как потенциальные творцы, как банковские клиенты, и, наконец, как субъекты деятельности, приносящей доход, которым они могут распоряжаться по своему усмотрению.
Таким образом, весьма важные сферы жизни всецело отданы на волеизъявление несовершеннолетних граждан (даже с учетом возможности ограничения соответствующих правомочий, предусмотренной п. 4 ст. 26), но применительно к возможности заключения ими договоров подход законодателя кардинально меняется. Установление жесткого требования о необходимости согласования несовершеннолетними лицами заключаемых ими сделок направлено, несомненно, на охрану их субъективных прав и интересов, однако эффективность реализации рассматриваемого законодательного императива является довольно низкой: во-первых, в розничной купле-продаже, в организациях общественного питания и в сфере культурно-зрелищных мероприятий сделки несовершеннолетних, как правило, совершаются без выяснения вопроса о наличии у них письменного разрешения родителей, и, во-вторых, требования родителей о признании таких сделок недействительными почти не встречаются в судебной практике.
Во всех развитых странах мира представители данной возрастной группы образуют самостоятельный и весьма активный потребительский сегмент, в расчете на который действует целая фэшн – индустрия и осуществляется творчество многих представителей шоу-бизнеса. Заключаемые несовершеннолетними лицами договоры далеко выходят за границы так называемых мелких бытовых сделок: нередко они самостоятельно приобретают обувь, одежду, спортивные принадлежности, телефоны, айфоны, смартфоны и т. д. Не менее активны несовершеннолетние и на рынке потребительских услуг: они являются посетителями кафе, клубов, дискотек, концертов поп-звезд и спортивных состязаний, становятся клиентами фитнес-клубов и косметических салонов, отправляются в поездки и на экскурсии, то есть совершают многочисленные и многообразные гражданско-правовые действия, как правило, на деньги, предоставленные родителями или усыновителями, но (тоже, как правило) без предварительного или хотя бы последующего письменного согласия названных лиц.
Мнение о том, что договоры розничной купли – продажи могут совершаться с 16-летнего возраста самостоятельно, без согласия законных представителей, впервые было высказано еще в 60-х годах прошлого века. когда гражданско-правовая активность лиц, относящихся к этой возрастной группе, была не сопоставима с современными реалиями. Представляется, что это предложение, подвергнутое критике как «свидетельствующее о попытке автора расширить объем дееспособности несовершеннолетних», давно заслуживает признания и реализации, особенно если сопоставить законодательный подход в этой сфере с позицией относительно возможности совершения такими лицами гораздо более важных действий, от которых непосредственно зависит их здоровье или даже жизнь.
Так, Закон об основах охраны здоровья граждан (п. 2 ст. 54) предусматривает, что несовершеннолетние, больные наркоманией, в возрасте старше шестнадцати лет, и иные несовершеннолетние в возрасте старше пятнадцати лет имеют право на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от него (за исключением случаев, предусмотренных в п. 9 ст. 20). Реализация несовершеннолетними лицами названного правомочия приобрела особенно широкое распространение в сфере прерывания беременности, относительно которого родители не только не дают соответствующего согласия, но в большинстве случаев вообще не имеют сведений о нем.
Родительское согласие не требуется и для совершения детьми еще одного чрезвычайно важного юридического действия – заключения брака. В соответствии с п. 2 ст. 13 Семейного кодекса Российской Федерации, «при наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет». Приведенные положения действующего законодательства убедительно свидетельствуют о том, что среди несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет выделяется группа субъектов, достигших шестнадцатилетнего рубежа. Применительно к наиболее важным параметрам жизни лиц, достигших шестнадцати лет, законодатель фактически признает «право отдельной человеческой личности», устанавливая «сферу ее свободы и самоопределения»: они имеют право работать по трудовому договору, в том числе и по контракту, или (хотя и с согласия родителей или заменяющих их лиц) заниматься предпринимательской деятельностью и даже могут приобрести полную дееспособность (ст. 27 ГК РФ).
Настало время сделать следующий шаг, расширив сферу «свободы и самоопределения» несовершеннолетних, достигших возраста шестнадцати лет, путем внесения в ст. 26 ГК РФ пункта 5, устанавливающего их право самостоятельно заключать договоры в сфере розничной купли-продажи, общественного питания и массово-зрелищных мероприятий, что будет в полной мере соответствовать не только приведенным положениям действующего законодательства, но и практике, сложившейся в современном гражданском обороте Российской Федерации.
Список литературы
1. Андреев Е. Н. Правоспособность и дееспособность несовершеннолетних по советскому гражданскому праву: автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1972.
2. Борисов А. Б. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части первой, части второй, части третьей. Части четвертой. Новая ред. ГК РФ с фундаментальными изменениями (постатейный). 14-е изд., перераб. и доп. М.: Книжный мир, 2014.
3. Карпычев М. В. Проблемы гражданско-правового регулирования представительства в коммерческих отношениях: автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2002.
4. Кузнецова Л. Г., Шевчено Я. Н. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних. М.: Юрид. лит., 1968.
5. Михайлова И. А. Согласование сделок несовершеннолетних лиц: практические и теоретические проблемы // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 1. С. 8–13.
6. Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут (в серии «Классика российской цивилистики»), 1998.
7. Савельева Н. М. Правовое положение ребенка в Российской Федерации: гражданско-правовые аспекты: дис. канд. юрид. наук. Белгород, 2004.
8. Тарасова А. Е. Правосубъектность граждан. Особенности правосубъектности несовершеннолетних, их проявления в гражданских правоотношениях. М.: Волтерс Клувер, 2008.
9. Усманов О. Договор розничной купли-продажи и охрана прав покупателей. Душанбе, 1962.
Долинская Владимира Владимировна[40]
4. Расширение круга организационных договоров в современном гражданском праве
Аннотация. Дан ретроспективный обзор выделения в предмете гражданско-правового регулирования организационных отношений. Выявлены сущностные характеристики и виды организационных договоров.
Выделены отличия договора инвестиционного товарищества от родового понятия – договора простого товарищества. Рассмотрены виды договоров о создании юридического лица. Исследован корпоративный договор, его виды и смежные с ним соглашения.
Названы проблемы рамочного и опционного договоров. Раскрыта природа соглашений о порядке ведения переговоров. Предложено направление совершенствования законодательства об организационных отношениях.
Ключевые слова: договор инвестиционного товарищества; договор о создании юридического лица; договоры о совместной деятельности; корпоративный договор; опционный договор; организационные договоры; организационные отношения; рамочный договор; соглашение о порядке ведения переговоров
Dolinskaya Vladimirа Vladimirovna,
Doctor of Law, Professor,
Professor of the Department of Civil Law
of the Moscow State Law University
named after O. E. Kutafina (MGYUA),
a member of the Scientific Advisory Council
under the Supreme Court of the Russian Federation.
4. Expansion of the range of organizational agreements in modern civil law
Annotation. A retrospective review of the selection in the subject of civil-legal regulation of organizational relations is given. The essential characteristics and types of organizational contracts are revealed.
The differences between the investment partnership agreement and the generic concept – the simple partnership agreement are identified. The types of contracts on the establishment of a legal entity. The corporate agreement, its types and the agreements connected with it are investigated.
The problems of framework and option contracts are mentioned. The nature of agreements on the procedure of negotiations is revealed. The direction of improvement of the legislation on organizational relations is offered.
Keywords: investment partnership agreement; agreement on the establishment of a legal entity; joint activity agreements; corporate contract; the option contract; organizational contracts; organization relationship; framework contract; the agreement on the modalities for negotiations
Одним из крупных блоков проходящей в начале XXI в. реформы гражданского законодательства является развитие договорного права
В результате осуществлен больший охват сферы договорных отношений, во-первых, за счет регулирования новых отношений, во-вторых, за счет детализации регулирования уже существовавших отношений.
В этом свете представляется интересным взаимодействие организационных отношений и договорного права.
В литературе неоднократно отмечалось существование самостоятельных гражданско-правовых организационных отношений.
В большинстве случаев авторы опираются на позицию О. А. Красавчикова, который в середине 60-х гг. XX в. высказал первые соображения об относимости к предмету гражданско-правового регулирования организационных отношений, построенных на началах равенства и координации. «Они направлены на упорядочение (нормализацию) иных отношений, действий участников иных, в частности, имущественных социальных связей. В некоторых случаях организационные правоотношения могут иметь своей целью формирование определенного социального образования (например, отношения, складывающиеся в процессе создания кооперативной организации». Они, с одной стороны, включались в число неимущественных отношений, а с другой выделялись наряду с ними и имущественными отношениями. В любом случае они связывались с имущественными, подчеркивалась их служебная роль для последних: либо происходит формирование имущественных отношений, либо организационные отношения являются стороной имущественных.
В связи с различным социальным содержанием проф. Красавчиков выделял, как минимум, четыре группы организационных правоотношений:
а) организационно-предпосылочные – в результате становления и реализации которых происходит завязка, а в определенных случаях и последующее развитие имущественных отношений (обязательства заключить договор – ст. 429 ГК);
б) делегирующие – в результате их реализации происходит наделение определенными полномочиями одних лиц по осуществлению известного рода действий от имени других, т. е. делегирование полномочий (выдача доверенности – ст. 57 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО»), избрание участников органа управления – п. 1 ст. 66 ФЗ «Об АО»);
в) контрольные отношения – содержащиеся в них права и соответствующие обязанности дают возможность одному субъекту гражданского права контролировать действия другого, состоящего с первым в определенном гражданском правоотношении (возможность основного хозяйственного общества в силу преобладающего участия в уставном капитале дочернего, в соответствии с заключенным между ними договором или иным образом определять решения дочернего общества – ст. 6 ФЗ «Об АО»);
г) информационные отношения – в силу которых стороны имущественного или личного неимущественного отношения обязаны обмениваться определенного рода информацией (доведение сообщения о проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, предоставление информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания акционеров – ст. 52 ФЗ «Об АО»).
Эта концепция имела как своих сторонников, так и противников. а также тех, кто занимал компромиссную позицию. Ее жизнеспособность подтверждают приведенные нами примеры из современного законодательства.
Нами предложено и обосновано выделение в предмете частного, в том числе гражданского права организационно-имущественных или статутных отношений.
В качестве организационных квалифицировали отношения представительства. В. А. Давыдов выявляет организационные правоотношения среди правоотношений, возникающих между хозяйственным обществом и его участниками. К. А. Кирсанов, трактуя п. 1 ст. 67 ГК в целях своего диссертационного исследования, выводит из его положений деление прав участников хозяйственного товарищества или общества на имущественные (право участвовать в распределении прибыли, на получение дивидендов, получение в случае ликвидации юридического лица части имущества или его стоимости) и неимущественные организационные (право на участие в управлении делами юридического лица, право на получение информации о деятельности юридического лица).
Организационные договоры, входящие в систему обязательств по совместной деятельности, являются исключительными в своем роде. Их нельзя отнести к договорным обязательствам ни по передаче имущества в право собственности или иное вещное право, ни по выполнению работ, ни по оказанию услуг, но с ними со всеми они, однако, могут быть связаны.
Их характеризуют следующие черты:
1) общая цель деятельности, ради достижения которой участники объединяют свои усилия посредством заключения договора;
2) многосторонность, так как каждый участник находится во взаимоотношениях со всеми другими, обладает правами и обязанностями (в отличие от односторонних сделок), равными по содержанию и единой направленности (в отличие от двусторонних сделок); участники не противостоят друг другу как кредитор и должник, а преследуют общие цели;
3) товарно-денежный характер;
4) организационный характер (содержание обязательств составляет не столько обмен товарами, работами, услугами, сколько особая организация отношений, позволяющая участникам обязательства совместно выступать в гражданском обороте);
5) субсидиарный имущественный характер (вклады участников – не цель договора, а средство – необходимая имущественная база для совместной деятельности);
6) консенсуальность;
7) возмездность, так как:
а) для ведения совместной деятельности каждый из участников должен сделать соответствующий имущественный вклад;
б) участник, выполнивший свои обязанности по совместной деятельности, вправе пользоваться общим имуществом, результатом совместной деятельности для удовлетворения своих интересов соответственно внесенному вкладу;
8) количество участников не может быть менее двух;
9) при участии юридических лиц совместная деятельность должна соответствовать целям и задачам деятельности юридических лиц.
Весьма условно организационные договоры можно разделить на договоры в сфере именно обязательственных отношений и в сфере статутных отношений (в результате заключения и исполнения которых возникает новый субъект права).
Есть и другие классификации: а) по характеру – коммерческая – некоммерческая совместная деятельность; б) по субъектам – между предпринимателями – между другими участниками гражданского оборота; между физическими лицами – между юридическими лицами – смешанная (есть еще межгосударственная, но это предмет международного публичного и международного частного права); в) по сфере применения – в производстве, на транспорте, в культуре и т. д.
Классическими примерами выступают договор о создании юридического лица, предварительный договор (ст. 429 ГК), договоры об организации перевозок и смежные с ними (ст. 798, 799 ГК), договор простого товарищества (гл. 55 ГК) и др.
Договор простого товарищества (гл. 55 ГК) является классическим модельным. Его разновидности посвящен специальный закон – Федеральный закон от 28.11.2011 № 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе» (далее – ФЗ «Об ИТ»).
От родового понятия он отличается по:
• цели – только извлечение прибыли (п. 1 ст. 3 ФЗ «Об ИТ»);
• характеристике деятельности – только инвестиционная (п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 3, п. 3.1 ст. 14 ФЗ «Об ИТ»);
• наименованию – «инвестиционное товарищество» (п. 8 ст. 3 ФЗ «Об ИТ»);
• субъектному составу (качественным цензам – коммерческие организации, некоммерческие организации, иностранные юридические лица и организации, не являющиеся юридическими лицами (п. 3, 4 ст. 3 ФЗ «Об ИТ») – и количеству – число участников не более 50 и не менее 2 (п. 6 ст. 3 ФЗ «Об ИТ»));
• статусу товарищей – они делятся на обычных и управляющих);
• моменту заключения договора – договор инвестиционного товарищества считается заключенным со дня нотариального удостоверения данного договора (п. 11 ст. 3 ФЗ «Об ИТ»);
• сроку – договор инвестиционного товарищества может быть с указанием срока или с указанием цели в качестве отменительного условия, не более 15 лет (ст. 13 ФЗ «Об ИТ»);
• форме договора – письменная с нотариальным удостоверением (ст. 8 ФЗ «Об ИТ»);