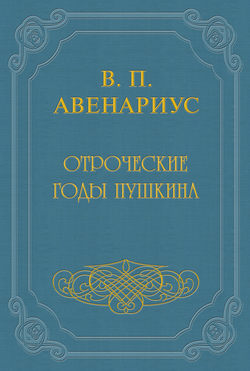В те дни, когда в садах лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал,
В те дни, в таинственных долинах
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться Муза стала мне.
Евгений Онегин
Глава I
Поэт-дядя и поэт-племянник
Мой дядюшка-поэт
На то мне дал совет
И с музами сосватал
К Дельвигу
Ты, бесенок, еще молоденок.
Со мною тягаться слабенок!
Сказка о купце Остолопе
В необычную пору дня, в 9-м часу утра 12 августа 1811 года по Невскому проспекту, усаженному еще в то время четырьмя рядами тощих лип, катился щегольский фаэтон. Маленький грум в парадной ливрее сидел сзади, на возвышенных запятках, со скрещенными на груди руками, потому что экипажем правил сам владелец его, молодой еще человек, лет 26-ти. Полное и красивое лицо его дышало душевным благородством и неподдельною добротой. В быстрых глазах его светился живой, пытливый ум.
То был общий любимец высшего круга Петербурга и Москвы, Александр Иванович Тургенев[1].
Лично хорошо известный всему царскому дому, он, благодаря своему блестящему образованию, своим редким способностям и душевным качествам, шел быстро в гору и уже год тому назад занял высокий пост директора департамента духовных исповеданий. Но этот баловень судьбы, казалось, заботился не столько о собственной своей карьере, которая устраивалась как бы сама собою, сколько о судьбе близких ему людей, которые без его поддержки не пробили бы себе, быть может, дороги к жизни.
Так и сегодня, несмотря на свою природную тучность и склонность к пуховикам, он нарочно поднялся так рано из-за 12-летнего мальчугана, судьбу которого взял в свои руки. В Царском Селе должно было открыться на днях привилегированное учебное заведение совершенно нового образца, именно – лицей, куда московский приятель Тургенева, Сергей Львович Пушкин во что бы то ни стало желал определить своего старшего подростка-сына Александра. По особенной только протекции Тургенева мальчик был занесен в список кандидатов в лицей; сам же Тургенев привез его из Москвы, а теперь ехал напомнить, что сегодня предстоит приемный экзамен, потому что как было положиться на маленького ветреника? Как было положиться и на дядю его, Василия Львовича Пушкина, приехавшего также вместе с ним из Москвы? Тот, как стихотворец, витал, обыкновенно, в заоблачном мире, а теперь, к тому же, весь был поглощен одним литературным спором. Дело в том, что в одном послании к другу своему, Жуковскому, он имел неосторожность похвалиться знанием древней литературы:
Вергилий и Омир, Софокл и Эврипид,
Гораций, Ювенал, Саллюстий, Фукидид
Знакомы стали нам…
На это прежний друг, а теперь заклятый журнальный враг его, президент академии наук Шишков, позволил себе в полном собрании академии заявить, что есть-де «стихотворцы, которые взывают к Вергилиям, Гомерам, Софоклам, Еврипидам, Горациям, Ювеналам, Саллюстиям, Фукидидам, затвердя только имена их и – что всего удивительнее – научась благонравию и знаниям в парижских переулках».
Василий Львович Пушкин, особенно гордившийся своим французским воспитанием и личным знакомством с французскими писателями, был до глубины души возмущен этим брошенным в него незаслуженным комом грязи. Надо было дочиста смыть позорное пятно! И вот, сопровождая племянника в Петербург, он в продолжение всего пути придумывал новое «послание» к третьему другу – Дашкову, а прибыв на место, усердно занялся печатанием в лучшей тогда петербургской типографии Шнора отдельной брошюры обоих посланий: к Жуковскому и Дашкову.
Тургенев был почти уверен, что застанет поэта за его брошюрой, – и не ошибся.
Василий Львович, коренной москвич, занимал в Петербурге временную квартиру в небольшом каменном доме на Мойке. Свернув туда у Полицейского моста, Тургенев остановился у подъезда своего приятеля, бросил поводья груму, с легкостью юноши, несмотря на свою полноту, спрыгнул на панель и с тою же легкостью взбежал по лестнице во второй этаж. Когда он вошел в первую из трех комнат Василия Львовича, служившую и приемной, и столовой, и уборной, то увидел именно ту картину, которую ожидал.
Сам Василий Львович, невысокого роста, полный и рыхлый мужчина средних лет, сидел перед простеночным зеркалом с пудермантелем на плечах. Безотлучный старик-камердинер его, Игнатий, юлил около него с дымящимися щипцами. Вся голова барина была уже в искусных завитках; оставалось только прижечь над высоким челом верхнюю буклю. Но едва Игнатий успел захватить щипцами последнюю прядь волос на барской макушке, как Василий Львович наклонился опять над подзеркальным столиком, чтобы исправить красным карандашом типографскую опечатку на корректурном листе, который он держал в руках.
– Да я вас, сударь, ей-Богу же прижгу!.. – проворчал Игнатий, успев еще вовремя отдернуть руку при внезапном движении барина.
– Только смей! – отозвался поэт и, окончив поправку, распустил опять перед собой корректурный лист.
– Все еще за корректурой? – спросил, по обычаю того времени, по-французски Тургенев, подходя к приятелю с насмешливо-добродушной улыбкой.
– Все за корректурой! – был французский же ответ.
Но при этом Василий Львович так неожиданно вспрянул с места, что камердинер, несмотря на привычку к парикмахерскому делу, дернул-таки его щипцами за прижигаемый клок. Барин испустил болезненный вопль.
– Сами виноваты-с, – оправдывался Игнатий. – Благо бы делом занимались, а то нет, все, вишь, проклятые эти стихи…
– Уж ты-то, братец, сделай милость, не рассуждай! Ну что ты в стихах смыслишь? – говорил барин-стихотворец, важно расхаживая взад и вперед в пудермантеле, как в римской тоге, с корректурным листом в руках. – О, я ему этого так не спущу! Запляшет он у меня!
– Да за что же-с, сударь? На старости-то лет?
– Не об тебе речь! – отмахнулся листом Василий Львович.
– А об ком же-с?
– Об том, кому я готовлю сию позлащенную пилюлю!
– Хоть убейте, в толк не возьму, – твердил Игнатий, бегая с щипцами по комнате следом за барином. – Маленечко бы вам, сударь, только еще присесть… по вискам бы пройтись…
– И так бесподобен! – решил Тургенев, без дальних околичностей срывая с плеч приятеля белую тогу. – Подай-ка теперь живее барину одеваться. А что, племянник твой готов? – спросил он Василия Львовича.
– Несомненно, – отвечал тот с достоинством, продевая руки в поданный ему камердинером фрак.
Коротенький, по тогдашней моде, с коротенькими же фалдами, небесно-голубого цвета фрак плотно облегал его небольшое пузатое тельце. Туго накрахмаленное острое жабо крепко упиралось в свежевыбритые, лоснящиеся щеки. Богатая вышивка сорочки так и выпячивалась из-под молочно-желтой пикейной жилетки, по которой вилась и блестела змейкой вывезенная самим Василием Львовичем из Парижа тоненькая золотая цепочка; с цепочки же свешивался целый арсенал дорогих бирюлек, бряцавших при всяком движении по колыхающемуся брюшку.
– Хоть сейчас на бал! – сказал Тургенев и, взяв приятеля под руку, вошел вместе с ним в спальню его племянника – Пушкина, в то время еще не знаменитого Александра Сергеевича, а просто – шалуна Александра.
Вошли они – да так и остолбенели в дверях. Александр и не думал еще вставать с постели. Но он не спал. Выпростав руки из-под одеяла, он гусиным пером усердно царапал что-то на четвертушке бумаги, которая лежала около его изголовья, на краю постели.
– Хорош мальчик, нечего сказать! – произнес после некоторого молчания Василий Львович, стараясь придать своему голосу возможную строгость. (Весь следующий разговор, как и предыдущий, происходил вперемежку то по-русски, то по-французски.)
Услыхав слова дяди, молодой Пушкин очнулся и быстро сунул бумажку и перо под подушку.
– Напрасно трудишься, милый мой: улика налицо, – продолжал Василий Львович, указывая на чернильницу, стоявшую на стуле около изголовья.
– А главное – непрактично, – добавил Тургенев, – чернила с подушки едва ли смоются.
– Смоются! – засмеялся в ответ мальчик. – Но знаете что, Александр Иванович: если стих раз засел гвоздем в голове…
– То надо его и увековечить, хотя бы Дамоклов меч висел над головой! – тем же шутливым тоном досказал Тургенев. – Брал бы пример с дяди: тот нынче хоть бы пальцем к своей корректуре прикоснулся.
Василий Львович неодобрительно покосился на приятеля, а Александр, поняв шутку, звонко расхохотался. При этом довольно некрасивое смуглое лицо его африканского типа, обрамленное курчавыми белокурыми волосами[2], разом преобразилось: слегка вздернутые губы открыли ряд белых крепких зубов и сложились в плутоватую, премилую усмешку, а быстрые, умные глаза под темною дугой бровей так и заискрились. Невзрачный, на первый взгляд, мальчик обратился чуть не в красавца.
В ответ на неделикатный смех племянника Василий Львович только пожал плечами и, достав из кармана серебряную с финифтью табакерку, взял кончиками пальцев щепотку табаку.
– Да ведь я, дядя, по вашим же стопам… – начал Александр.
– То есть, куда конь с копытом, туда и рак с клешней? – с достоинством отозвался дядя и, не спеша, угостил табаком свой крупный, загнутый на одну сторону нос. – Тягаться с дядей не тебе, молокососу. Заслуги мои на российском Парнасе изрядно известны. Поэма моя в несчетных списках ходит из конца в конец по всей матушке-России. Послания мои, басни, экспромты всеми и каждым заучиваются наизусть. А почему? – Потому, что до такой тонкой сатиры, как моя, не дошел ни Крылов, ни даже достоуважаемый наш друг-поэт и министр Иван Игнатович[3].
Вы вспомните о том, что первый, может быть,
Осмелился глупцам я правду говорить,
Осмелился сказать хорошими стихами,
Что автор без идей, трудяся над словами,
Останется всегда невеждой и глупцом;
Я злого Гашпара убил одним стихом![4]
Убил наповал, как вы, друзья мои, сейчас и убедитесь. Эй, Игнатий!
Из дверей столовой высунулась седовласая голова Игнатия.
– Самовар, сударь, подан.
– Дело теперь не в самоваре! Подай-ка сюда корректуру.
– Я отдал ее сейчас рассыльному.
– Врешь ведь?
– Зачем мне врать? Пожалуйте, сударь, чай заварить. Всегда за разговором забудете…
И голова Игнатия уже скрылась за дверью.
– Врет! Ей-Богу, врет, – вполголоса заметил Василий Львович. – Ну да Господь с ним! Итак, припомним. Внимания, государи мои!
Он картинно отставил ногу, выпятил грудь, простер вперед правую руку и готов был уже продолжать декламировать; но Тургенев взглянул на часы и остановил его за руку.
– Уже половина девятого, душа моя. А в десять ведь экзамен.
– Первая перекличка. Ты выслушай только пару строф. Шишков, как знаешь, укорял меня в том, что Париж я знаю будто бы только по закоулкам. Ха! А я ему вот что на это:
Не улицы одне, не площади, не домы, —
Сен-Пьер, Делиль, Фонтан мне были там знакомы:
Они свидетели, что я в земле чужой
Гордился русским быть и русский был прямой…
– И так далее, – прервал Тургенев. – Я это уж слышал.
– Нет, уж извини. До сих пор никто еще не удостоился…
– Ну так что-нибудь в том же роде.
– Да это легкое подражание, – неосторожно ввернул маленький Александр.
– Подражание?! – вскинулся на него дядя. – Кому?
– Да я только так, дяденька… Может быть, это случайное совпадение: великие умы сходятся…
– Нет, голубчик, не отвиливай! Говори: кому я подражал? Ну!
– Если вы, дядя, уж непременно требуете… Помните, у Фонвизина, в его «Послании к Шумилову, Ваньке и Петрушке», сказано:
Москва и Петербург довольно мне знакомы;
Я знаю в них почти все улицы и домы…
Далее продолжать ему уж не пришлось. Задетый за живое, маститый стихотворец поймал племянника за ухо и приподнял его так с кровати. Но тот, как был – неодетый, необутый, – тут же бросился к дяде, обвил его руками и вихрем закружился с ним по комнате, напевая модный в то время вальс.
– Оставь!.. Сумасшедший!.. – пыхтел Василий Львович, тщательно выбиваясь из цепких объятий шалуна.
– А сердиться не будете? – спрашивал на лету племянник.
– Не буду… отпусти только душу на покаянье!
Александр разнял руки, и толстяк мешком повалился в ближнее кресло.
– Уф! Совсем измучил, злодей… И табак-то просыпал… и сорочку измял…
– Новую наденете.
– Ну да, как же! А вот тебе так в самом деле пора одеваться.
– Да, Александр, поторопись, – подтвердил Тургенев, – а то как раз опоздаешь.
Александр беспрекословно принялся за свой туалет.
– А поэта из тебя все-таки никогда не выйдет! – последним залпом выпалил в него дядя.
– Только еще не признан, как вы, – отшутился мальчик. – У вас, говорите вы, есть своя поэма? И у меня есть своя: «La Toliade».
– За которую тебе учитель Русло уши надрал?
– Из зависти, дядя, чисто из зависти, потому что стихи мои были лучше его стихов. Но чего у вас нет, а у меня есть, – это знаменитая комедия «L'Escamoteur», которую я сам же и представлял.
– И которую единственная твоя публика – сестрица твоя Оля – нещадно освистала?
– Нет, Василий Львович, – вмешался тут Тургенев, – ты, право, слишком требователен. От 12-летнего мальчика разве можно ожидать бессмертных произведений? Но стихи Александра хоть куда.
– Да какие стихи? – французские; а кто же теперь не пишет гладких французских стихов?
– Нет, в нем горит, кажется, и настоящий поэтический огонек. Я так теперь вижу такую картину: сам ты, Василий Львович, взмостился на стул среди зала и вдохновенно декламируешь что-то. Со всех сторон плотно обступили тебя взрослые слушатели; а к самому стулу твоему прижался вот этот мальчуган и, бледный, взволнованный, не смея дохнуть, глаз с тебя не сводит, ловит каждое твое слово…
От такой поддержки со стороны неизменного его защитника, Тургенева, щеки мальчика вспыхнули, глаза заблистали.
– Да, есть люди, которые и теперь признают в моих сочинениях некоторый талант! – не без гордости заявил он.
– Вот как! – усмехнулся дядя. – Кто ж эти ценители? Такие же малолетки?
– Нет, взрослые… барышни…
– А! Барышни. Да, действительно, это первые судьи. Кто же именно?
– Да все наши московские знакомые… Помните, перед самым отъездом из Москвы мы с вами провели последний вечер у Воронцовых? Ну так вот, все барышни, что были там, окружили меня и стали наперерыв просить написать каждой из них в альбом хоть какой-нибудь стишок.
– И ты написал?
– Написал.
– Каждой?
– Каждой.
– Поздравляю – только не их. Впрочем, до сих пор ты пишешь одни французские вирши; поэтому каковы бы они ни были, русского стихотворца из тебя никогда не выйдет.
– А вот увидим! Хотите, дядя, об заклад побиться?
– Поди ты со своим закладом! Однако, ты никак и оделся, и умылся? Идем же теперь чай пить. И ты, Александр Иваныч, конечно, не откажешься от стаканчика?
Тургенев взялся за шляпу.
– Спасибо, брат, – сказал он, – я дома уж напился. Смотрите, господа, не замешкайтесь. Ужо заеду узнать о результате.
И добрый гений своих друзей и знакомых исчез, чтобы лететь далее – благодетельствовать другим.
Глава II
В ожидании экзамена
Заутра казнь. Но без боязни
Он мыслит об ужасной казни;
О жизни не жалеет он.
Полтава
Приемный экзамен должен был происходить на квартире министра народного просвещения, графа Алексея Кирилловича Разумовского. Пробило уже девять, когда Пушкины, дядя и племянник, снимали свое верхнее платье в швейцарской министра.
– Ну что, мой друг, каково тебе? – спросил Василий Львович, полузаботливо, полушутливо заглядывая в лицо племянника. – Забила, чай, боевая лихорадка?
– Ничуть, – отвечал тот, отворачиваясь.
– А что же ты так ежишься? Дай-ка сюда руку – пульс пощупать.
– Ах, перестаньте, дядя! Пойдемте…
– Ага! Знает кошка, чье мясо съела.
Они стали подниматься по широкой, устланной красным ковром лестнице с колоннами. На первой же площадке попалась им небольшая группа: присевший отдохнуть на высокий ясеневый стул белый, как лунь, старичок-адмирал, а подле него два мальчика в какой-то полукадетской форме – в черных куртках со стоячими воротниками и с металлическими пуговицами. Взоры обоих кадетиков были устремлены на приближавшегося к ним Александра, и он, с непривычной ему застенчивостью, отвел в сторону глаза и прошмыгнул мимо. Но на повороте лестницы до него явственно донеслось снизу: «Тоже, видно, экзаменоваться идет», – и он оглянулся; глаза его встретились с глазами одного из мальчиков. Оба они смущенно улыбнулись, и Пушкин ускоренным шагом, почти бегом, стал опять подниматься по лестнице и скрылся за поворотом.
Но от этой улыбки будущего товарища сердце в груди его, как пташка, встрепенулось. Ему стало вдруг так весело и легко, точно он предчувствовал, что вот кто будет ему на много лет лучшим другом.
В большой и светлой приемной министра записавшиеся к экзамену мальчики были уже почти в полном сборе. Каждого из них, разумеется, сопровождал какой-нибудь родственник или воспитатель. Василий Львович, обведя присутствующих испытующим оком, направился прямо к молодому сановитому генералу в аксельбантах, которого он хотя и видел впервые, но в котором сразу узнал своего брата – человека высшего круга. Подсев к генералу, он не замедлил завязать с ним оживленную беседу на французском языке и, казалось, забыл уже о существовании племянника.
Около них не было ни одного свободного места, и Александр, переминаясь, огляделся, где бы ему пристроиться.
– Да садитесь к нам! – зазвенел тут вблизи него детский голосок.
На диване сидели дама, мальчик-подросток и крошка-девочка, лет четырех-пяти, пухленькая, беленькая, вся в белокурых локонах, при всяком движении колыхавшихся вокруг ее прелестной головки. Она доверчиво подняла на Александра свои большие небесно-голубые глазки и приветливо манила его ручкой:
– Вот сюда… около брата. Тося, дай же место!
Брат отодвинулся, и Пушкин с поклоном уселся рядом с ним. Надо было в благодарность хоть сказать что-нибудь; но с чего начать? Он искоса оглядел своего соседа. Бледнолицый, серьезный, в синих очках, тот производил впечатление чуть ли не юноши.
– Вы издалека? – наконец решил начать Александр.
– Из Москвы, – был ответ.
– И я оттуда же.
– И вы из Москвы? – подхватила, обрадовавшись, малютка-девочка. – Как же мы с вами не встретились по дороге?
– Потому что, вероятно, ехали в разное время. Я уж с июня месяца здесь; а вы?
– А мы только со вчерашнего дня. Мы приехали вместе с мамашей и вот с мадемуазель, нашей гувернанткой; но мамаша очень устала с дороги и осталась на даче в Петергофе…
– Замолчите ли вы, Мими! – по-французски шепнула тут болтушке мадемуазель.
Разговор на минуту прервался. Но неугомонный язычок Мими не давал ей покоя, и она снова затараторила:
– А сколько вам лет?
– Двенадцать, – отвечал Пушкин, с трудом подавляя улыбку.
– О! Так брат мой гораздо старше: ему на прошлой неделе пошел уже четырнадцатый год[5]. А как ваше имя?
– Пушкин Александр Сергеевич.
– Как важно! А брата мы зовем просто Тосей.
Теперь француженка-гувернантка сочла нужным пояснить Пушкину, что его сосед – барон Антон Антонович Дельвиг.
– Так вы, стало быть, немец? – обратился Пушкин к молодому барону.
– Ой нет! – отвечал тот. – Фамилия у меня только немецкая, потому что предки наши из лифляндцев, но сам я и телом и душой русский, православной веры и по-немецки не умею почти, что называется, в зуб толкнуть.
– Так же, как и я! – точно обрадовался Пушкин. – Вместе, значит, отличимся: в компании провалиться все же не так обидно.
– Не провалитесь, если знаете по-французски; ведь можно экзаменоваться из одного какого-нибудь иностранного языка: или немецкого, или французского.
– О! Тогда мне не страшно!
– Завидую вам! – вздохнул Дельвиг. – Я ни в одном предмете не тверд.
Француженка, понимавшая, как видно, по-русски, с укором взглянула на чересчур откровенного барона и постаралась смягчить его приговор о себе.
– Здоровье молодого барона, – заметила она, – довольно слабо, поэтому не в меру утруждать его учением нельзя было.
– Да прибавьте еще к этому природную лень, – добавил по-русски Дельвиг.
– Ну, что до лени, – подхватил весело Пушкин, – то я вам в ней, наверное, не уступлю! Если бы не сестра моя…
– А у вас также есть сестра? – заинтересовалась крошка баронесса.
– Да, годом меня старше.
– У, какая старая! А зовут ее?..
– Олей.
– Отчего же не Ольгой Сергеевной, если вы – Александр Сергеевич?
– Перестаньте, Мими! – остановила ее опять мадемуазель и обратилась к Пушкину: – А кто вас учил в Москве французскому языку?
– Я даже всех и не припомню, – отвечал по-французски же Пушкин, – граф Монфор, мосье Русло, мосье Шедель… и не перечтешь! А есть, знаете, у нас такая русская пословица: «У семи нянек дитя без глазу».
– Пословица, я вижу, довольно меткая, – проговорила не без колкости француженка.
– А все же ученье вам, видно, впрок пошло, – заметил с своей стороны молодой барон, – вы говорите прекрасно по-французски. Но неужто эти иностранцы учили вас и русскому языку?
– Да, учил такой же иностранец, немец, херр Шиллер; к сожалению, однако, то был не знаменитый поэт Шиллер, а только его однофамилец. Но кроме него у меня русским учителем был еще один священник, человек очень начитанный и ученый[6]. Настоящей же, чистой русской речи я прежде всего научился от няни своей да от бабушки. Няня эта, Арина Родионовна, просто, я вам скажу, клад! Вынянчила всех нас: и сестру, и меня, и брата, да такая мастерица говорить сказки, былины народные, что слушаешь – не наслушаешься. Пословицы, поговорки у нее сыплются как из рукава. А покойная бабушка моя[7], женщина также вполне русская и хорошо образованная, знала пропасть разных преданий, исторических и семейных, и я, бывало, по целым часам просиживал в ее рабочей комнате: все слушал, развесив уши, ее бесконечные россказни. Если после всего этого из меня не выйдет поэта, то тут уже, право, ни няня, ни бабушка не виноваты[8].
В это время общее внимание присутствующих обратил на себя тот старик-адмирал, которого с двумя его птенцами Пушкины застали давеча на лестнице. Дежурный чиновник уступил почтенному старцу свой собственный стул, а сам, стоя, записывал в журнал получаемые пакеты.
– Так что же, милостивый государь, – произнес громким голосом адмирал, – когда же граф Алексей Кириллович соблаговолит принять меня?
– Сию минуту-с, ваше высокопревосходительство, – засуетился чиновник. – Его сиятельство доканчивают туалет свой…
– А вы, сударь, передайте его сиятельству, – перебил адмирал, нетерпеливо постукивая по полу костылем, – передайте, что андреевскому-де кавалеру адмиралу Пущину не пристало дожидать; что мне нужен он сам, Алексей Кириллович, а не туалет его.
Чиновник с поклоном исчез в министерских дверях. Василий Львович сидел неподалеку от адмирала и, с обычной своею подвижностью, ловко покачивая свое полное тельце на тонких ножках, почтительно приблизился к старику.
– Смею обеспокоить ваше высокопревосходительство вопросом, – заговорил он, указывая глазами на двух мальчиков в куртках, которые прислонились тут же к окошку, – внучата-с?
Адмирал Пущин окинул вопрошавшего в головы до ног орлиным взглядом и, удовлетворенный, по-видимому, осмотром, не торопясь ответил:
– Внучата.
– Позвольте представиться вашему высокопревосходительству: Пушкин Василий Львович, небезызвестный российский стихотворец.
– Слышал, как же. Тоже, чай, кого-нибудь в лицей определяете?
– Да вот, племянничка, сына родного брата моего, Сергея Львовича Пушкина. Может статься, бывали тоже в Москве, слыхали про братца?
– Бывать-то бывал, лет с десяток назад, да что-то не помню…
– О! Буде теперь собрались бы, несомненно услыхали бы про него. Братец мой, надо вам доложить, в московском высшем кругу играет, так сказать, первую скрипку. Ни один домашний спектакль, ни одна вечеринка с живыми картинами и иным прочим не обойдется без него. А как он читает Мольера! Даже мне, записному литератору и чтецу, за ним не угоняться. Какие строчит на всяких языках альбомные стишки! Хоть сейчас в печать. А уж по части каламбуров и экспромтов – голову прозакладываю – во всей Европе равного ему не найти: вся Москва повторяет их потом из конца в конец.
– Так у него, стало быть, нет определенных служебных занятий?
– Времени не достало бы, ваше высокопревосходительство, для светского представительства. В юных летах, правда, оба мы с ним тянули лямку в екатерининской гвардии, получили в ней, как говорится, последнюю шлифовку…
– И не дотянули?
– Да-с. Не снесли – если смею так выразиться – ярма военной дисциплины. Да и чего нам еще? Любимы, уважаемы, как сыр в масле катаемся… Я-то, правда, живу почти что бобылем: имею дома только сынка-малютку; но у братца моего этой благодати целая троица, а жена у него первая умница, первая красавица московская!.. Правду сказать, африканского темперамента, – откровенничал словоохотливый Василий Львович, понижая тут голос и поглядывая в сторону племянника, – пальца в рот ей не клади: своенравна, вспыльчива, так что – у! как раз откусит! Да уж и властолюбива же, что греха таить! Забрала в ручки белые весь дом, как есть, вертит всем и каждым, как пешками: и муженьком, и людьми, и ребятишками, за исключением разве этого вон сорванца.
– Так он у вас большой шалун? Неисправим?
– Как вам сказать? В голове у него, точно, ветер гуляет; но каши этой мозговой там более, может статься, чем у иного взрослого полоумка. А уж начитан как! Чего-чего не перечитал! И «Илиаду», и «Одиссею», и Плутарха от доски до доски, и новейших энциклопедистов…
– Гм… На каком же это все языке?
– А все, конечно, на французском. Раненько, может быть, да что против жажды знания поделаешь? У отца его, изволите видеть, так же как и у покорнейшего вашего слуги, библиотека на славу. – Александр, поди-ка сюда! – крикнул Василий Львович по-французски. – Не разрешите ли, ваше высокопревосходительство, познакомить с ним молодцов ваших?
– Что ж, пускай знакомятся: после все равно придется же. Экие дички, право! Руку-то друг другу хоть подайте!
Мальчики исполнили приказание и застенчиво обменялись несколькими общими фразами. Одно узнал при этом молодой Пушкин, что новые знакомцы его были между собой двоюродные братья и что одного из них – того, с которым он на лестнице переглянулся, – звали Иваном, а другого Петром.
Сидевший поблизости шустрый, востроглазый мальчуган с большим вниманием следил за завязывавшимся между тремя сверстниками его знакомством; шепнув сидевшей рядом с ним даме: «Я, мама, тоже отрекомендуюсь», – он развязно подошел к ним и шаркнул ножкой.
– Позвольте и мне отрекомендоваться: Константин Гурьев.
Пушкин медлил принять протянутую ему руку и с безотчетным недоверием оглядел навязчивого мальчугана. Но тот на вид был очень приличен: платье с иголочки, сам причесан, приглажен, даже надушен; как в голосе его, так и в чертах лица, во всех движениях была одна и та же игривая мягкость. Только чересчур юркие глазки то и дело потуплялись и бегали по сторонам, точно не смели открыто встретить испытующего чужого взгляда.
«Кошечка», – невольно подумалось Пушкину.
Разговориться им, впрочем, теперь не пришлось: возвратившийся от министра чиновник пригласил старика Пущина к его сиятельству Алексею Кирилловичу, и тот в сопровождении двух внуков удалился.
Василий Львович воспользовался этим, чтобы подвести племянника к своему прежнему собеседнику, молодому генералу, оказавшемуся князем Горчаковым, и к его подростку-сыну, который был не только писаный красавец, но имел такое благородное, славное лицо, что нельзя было не залюбоваться.
«Вот ангельская душа, сейчас видно, – сказал сам себе Пушкин, – не то, что этот Гурьев».
А Гурьев был уже тут как тут, с тою же, словно заученной фразой:
– Позвольте и мне отрекомендоваться: Константин Гурьев.
На этот раз ему более посчастливилось: маленький Горчаков отвечал ему доверчиво и охотно, а Гурьев за словом в карман не лез. Пушкин увидел себя совсем оттертым и был даже рад, когда дежурный чиновник стал теперь выкликать их по списку. Разговоры кругом поневоле прекратились; каждый выкликаемый по очереди выступал вперед и отзывался: «Здесь!»
– Кюхельбекер, Вильгельм!
– Здесь! – пробасил с резким немецким акцентом долговязый юноша, нескладно, но крепко сшитый.
Пушкин не мог не усмехнуться. Но тут он расслышал, как Гурьев, наклонясь к Горчакову, тихонько подтрунил: «По Сеньке и шапка – прямой Кюхельбекер!» – и Пушкину уже досадно стало на насмешника:
«Показала, небось, кошечка когти!»
– Пушкин, Александр!
– Здесь! – откликнулся он каким-то не своим, металлически-звонким голосом и, сам не зная зачем, выскочил на середину залы.
Со всех сторон на него обратились удивленные взгляды; он смешался и еще поспешней отступил назад. А Гурьев опять-таки наклонился к уху Горчакова и с лукавой улыбочкой нашептывал ему что-то.
«Верно, про меня! – догадался Пушкин. – Вот и царапнул!»
Он на ходу круто повернул налево-кругом и отретировался к Дельвигам.
Перекличка кончилась. Решительная, неизбежная минута приблизилась, сейчас должна была наступить. В ожидании ее, в последний миг все языки развязались, все громко заговорили, зашевелились. И вдруг, как по мановению волшебного жезла, все точно так же опять смолкло, замерло: одного из мальчиков дежурный чиновник вызвал в экзаменационный зал.
- Отроческие годы Пушкина
- Юношеские годы Пушкина
- Пущин в селе Михайловском