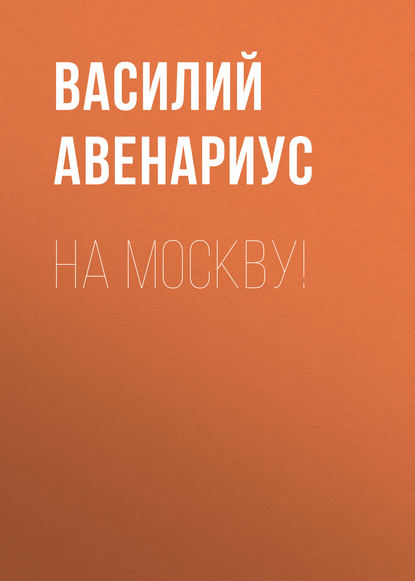– Что, милый паренек, кулебякой балуешься? – отнесся купчик с ласковой важностью к Петрусю. – Есть можно?
– Ничего себе: даже очень хороша… – отвечал Петрусь с полным ртом.
– Ну, так и мне подай-ка кулебяки, да уже сразу два добрых куса, – заказал купчик подносчику.
– А пития какого твоя милость прикажет? – предложил подносчик. – Есть всякое: ренское, угорское, мальвазия…
– И все-то, я чай, московского производства?
– Знамо, московского; а то еще какого ж?
– Эх ты, фофан! Проваливай! Да куда ж ты? Постой! Нацеди-ка мне жбанчик браги, да смотри, чтобы играла и пенилась, как быть следует.
Между тем кургузый, который уже при входе своем был, казалось, навеселе, подошел к стойке. Повелительным голосом приказав налить чарочку «сивалдая» (сивухи), он разом опрокинул ее в горло; после чего колеблющейся, как бы порхающей походкой направился туда же, где пристроился купчик.
– Хлеб да соль! – с поясным поклоном обратился он к Курбскому, а потом и к купчику. – Зван бых и придох.
Курбский показал вид, что не слышал; купчик же снисходительно усмехнулся:
– Кто тебя звал, забубенная башка?
– Кто зовет добрых людей в кружало царево, как не отечественная хлебная слеза?
– Хлебная слеза?
– Да, что старого и малого под тын кладет. Руси есть веселие пити – не может без того быти. Не примите ли, государи мои, в свое общество?
– Что ж, садись, пожалуй, гость будешь, – великодушно снизошел за себя и за других купчик. – Потеснитесь, православные.
Занимавшая нижний конец стола компания серых мужичков потеснилась не очень-то охотно; но между крайним из них и сидевшим около Курбского сухопарым, смиренного вида мужчиной в черной «однорядке» (однобортном, долгополом кафтане без ворота) образовалось все-таки достаточное пространство для кургузого. Считая его уже как бы своим гостем, купчик покровительственно спросил его, не желает ли он тоже какого-либо брашна.
– Ужо виднее будет, – был ответ. – А для почину выпить бы по чину.
– Хлебной слезы? Хе-хе-хе! Эй, малец, подай-ка хлебной. А ты, милый человек, складно, вижу, говоришь: верно, в грамоте умудрен?
– Сподобился малость: в чернилах рожден, бумагой повит, концом пера вскормлен.
– Инако сказать: приказная строка, крапивное семя, – неожиданно выпалил тут смиренный однорядец.
– Ах ты, такой-сякой! – оскорбился приказный и ударил себя в грудь кулаком. – Я сам себя хоть кормлю, а ты при чем состоишь?
– Я-то?
– Да, ты.
– При христианском тоже деле – при монастыре.
– Да ведь не монашествующий?
– Нет еще… В смиренномудрии и покорстве судьбе спасаюсь покуда лишь от коловратностей жизни…
– И зубами за других работаешь? – насмешливо перебил приказный. – Тоже свят муж – монастырский захребетник! Только пеленой обтереть да в рай пустить.
Даже мужичков смех взял. Сам смиренник готов был, кажется, окрыситься; но купчик принял его сторону.
– Ну, полно, милый человек, – заметил он насмешнику. – Захудал, вишь, от «коловратностей»; дай нагулять себе тело. Все же не совсем пустосвят, монастырю своему верен, не какой ни на есть беглый расстрига, Гришка Отрепьев.
– Гм… – промычал приказный и, лукаво подмигивая одним глазом, спросил пониженным голосом. – А твое степенство как насчет оного Отрепьева смекаешь?
– То есть, как смекаю?
– Да как ты его понимаешь? Точно ли он простой расстрига?
– Коли самим благоверным царем нашим всенародно объявлено.
– Да для чего, спроси, объявлено?
– Для чего?
– Может, для того, чтобы глаза отвести. Молва ходит, говор бродит; где наткнется, там и приткнется.
И, как бы в рассеянности схватив стоявший перед купчиком жбан с брагой, приказный присосался к нему, пока не вытянул доброй половины, после чего окинул окружающих смелым взглядом и прищелкнул языком.
Всем, казалось, стало как будто не по себе. Особенно же струхнул монастырский захребетник.
– Владыко живота моего! – пробормотал он, крестясь. – Все это пустобрешество…
Но захмелевший приказный, как борзый конь, принятый в шенкеля, закусил уже удила.
– Пустобрешество? – подхватил он. – Га! Уж коли на то пошло, то скажу прямо: хоть и объявлен тот человек расстригой Отрепьевым, а взаправду-то он вовсе не расстрига, да и не Отрепьев…
– Прекрати! – прервал его опять захребетник. – Видно, ты о двух головах.
– Чем тяжелее язык, тем легче речи, – заметил купчик. – Мало ли кто себя за кого выдает! А коли приказано нам почитать его за самозванца…
– Приказано! – вскинулся охмелевший. – Нешто мыслям своим что прикажешь?
– Так кто же то по-твоему?
– Кто? Да я жив быть не хочу, коли то не подлинный царевич Димитрий! Потолкуем с тобой вразумительно. Будь он просто беглый расстрига, так зачем бы великому государю трепетать его, как буки, нарочито посланиями разуверять народ?
– Да что, и правда ведь… А ты как полагаешь, господин честной? – обратился купчик к Курбскому.
До сих пор Курбский не вмешивался в разговор, хотя сердце в нем учащенно билось. Но на такой прямой вопрос отречься от своего царевича – казалось ему постыдным малодушием. И у него, точно его кто толкнул, само собой слетело с языка:
– Для меня-то он несомненный царевич Димитрий.
Петрусю давно уже не терпелось вставить свое слово, и он хвастливо договорил за своего господина:
– Мы близкие ему люди и нарочно присланы от него в Москву.
От такой излишней болтливости казачка Курбского покоробило – не со страху за себя лично, а потому что он словно бы превысил данное ему царевичем полномочие. Смутились, видимо, и мужички; а монастырский захребетник разом вскочил из-за стола.
– Куда, брат? – спросил приказный, хватая его за рукав.
– Блажен иже не иде на совет нечестивых, – отвечал тот, тщетно стараясь высвободить свой рукав.
– Постой, погоди! Ты слышал ведь сейчас, что господин этот и холоп его подосланы сюда самозванцем и прямо называют его царевичем Димитрием? И вы тоже слышали, православные?
Ответа ни от кого не последовало. Но общее глухое молчание служило как бы ответом.
Махнув рукой нескольким стрельцам, сидевшим за одним из соседних столов, приказный зычно гаркнул на все кружало:
– Слово и дело!
Слишком хорошо известен был всей Москве этот страшный окрик отечественной инквизиции тайного сыскного приказа. Стрельцы не замедлили нагрянуть и окружить Курбского и Петруся; остальные посетители кружала, сколько их ни было, точно также всполохнулись. Но приказный предупредил их:
– Стой! Никто покуда ни с места! А теперь, сударик мой, – обернулся он к Курбскому, доставая из кармана пару железных наручников, – пожалуй-ка сюда твои рученьки.
– Ни за что!

И Курбский схватился за саблю. Неизвестно, чем бы окончилась эта неравная борьба, не вступись в дело второй сыщик-купчик.
– Не замайте его, ребята, – сказал он. – Его милость – человек рассудливый: попусту чинить противление не станет. Сила солому ломит, господин честной; усугублять свою вину пролитием крови верных слуг государевых ты ведь не похочешь? А мы тебя избавим от сих ручных украшений, буде ты добровольно сдашь нам свое оружие.
Что оставалось Курбскому, как не покориться обстоятельствам?
Не долго упирался теперь и монастырский захребетник, которого сыщики признали нужным, вместе с двумя мужичками, прихватить тоже с собой на случай, что «востребуются какие-либо вопрошания».
– Скорпионы, аспиды! – ворчал он только сквозь зубы. – Я немотствую и умываю руце в неповинных.
Глава пятнадцатая
Кончина Годунова и бегство Курбского
Боярин или боярский сын, ведомый по улице стрельцами, как обыкновенный преступник, – это было и тогда явлением незаурядным; а потому редкий прохожий не оглядывался на Курбского, возбуждавшего притом своим молодцеватым и благородным видом невольное сочувствие. Иные, посмелее, обращались к конвойным с вопросом, за что, мол, его взяли и куда ведут. Но те отгоняли их резко и сурово:
– Пошли, пошли, пока самих не забрали!
Раз до слуха Курбского донеслось и соболезнование какой-то женщины:
– Ах, ты родненький, красавчик этакий! Нешто такой может быть злодеем! Помоги тебе Господи и Микола заступник!
Краска стыда заливала щеки Курбского, и он вздохнул с облегчением, когда, наконец, очутился в мрачной и неприютной приемной сыскного приказа (находившегося в Кремле, около Архангельского собора).
– Что, сам тут? – справился приказный у дневального стража.
На утвердительный ответ, он юркнул в боковую дверь; товарищ его – следом за ним.
В это время откуда-то снизу, точно из-под пола, донеслись какие-то отрывистые крики и глухие стоны.
– Что там такое? – справился Петрусь шепотом у своего господина. – Уж не застенок ли?
– Надо быть, что так: кого-нибудь, знать, пытают, – отвечал Курбский. – Но ты, милый, не бойся: тебя я на этот раз не дам в обиду.
– О! С тобой, княже, мне ничуть не страшно. А станут пытать, хошь все жилы вытянут, – ни от тебя, ни от царевича нашего не отступлюсь.
Тут в дверях показался какой-то жиденький, невзрачный человечек в забрызганном чернилами кафтане с высоким козырем (стоячим воротом); за ухом у него торчало гусиное перо; у пояса болталась на цепочке медная чернильница. Но чего ему недоставало в росте и во всей внешности, то он старался восполнить своей петушиной осанкой и заносчивым обращением. Едва удостоив арестованных косого взгляда, он объявил стрельцам:
– Нынче допроса не будет: посадить их в яму! Курбский вспыхнул и выступил вперед.
– Позвольте узнать, – спросил он, – чье это приказание?
Тот оглядел его теперь нахально с головы до ног.
– Чье приказание? Да хоть бы мое!
– Так, видно, ты сам боярин князь Татев, что начальствует в приказе?
– Не сам боярин, вестимо…
– А не сам, так только подначальный его письмоводчик, дьяк?
Слово «только» задело зазнавшегося дьяка за живое. Но решительный вид и могучая фигура Курбского не позволили ему слишком возвысить тон.
– Боярина нашего здесь нету, – буркнул он, – крепко занедужил…
– Так ли? Сейчас вот только дневальный говорил, что он здесь.
– Ты что ж это, чертов сын? – напустился дьяк на дневального. – болтаешь зря, когда строго воспрещено…
– Помилуй, кормилец! – взмолился тот. – Коли сыщик спрашивает, так как же скрыть-то?
– Ладно! С тобой разговор впереди. Так изволишь видеть, – обратился дьяк опять к Курбскому, – боярина, будто, здесь и нету.
– Все-таки, пойди, доложи: не тебе обо мне решать.
– Но ему, слышал ведь, неможется. Нынче в сборе вся боярская дума: государь принимает иноземных послов; а боярин мой, вишь, отговорился; если ж и пожаловал сюда, в приказ, то ради совсем неотложного дела.
– Для пристрастного допроса.
Новый искрометный взгляд в сторону дневального. Но Курбский выгородил последнего:
– Этого-то он мне не выдавал; выдал сам пытаемый. Вон, слышишь?
В самом деле, из-под пола, как и прежде, долетел отчаянный, как бы предсмертный вопль.
– Дурачье! Не могут утихомирить… – прошипел дьяк. – Да что же мне доложить от тебя боярину?
– Доложи, что я такой же полномочный посол, как и те, и что за всякое насилие надо мной ему не сдобровать.
– Так вот ему и скажешь!
– А не скажешь, так тебе же первому быть в ответе.
Как ни был опытен дьяк в самых кляузных вопросах, но тут стал в тупик. Машинально взяв из-за уха перо, он бородкой его в раздумье почесал себе переносицу, а затем, круто повернувшись на каблуках, удалился. Прошло не мало времени, когда он опять вернулся, чтобы провести Курбского и его казачка в соседний покой, где они застали уже обоих сыщиков.
Вслед затем из противоположных дверей вошел сам начальник тайного сыскного приказа, боярин князь Татев. Шел он вперевалку, шаркая подошвами, словно ногам его было не под силу нести его грузное тело; а болезненно-желтый, как бы от разлития желчи, цвет его обрюзглого и злого лица, в особенности же сильный кашель, одолевший его с первых же слов, наглядно подтверждали, что ему, действительно, не здоровится.
Свысока чуть-чуть кивнув головой на поклон Курбского, он приступил прямо к допросу:
– Ты называешь себя Курбским?
– Да, я князь Михайло Курбский, полномочный посланец царевича Димитрия…
– Такого царевича нет…
– Для тебя, боярин, покуда нет, но скоро, поверь мне, будет. Сам царь твой Борис Федорович принял меня как его посланного.
– Но разорвал его грамоту!
– А! Так ты был тоже при этом? Стало быть, ты слышал сам, что царь велел мне ждать его ответную грамоту, а посему без него надо мной здесь не может быть никакой расправы. Коли же я, по твоему, в чем виноват, то идем сейчас к самому царю.
Вежливый, но решительный тон Курбского, возражавшего грозному допросчику смело, не моргнув ни одним глазом, остался не без действия.
– Гм… – промычал Татев, обводя комнату исподлобья свирепым взглядом. – Допрежь того во всяком разе я должен допросить тебя…
– Понапрасну, боярин, станешь только утруждать себя, – прервал Курбский. – Я не присягал царю Борису и не обязан отвечать кому-либо из его бояр; самому же царю я готов держать ответ. Веди меня к нему.
Стоявший в почтительном расстоянии позади своего начальника дьяк приблизился теперь к нему на цыпочках и начал что-то ему настоятельно нашептывать. Напряженный слух Курбского подхватил последние слова:
– Не дай Бог его теперь прогневить! Ну, а коли сам уж прикажет подвергнуть законному истязанию…
– Будь так, – согласился, видимо неохотно, Татев. – Мне придется ведь еще заехать к себе обрядиться…
И в сердцах он посулил кому-то дьявола.
– А этих вот, – спросил дьяк, указывая на наших арестантов, – отправить во дворец?
– Безпромедлительно! И со свидетелями. Сам бы, кажись, мог догадаться. Не малый ребенок!
И, злобно фыркая, боярин закутался плотно в поданную ему дорогую шубу, нахлобучил до бровей пышную соболью шапку и вышел на крыльцо, чтобы сесть в дожидавшийся его там собственный возок.
Когда затем Курбский с Петрусем, с тремя свидетелями и обоими сыщиками, под тем же стрелецким конвоем, подходил ко дворцу, здесь стояло несколько таких же боярских возков и саней, впереди же всех красовался раззолоченный сверху до низу возок, запряженный шестерней белой масти цугом (с двойным выносом) в сверкающей серебром упряжи.
«Посольский возок! – сообразил Курбский. – Значит, послы еще во дворце, и есть время обдумать, что сказать Годунову».
Но обдумывать ему уже было нечего. Едва лишь вошли они в обширные сени-вестибюль и стали в сторонке, в ожидании прибытия князя Татева, как главные двери во внутренние царские покои шумно растворились, и оттуда не столько выбежали, сколько вылетели двое мужчин в праздничной иноземной одежде. Очевидно, то были сами послы (датские, как узнал впоследствии Курбский). Их разгоряченные, растерянные лица, а также та неподобающая их званию торопливость, с какой они приняли поданное им верхнее платье, чтобы без оглядки затем вырваться на вольный воздух, показывали, что произошло что-то совсем необычайное. Подтверждалось это и тем переполохом, который одновременно поднялся во всем дворце, загудевшем, как роящийся улей. Двери то и дело хлопали; через сени взад и вперед перебегали и слуги и высшие чины, метались как угорелые и, сшибаясь друг с другом, не думали извиняться. Из общего гомона голосов можно было разобрать только одно:
– Государь умирает! Да где ж эти проклятые лекаря? Бегите, зовите лекарей!
А вот и один из них, почтенный, бритый старичок. Несколько рук сразу сорвали с него плащ и не дали ему даже оправить фалды своею долгополого, черного кафтана.
– Скорей, мейн герр, скорей: того и гляди, истечет кровью…
– О, Gott! Was soli das werden? (О, Боже! что-то будет?) – бормотал про себя старичок и опрометью побежал вперед, семеня своими высохшими, как палки, ножками в черных, до колен, чулках и башмаках с серебряными пряжками.
Курбский как-то уже слышал, что Годунов давно страдает бессонницей и ломотой в ногах (подагрой), что с году на год, можно сказать, со дня на день он становится раздражительнее; но что телесным складом он еще крепок. Так с чего бы теперь вдруг?.. От кого бы узнать?
Тут в дверях появился Басманов и повелительно крикнул:
– Позвать к государю святейшего патриарха, да чтобы сейчас был здесь! Слышите?
Несколько слуг со всех ног бросилось исполнить приказание царского любимца. Сам он повернулся было, чтобы уйти, когда на глаза ему попался выдвинувшийся вперед Курбский.
– Князь Михайло Андреич! – удивился он и подошел ближе. – Ты под стражей? Что это значит?
– Это значит, что уличен в измене, – отвечал с самодовольством сыщик-приказный.
– Тебя не спрашивают! – сухо оборвал его Басманов; затем снова обратился к Курбскому, – не сказался ли ты сторонником того человека, что выдает себя за царевича Димитрия?
– Да, отрекаться от него мне, посланцу его, не приходилось. А что такое, скажи, боярин, с царем-то? Не вышло ли у него чего с этими иноземными послами?
– Ох, уж эти мне послы! Упившись зело вином, заспорили с государем, как с равным себе, стали требовать совсем несуразного…
– Так было это за обеденным столом?
– Да, в Золотой палате. Государь же, крепко на них осерчав, в гневе своем вскочил с престола, да вдруг как грохнется на пол… Кровь из носу, из глаз, из ушей…
– И о сю пору он все там же еще, в палате?
– Нет, его подняли, перенесли в опочивальню; но по всему-то пути за ним кровь да кровь…
Тут Басманов словно спохватился, что сказал, пожалуй, лишнее. Кивнув Курбскому со словами: «Ужо еще увидимся», он быстро удалился.
Патриарший двор находился рядом с царским дворцом; поэтому не прошло и десяти минут, как наружные двери снова раскрылись, чтобы впустить его святейшество с напутствующим его старшим церковным клиром. Патриарх Иов был первым из московских патриархов, избранным (в царствование Федора Ивановича в 1589 г.) не в Царьграде, а в самой Москве, всероссийским собором. Преклонный возраст и строго схимнический образ жизни наложили печать «не от мира сего» на его высохшее, изборожденное морщинами лицо и впалые глаза. Но свою убеленную редкими прядями волос и покрытую митрой голову он нес высоко. Держа в правой руке золотое распятие, он левой почти не упирался на свой патриаршей жезл. Если его и вели под руки два видных архиерея, то скорее для почета. На ходу благословляя преклонявшихся перед ним мирян, он проследовал далее, сопутствуемый тремя митрополитами: Ионой – со святыми дарами, Ермогеном и Исидором. Какой благоговейной любовью пользовался святитель у москвичей, можно было судить уже потому, как заговорили теперь о нем все оставшиеся в сенях; причем одни восхищались его лазоревым атласным облачением и золотой митрой, разукрашенной жемчугом и драгоценными каменьями, а другие препирались относительно его жезла: был ли то жезл воскресный или панихидный.
Курбский был, однако, слишком взволнован, чтобы вслушиваться в эти разговоры. О нем самом как будто все забыли. Не заметил его и князь Татев, прибывший, наконец, ради него же из дому. От быстрого перехода сперва из тепла собственного дома на свежий воздух, а затем с улицы в теплые сени дворца, боярин жестоко раскашлялся. Пока с него снимали шубу, ему наскоро доложили о случившемся, и он, все еще кашляя, поспешил в царскую опочивальню. Что за дело, право, было ему теперь до какого-то уличенного преступника, хотя бы и княжеского рода, когда сам царь лежал на смертном одре!
А царю становилось, видно, все хуже. Подначальные придворные чины и слуги продолжали шмыгать взад и вперед с перепуганными лицами, таинственно перешептываться между собой. Так время шло да шло…
– Смотри-ка, княже, тот боярский сын с медвежьей ямы, Бутурлин, – шепнул Курбскому Петрусь. – Не тебя ли он ищет?
Показавшийся на пороге Бутурлин, действительно, искал кого-то глазами, завидев же Курбского, направился прямо к нему.
– Здорово, милый князь, – сказал он. – Где встретиться-то довелось! Пожалуй-ка за мной.
– Куда, смею спросить? – вмешался тут сыщик-приказный.
– Куда велено.
– Да кем велено-то? Князем Татевым? Бутурлин вымерил сыщика взглядом, полным нескрываемого презрения.
– Не князем Татевым, а кое кем, может, еще повыше: боярином Петром Федоровичем Басмановым.
Имя победоносного воина и нового фаворита имело уже магическую силу. При всей своей наглости, сыщик нехотя преклонился перед этим именем и отступил назад.
– А я-то что же? – спросил Петрусь. Бутурлин теперь только узнал казачка и приветливо кивнул ему головой.
– А, это ты? Ну, конечно, куда господин, туда и слуга.
Так они втроем беспрепятственно целым рядом палат и полутемных переходов прошли весь дворец, пока не вышли на заднее крыльцо. Здесь Бутурлин опасливо огляделся, но кругом не было ни души. Кому, в самом деле, была охота сторожить какое-то заднее крыльцо, когда внутри дворца совершалось событие, которое должно было перевернуть весь прежний строй придворного быта!
– Ну, прощай, князь, – сказал с чувством Бутурлин. – Где-то судьба даст еще свидеться!
– Как так? – спросил, недоумевая, Курбский. – Ведь ты сейчас говорил, что ты от Басманова?
– Да, я провел тебя сюда по его приказу, но для того, чтобы ты мог тихомолком выбраться на улицу, а там – куда хочешь, на все четыре стороны. Самому ему нельзя теперь отойти от умирающего государя…
При этих словах юноша всхлипнул, и из глаз его брызнули слезы.
– Ты не дивись, что я плачу, – продолжал он, утирая глаза. – Но государь был ко мне всегда так милостив…
– А разве ему наверное не выжить?
– Где уж! Еле поспел проститься с царицей, с царевичем, царевной, благословить царевича на царство, а потом воспринять схиму…
– Его постригли уже в монахи?
– Да, с именем Боголепа. При мне же он впал в беспамятство и стали его соборовать. Ах, Бог ты мой! Мы с тобой заболтались, а тебя могут хватиться. Беги, голубчик князь, спасайся, и что бы сегодня же, смотри, в Москве духу твоего не было.
– Нет, я остаюсь, – с решительностью объявил Курбский. – Прежде, чем царевич Федор возложит на себя венец царский, я переговорю с ним, и он уступит, должен уступить венец подлинному сыну царя Ивана Васильевича!
– Если недоброхоты твои тебя до него допустят! – возразил Бутурлин.
– Да как они посмеют меня не допустить? Я скажу тому же Басманову…
– Боярин Басманов пожалел тебя, точно; но в боярской думе он еще не верховодит.
– Да, наконец, сам царевич Федор, как только ему доложат обо мне…
– Царевич Федор еще меня моложе на два года, хоть и пожелал бы, сможет ли он идти против всех стариков-бояр? А еще вернее, что он ничего про тебя и знать-то не будет. От него просто скроют…
– И впрямь ведь, княже, – вмешался тут в разговор Петрусь. – Чего нам с тобой еще ждать-то? Чтобы нас забрали опять в сыскной приказ, стали пытать в застенке, а коли выживем, так упекли бы за тридевять земель?
– А это весьма даже может статься, – поддержал Бутурлин. – Задачу свою здесь ты ведь исполнил, грамоту свою сбыл с рук…
– Но ответной отписки никакой не имею… – колебался еще Курбский.
– Да кто тебе ее здесь теперь даст-то?
– Однако вернуться эдак к моему царевичу ни с чем…
– По крайности вернешься невредимым, – продолжал убеждать Петрусь. – Царевич тебя, я чай, в Путивле ждет не дождется. Уберемся-ка, право, подобру-поздорову. Гайда!
Курбский не стал уже долее настаивать на своем и обнялся на прощанье с Бутурлиным.
С задней площади дворца, позади Благовещенского собора, Курбский со своим казачком, никем не замеченный, выбрался из Кремля Шешковскими воротами на Москву-реку, чтобы берегом своротить к Белому городу.
В эту минуту с высот Ивановского столпа раздался протяжный погребальный звон. В ответ ему тотчас же загудели все сорок сороков Белокаменной, сотрясая воздух на десятки верст в окружности непрерывным зловеще-заунывным гулом.
– Скончался! – проговорил Курбский и, сняв шапку, набожно перекрестился.
Братьев Биркиных он не застал дома: раньше вечера их не ожидали из торговых рядов в Китай-городе, где у старшего брата были две собственные лавки.
Платониду Кузьминишну внезапная весть о том, что царя Борися не стало, поразила как громом. Когда же Курбский еще объявил ей о своем решении немедля убраться из Москвы, толстуха совсем голову потеряла.
– Ай, матушки-светы! Владычица Небесная! Беда беду родит! Да как же так без Ивана Маркыча? Из воли его я выйти не смею. Нет, голубчик князь, как хочешь, а без него я тебя не пущу. Ах, ах! Погневили мы, знать, Господа… Да будет Его святая воля!
Курбскому стоило немалого красноречия вразумить ее, что ему необходимо воспользоваться тем временем, что сыщики еще во дворце и не выследили его снова.
– А ну, как нас-то здесь опосля притянут за то к Иисусу?
– За что? Да они и знать не будут, что я заходил еще домой. Но выбраться от вас мне надо все-таки с опаской и бережью. Кабы у тебя, матушка, нашлась для меня какая-нибудь одежда попроще…
– А и в самом деле! Для странников Божьих у меня одежки на всякий рост припасено. Сейчас тебя обрядим…
Обрадованная счастливой мыслью, толстуха выкатилась бочкой из комнаты.
И точно, в ее богатом запасе отыскалось как для Курбского, так и для Петруся все, что нужно было: странническое облаченье, скуфья, котомка и посох.
– А обличьем, все же, не странник! – заметила Платонида Кузьминишна, озабоченно оглядывая Курбского. – Из себя больно статен и пригож…
– Ну, это-то не долго справить, – сказал Петрусь. – Садись-ка, княже; я тебя живой рукой состарю.
Достав из печки золы и уголек, он золой навел своему господину на здоровый румянец щек серую тень, а угольком провел ему на лбу и около углов рта резкие морщины. Сделал он это настолько искусно, что Платонида Кузьминишна руками всплеснула.
– А ей-ей ведь не узнать: старик стариком!
– Тепрь только одежду подновить, – сказал Петрусь и новой порцией золы перепачкал Курбскому платье сверху до низу. – Лучше не надо! Вот тебе и посох в руки. Покажи-ка, старче, не разучился ли ходить. Э, нет! Нешто старые люди таким орлом выступают? Сгорби спину-то, ниже, ниже! А ноги переставляй как деревяшки. Ну, так, вот, вот!
– И смех и грех! – говорила, качая головой, Платонида Кузьминишна. – А ты, князь, теперича куда отсель?
– В Путивль, матушка, – отвечал Курбский. – Там, слышно, стоит со своей ратью царевич Димитрий.
– В Путивль! Вот подлинно: никто не может, так Бог поможет!
– А что?
– Да ведь у меня тут заправский странничек (вечор забрел), что туда же путь держит. Убогий человек, не в своем, кажись, разуме: один, того гляди, пропадет! До ночи вместе с ним мы Богу молились, чтобы послал ему доброго попутчика, – ан вот и нашелся! Ведь ты, князь, не откажешься взять его с собой?
– Ну, что ж, коли ему туда же, так отчего не взять. Когда, однако, хозяйка привела к нему будущего попутчика, Курбский готов был уже раскаяться, что согласился: так был на вид он стар и дряхл.
– Буди благословен, сын мой! – прошамкал старец, поправляя дрожащими руками котомку за спиной. – Пособи-ка подтянуть покрепче…
– Да донесут ли тебя, дедушка, ноги до Путивля? – спросил Курбский. – Ведь туда слишком семьсот верст.
– Доплелся сюда из Углича, так с Божьей помощью и до места доплетусь.
– Из Углича? – переспросил Курбский. – Где будто бы убит был царевич Димитрий?
Странник, в свою очередь, воззрился на него своими тусклыми глазами.
– Так, стало, это верно, что он еще жив и здрав? Курбский объяснил, что возвращается именно к царевичу.
– Да будешь же ты мне, сын мой, путеводной звездой! Лишь бы узреть мне его опять своими очами…
– А ты, дедушка, знал его еще в Угличе?
Старик, точно не слыша, молитвенно шевелил губами и крестил себе лоб и грудь. Курбский должен был повторить свой вопрос.
– Мне ли было его не знать! – отвечал странник. – Мне ли было его не знать!
– Но ты сам-то кто, скажи?
– Я-то кто? Видишь: убогий странник Божий.
– Но в ту пору был чем в Угличе?
– В ту пору в Угличе?.. Огурцом был.
– Огурцом? – повторил, недоумевая, Курбский. – Да звать-то тебя как?
– Так и зови. Был Огурцом и остался Огурцом.
Платонида Кузьминишна из-за спины старца указала Курбскому на лоб свой: на вышке, мол, у бедняги не в порядке, из ума выжил. Тут Петрусь напомнил своему господину, что пора, однако ж, и в путь-дорогу. И пять минут спустя три наши странника пробирались уже глухими закоулками к Калужской заставе.
- Три венца
- Сын атамана
- На Москву!