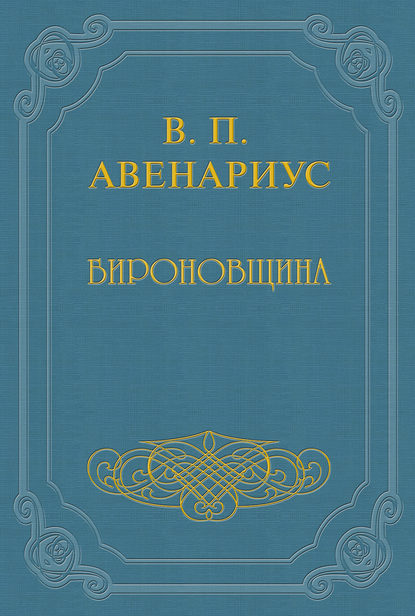Часть I
I. Гоффрейлина и деревенская простота
Обмѣнявъ корону герцогини курляндской на всероссійскій царскій вѣнецъ, императрица Анна Іоанновна первые два года своего царствованія провела въ Москвѣ. 16 января 1732 года совершился торжественный въѣздъ ея въ Петербургъ, гдѣ она и оставалась уже затѣмъ до самой кончины. Но питая еще, должно быть, не совсѣмъ пріязненныя чувства къ памяти своего Великаго дяди, взявшаго въ свои мощныя руки управленіе Россіей еще при жизни ея отца, а его старшаго, но хилаго брата, она не пожелала жить въ построенномъ Петромъ, на углу Зимней канавки и Милліонной, дворцѣ (въ настоящее время Императорскій Эрмитажъ) и предоставила его придворнымъ музыкантамъ и служителямъ; для себя же предпочла подаренный юному императору Петру II адмираломъ графомъ Апраксинымъ домъ по сосѣдству на берегу Невы (почти на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ стоитъ нынѣшній Зимній дворецъ) и, значительно его расширивъ, назвала «Новымъ Зимнимъ дворцомъ».
Не любила Анна Іоанновна и Петергофа, этой лѣтней резиденціи Петра I, гдѣ, кромѣ большого каменнаго дворца съ обширнымъ паркомъ и фонтанами, имѣлись къ ея услугамъ еще два деревенскихъ домика въ голландскомъ вкусѣ: Марли и Монплезиръ. Унаслѣдовавъ отъ своего дѣда, царя Алексѣя Михайловича, страсть къ охотничьей потѣхѣ, она ѣздила въ Петергофъ только осенью, чтобы охотиться, для чего въ тамошнемъ звѣринцѣ содержались всегда "ауроксы" (зубры), медвѣди, кабаны, олени, дикія козы и зайцы.
Для лѣтняго пребыванія Императорскаго Двора въ Петербургѣ хотя и имѣлся уже (существующій и понынѣ) петровскій Лѣтній дворецъ въ Лѣтнемъ саду, на берегу Фонтанки, но по своимъ не большимъ размѣрамъ и простой обстановкѣ онъ не отвѣчалъ уже требованіямъ новаго Двора; а потому тамъ же, въ Лѣтнемъ саду, но лицомъ на Неву, былъ возведенъ "новый Лѣтній дворецъ", настолько обширный, что въ немъ могли быть отведены особыя помѣщенія еще и для любимой племянницы государыни, принцессы мекленбургской Анны Леопольдовны, а также и для всесильнаго герцога Бирона.
Однимъ іюньскимъ утромъ 1739 года весь новый Лѣтній дворецъ былъ уже на ногахъ, а задернутыя оконныя занавѣси въ опочивальняхъ принцессы Анны и ея гоффрейлины, баронессы Юліаны Менгденъ, все еще не раздвигались: вѣдь и той, и другой было всего двадцать лѣтъ, а въ такіе годы утромъ дремлется такъ сладко!
Но вотъ каменные часы въ пріемной баронессы пробили половину девятаго. Нежившаяся еще въ постели, Юліана нехотя протянула руку къ колокольчику на ночномъ столикѣ и позвонила камеристкѣ Мартѣ, помогавшей ей одѣваться, а затѣмъ убиравшей ей и голову. Четверть часа спустя молодая фрейлина сидѣла передъ туалетнымъ зеркаломъ въ пудермантелѣ съ распущенными волосами, а Марта расчесывала ихъ опытною рукой.
Родомъ Марта была эстонка изъ крѣпостныхъ. Вынянчивъ маленькую баронессу въ родовомъ имѣніи Менгденовъ въ Лифляндіи, она, вмѣстѣ съ нею, переселилась и въ Петербургъ, когда, по смерти Юліаны, родной его братъ, президентъ петербургской коммерцъ-коллегіи, баронъ Карлъ-Людвигъ Менгденъ, выписалъ къ себѣ племянницу для оживленія своего дома. Когда же затѣмъ Юліана, расцвѣтшая гордой красавицей, была пожалована въ гоффрейлины принцессы, – вмѣстѣ съ нею во дворецъ попала и ея вѣрная Марта. По привилегіи прежней няни, Марта и теперь еще позволяла себѣ въ разговорѣ съ своей госпожой касаться сокровенныхъ ея тайнъ.
– Экая вѣдь краса! говорила она на родномъ своемъ языкѣ, любовно проводя черепаховымъ, въ золотой оправѣ, гребнемъ по пышнымъ темнорусымъ волосамъ баронессы, – Вотъ бы увидѣть хоть разъ меньшому Шувалову, – совсѣмъ бы, поди, голову потерялъ.
– Не называй мнѣ его, не называй! – прервала ее на томъ же языкѣ Юліана, и нѣжный румянецъ ея щекъ заалѣлъ ярче.
– Да почему не называть? – не унималась старая болтунья. – Слава Богу, кавалеръ изъ себя пригожій и ловкій, камеръ-юнкеръ цесаревны Елисаветы, пойдетъ, навѣрно, еще далеко…
– Пока онъ на сторонѣ цесаревны, – ему нѣтъ ходу.
– Такъ почему бы тебѣ, мой свѣтъ, не переманить его на свою сторону?
– Да онъ и не нашей лютеранской вѣры, а православный…
– Попросить бы государыню, такъ, можетъ, ему и разрѣшатъ перейти въ лютеранство.
– Такъ вотъ онъ самъ и перейдетъ!
– Да этакому шалому мужчинѣ все ни почемъ. При твоей красотѣ да при твоемъ умѣньи обходиться съ этими вѣтрогонами…
– Замолчи, замолчи!
– Я-то, пожалуй, замолчу, да сердца своего тебѣ не замолчать… Никакъ стучатся?
Легкій стукъ въ дверь повторился. Камеристка пошла къ двери и, пріотворивъ ее, стала съ кѣмъ-то шептаться.
– Ну, что тамъ, Марта? – спросила нетерпѣливо ея молодая госпожа. – Что имъ нужно?
Марта притворила опять дверь и доложила, что говорила съ пажемъ; прибыла, вишь, изъ деревни сестрица покойной младшей фрейлины, баронессы Дези Врангель.
– Можетъ подождать! – произнесла Юліана, насупивъ брови.
– Но вызвана-то барышня вѣдь, кажись, по желанію самой принцессы?
– Гмъ… А гдѣ она? Внизу y швейцара?
– Нѣтъ, тутъ же въ гостиной. Не лучше ли тебѣ ее все-таки принять?
– Хорошо; пускай войдетъ.
Въ комнату вошла робкими шагами дѣвочка-подростокъ того переходнаго возраста, когда неуклюжая отроковица въ какой-нибудь годъ времени превращается въ граціозную молодую дѣвушку. Простенькое траурное платье, сшитое, очевидно, деревенской мастерицей, было не въ мѣру коротко, а соломенная шляпка съ черными же лентами была стараго фасона и сильно поношена. Въ довершеніе всего дѣвочка сдѣлала такой уморительный книксенъ, не зная, куда дѣть свои длинныя руки, что не по годамъ степенная и холодная гоффрейлина не могла удержаться отъ легкой улыбки.
– Добраго утра, дитя мое, – сказала она ей по-нѣмецки и указала глазами на ближній стулъ: – садись. Я, какъ видишь, не совсѣмъ еще одѣта; но мы будемъ видѣться съ тобой теперь запросто всякій день, а потому стѣсняться мнѣ передъ тобой было бы глупо.
– Еще бы не глупо, – согласилась дѣвочка, присаживаясь на кончикъ стула; но, замѣтивъ, что улыбка исчезла вдругъ съ лица фрейлины, она поспѣшила извиниться: – Простите! Вѣрно я не такъ выразилась?
– Да, моя милая, при Дворѣ каждое свое слова надо сперва обдумать.
– Но увѣряю васъ, мнѣ и въ голову не приходило, что вы глупы…
– Вотъ опять! Если кто и выражается о себѣ рѣзко, то не для того, чтобы другіе повторяли.
– Сглупила, значить, я? Ну, не сердитесь! Вѣдь я же не нарочно…
Въ своемъ наивномъ раскаяніи дѣвочка такъ умильно сложила на колѣняхъ свои большія красныя руки, – что строгія черты Юліаны опять смягчились.
– Твое имя вѣдь, кажется, Елизавета?
– Да; но дома меня звали всегда Лилли.
– Такъ и я буду пока называть тебя этимъ именемъ. Ты лицомъ мнѣ напоминаешь покойную Дези; но она была, конечно, красивѣе тебя. Ты ничуть не заботишься о своей кожъ; только начало лѣта, а ты вонъ какая – совсѣмъ цыганка! Вѣрно, въ деревнѣ ходила безъ зонтика?
Лилли разсмѣялась.
– Potztausend! Да покажись я къ коровамъ съ зонтикомъ, онъ мнѣ въ лицо бы фыркнули!
– Такія выраженія, какъ "potztfusend!" и "фыркать" ты навсегда должна оставить. Здѣсь ты, благодаря Бога, не въ коровникѣ. Да ты сама, чего добраго, и коровъ доила?
Лилли вспыхнула и не безъ гордости вскинула свою хорошенькую головку.
– Доить я умѣю, умѣю бить и масло, потому что какъ же не знать того дѣла, которое тебѣ поручено? Я вела въ деревнѣ y моихъ родственниковъ все молочное хозяйство. Стыдиться этого, кажется, нечего.
– Стыдиться нечего, но и хвалиться нечѣмъ: баронессѣ такая работа, во всякомъ случаѣ, не пристала.
– Да какая я баронесса! Чтобы поддержать свое баронство надо быть богатымъ. Есть и богатые Врангели; но мы изъ бѣдной линіи; отецъ мой управлялъ только чужимъ имѣніемъ.
– Чьимъ это?
– А Шуваловыхъ въ Тамбовской губерніи. Когда отецъ умеръ, насъ съ Дези взяли къ себѣ родные въ Лифляндію.
– Тоже Врангели?
– Да, но изъ богатыхъ. Смотрѣли y нихъ за молочнымъ хозяйствомъ мы сперва вмѣстѣ съ Дези… Ахъ, бѣдная, бѣдная Дези!
При воспоминаніи о покойной сестрѣ глаза Лилли увлажнились.
– Да, жаль ее, жаль, – сочла нужнымъ выказать свое сочувствіе Юліана. – Говорила я ей, чтобы не ходила она къ больному ребенку тафель-деккера, что не наше это вовсе дѣло. Нѣтъ, не послушалась, заразилась сама оспой, и уже на утро четвертаго или пятаго дня ее нашли мертвой въ постели.
– Значить, ночью при ней никого даже не было! – воскликнула дѣвочка, и углы рта y нея задергало.
– Лечилъ ее придворный докторъ, онъ же давалъ всѣ предписанія, и намъ съ тобой критиковать его заднимъ числомъ не приходится.
– Да я говорю не о докторѣ, а o другихъ…
Фрейлина насупилась и сама тоже покраснѣла.
– О какихъ другихъ? Если ты говоришь обо мнѣ…
– Ахъ, нѣтъ! Простите еще разъ! Но я такъ любила Дези, и здѣсь, въ Петербурга, y меня нѣтъ теперь больше никого, никого!
– А я, по твоему, никто? По волѣ принцессы, тебѣ отведена комната тутъ рядомъ съ моею, чтобы я могла подготовить тебя для Высочайшаго Двора. Въ душѣ грустить тебѣ не возбраняется, но догадываться о твоей грусти никто не долженъ; понимаешь?
– Понимаю…
– Ты, можетъ быть, не слышала также, что государыня въ послѣднее время много хвораетъ? Сказать между нами, она страшно боится смерти. Поэтому она не можетъ видѣть ни печальныхъ лицъ, ни траурныхъ платьевъ. У тебя, надѣюсь, есть и нарядныя свѣтлыя?
– Есть одно бѣлое кисейное, которое мнѣ сдѣлали на конфирмацію.
– Стало быть, недавно?
– На Вербной недѣлѣ.
– И длиннѣе, надѣюсь, этого?
– О, да. Кромѣ того, въ немъ оставлена еще и складка, чтобъ можно было выпустить.
– Прекрасно; посмотримъ. А перчатки y тебя есть?
– Только дорожныя вязанныя; но пальцы въ нихъ прорваны…
Губы Юліаны скосились досадливой усмѣшкой.
– Я, пожалуй, одолжу тебѣ пару свѣжихъ лайковыхъ.
– Да на что въ комнатахъ перчатки?
– А что же, ты съ такими гусиными лапами и пойдешь представляться принцессѣ?
Лилли смущенно взглянула на свои "гусиныя лапы" и спрятала ихъ за спину, а незабудковые глазки ея расширились отъ испуга.
– Ахъ, Богъ ты мой! И какъ я стану говорить съ принцессой?
– Сама ты только, смотри, не заговаривай; отвѣчай коротко на вопросы: "да, ваше высочество", "нѣтъ, ваше высочество".
– Я завяжу себѣ языкъ узломъ… Или этакъ тоже не говорится?
Гоффрейлина возвела очи горѣ: будетъ ей еще возня съ этой "Einfalt vom Lande" (деревенской простотой)!
– Реверансы y тебя тоже совсѣмъ еще не выходятъ. Вотъ посмотри, какъ ихъ дѣлаютъ.
И, вставъ со стула, Юліана сдѣлала такой образцовый реверансъ, что y Лилли сердце въ груди упало.
– Нѣтъ, этому я никогда не научусь!
– При желаніи всему въ жизни можно научиться. Ну?
II. Неожиданная встрѣча
За нѣсколько минутъ до десяти часовъ баронесса Юліана повела Лилли къ принцессѣ. Дѣвочка была теперь въ своемъ бѣломъ «конфирмаціонномъ» платьѣ, съ цвѣтной ленточкой въ косичкѣ и въ бѣлыхъ лайковыхъ перчаткахъ. При приближеніи ихъ къ покоямъ Анны Леопольдовны, стоявшій y входа въ пріемную ливрейный скороходъ въ шляпѣ съ плюмажемъ размахнулъ передъ ними дверь на-отлетъ. Въ пріемной ихъ встрѣтилъ молоденькій камерпажъ и на вопросъ гоффрейлины: не входилъ ли уже кто къ ея высочеству? – отвѣчалъ, что раньше десяти часовъ ея высочество никого вѣдь изъ постороннихъ не принимаетъ.
– Это-то я знаю; но бываютъ и исключенія, – свысока замѣтила ему Юліана; послѣ чего отнеслась къ Лилли: – я войду сперва одна, чтобы доложить о тебѣ принцессѣ.
Лилли осталась въ пріемной, вдвоемъ съ камерпажемъ. Тотъ, не желая, видно, стѣснять дѣвочку, а можетъ быть и самъ ея стѣсняясь, удалился въ глубину комнаты; доставъ изъ карманчика камзола крошечный напилочекъ, онъ занялся художественной отдѣлкой своихъ ногтей. Лилли же въ своемъ душевномъ смятеньи отошла къ окну, выходившему на Неву. Хотя глаза ея и видѣли протекавшую внизу величественную рѣку съ кораблями, барками, лодками и плотами, но мысли ея летѣли вслѣдъ за гоффрейлиной, докладывавшей только что объ ней принцессѣ.
"Что-то она говорить ей про меня? Какъ я сама понравлюсь принцессѣ? Сдѣлаютъ ли меня также фрейлиной, или нѣтъ? Да и сумѣла ли бы я быть придворной фрейлиной? Вотъ испытаніе!"…
Она закусила нижнюю губу, чтобы не дать воли своему малодушію; но сердце y нея все-же продолжало то замирать, то сильнѣе биться.
Тутъ за выходною дверью раздались спорящіе голоса. Спрятавъ свой напилочекъ, пажъ съ дѣловой миной направился къ выходу и выглянулъ за дверь.
– Что тутъ за шумъ?
– Да вотъ, ваше благородіе, – послышался отвѣтъ скорохода, – человѣкъ Петра Иваныча Шувалова хочетъ безпремѣнно видѣть баронессу.
– А это что y тебя?
– Конфеты-съ, – отозвался другой голосъ.
– Такъ я, пожалуй, передамъ.
– Господинъ мой, простите, велѣлъ передать въ собственныя руки: не будетъ ли, можетъ, какого отвѣта. Гдѣ прикажете обождать?
– Пожалуй, хоть здѣсь въ пріемной, – снизошелъ камерпажъ: – баронесса сейчасъ должна выйти.
Лилли оглянулась на вошедшаго. То былъ молодой ливрейный слуга съ коробкой съ конфетами въ рукахъ. Она хотѣла уже отвернуться опять къ окошку, но молодчикъ издали поклонился ей, и въ этомъ его движеніи ей припомнилось что-то такое давно знакомое, да и глаза его были устремлены на нее съ такимъ изумленіемъ, что сама она вглядѣлась въ него внимательнѣе и вскрикнула:
– Гриша!
Молодчикъ съ новымъ поклономъ приблизился уже прямо къ ней.
– Вы ли это, Лилли?… Лизавета Романовна… – поправился онъ. – Какими судьбами?…
Все лицо его сіяло такою сердечною радостью, что и сама она ему свѣтло улыбнулась.
– Хоть одинъ-то человѣкъ изъ своихъ! – сказала она и покосилась на камерпажа.
Но тотъ деликатно отретировался снова въ свой дальній уголъ, гдѣ занялся прежнимъ важнымъ дѣломъ, не показывая вида, что слушаетъ. На всякій случай она все-таки заговорила тише:
– А я тебя, Гриша, съ перваго взгляда даже не узнала… Или тебя зовутъ теперь уже не Гришей, а Григоріемъ?
– Григоріемъ, а чаще того Самсоновымъ.
– Отчего не Самсономъ? Ты такой вѣдь великанъ сталъ, и усы какіе отростилъ!
– Усища! – усмехнулся, краснѣя, Самсоновъ и ущипнулъ пальцами темный пушокъ, пробивавшійся y него надъ верхнею губой. – Не нынче-завтра сбрить придется! – прибавилъ онъ со вздохомъ.
– Что такъ?
– А такъ, что при господахъ моихъ, Шуваловыхъ, я вторымъ камердинеромъ состою, камердинерамъ же, какъ и самимъ господамъ, усовъ не полагается. Но вы-то, Лизавета Романовна, за три года какъ выровнялись! Совсѣмъ тоже придворной фрейлиной стали: въ лайковыхъ перчаткахъ…
– А ты думаешь, онѣ мои собственныя? Фрейлина Менгденъ, спасибо, одолжила. Съ трудомъ вѣдь застегнула: руки y меня куда толще, чѣмъ y ней.
Для наглядности дѣвочка растопырила всѣ десять пальцевъ; но отъ этого одна пуговица отскочила.
– Вотъ бѣда-то! А y меня тутъ ни иголки, ни нитки…
– Такъ вы бы вовсе ихъ сняли, коли вамъ въ нихъ неспособно.
– Ну да! Мнѣ и то порядкомъ уже досталось отъ фрейлины за то, что лапы y меня красныя, какъ y гусыни, что загорѣла я, какъ цыганка.
– Здѣсь, въ Питерѣ, вы живо поблѣднѣете, похудѣете. За-то будете водить знакомство съ высокими особами, ходить въ шелкахъ-бархатахъ, кушать всякій день мармеладъ да пастилу, да шалей (желе)… А все же таки въ деревнѣ, я такъ разсуждаю, вамъ жилось вольготнѣй?..
– Ужъ не говори! А помнишь, Гриша, какъ мы скакали съ тобой верхомъ безъ сѣдла черезъ канавы да плетни? То-то весело было!
– Здѣсь зато вы можете ѣздить и зимой, хоть каждый день, мелкой рысцой или курцъ-галопомъ въ манежѣ.
– Въ манежѣ? Нѣтъ, все это не то, не то! Ach du liber Gott!
– Что это вы, Лизавета Романовна, ахаете по-нѣмецки? Словно нѣмка.
– А кто же я, по твоему?
– Какая ужъ вы нѣмка, Господь съ вами! Родились въ Тамбовской губерніи, говорите по-русски, какъ дай Богъ всякому, будете жить здѣсь при русскомъ Дворѣ. Покойный вашъ батюшка (царство Небесное!) тоже былъ вѣдь куда больше русскій, чѣмъ нѣмецъ.
– Это-то правда. Онъ не разъ, бывало, говорилъ намъ съ сестрой, что мы – вѣрноподданные русской царицы, а потому должны считать себя русскими. При крещеніи ему дали имя Рейнгольдъ, но называлъ онъ себя также по-русски Романъ.
– Изволите видѣть! Такъ и вы, Лизавета Романовна, смотрите, не забывайте ужъ никогда завѣта родительскаго. Вы будете здѣсь вѣдь въ нѣмецкомъ лагерѣ.
– Развѣ при здѣшнемъ Дворѣ разные лагери?
– А то какъ же: нѣмецкій и русскій. Мои господа, Шуваловы, – въ русскомъ, потому что оба – камеръ-юнкерами цесаревны Елисаветы Петровны.
– Но вѣдь сама-то государыня – настоящая русская, и принцесса Анна Леопольдовна теперь тоже, кажется, уже православная?
– Православная и точно такъ же, какъ сама государыня, въ дѣлѣ душевнаго спасенія и преданіяхъ церковныхъ крѣпка.
– Такъ что же ты говоришь?
– Да вѣдь государыню выдали замужъ за покойнаго герцога курляндскаго, когда ей было всего на-все семнадцать лѣтъ. Тогда-жъ она и овдовѣла, но оставалась править Курляндіей еще цѣлыхъ двадцать лѣтъ, доколѣ ее не призвали къ намъ на царство. Тутъ-то вмѣстѣ съ нею нахлынули къ намъ эти нѣмцы…
– Откуда, Гриша, ты все это знаешь?
– То ли я еще знаю! Вѣдь y господъ моихъ промежъ себя да съ пріятелями только и разговору, что про придворное житье-бытье. А я слушаю да на усъ себѣ мотаю.
– На свое усище? – усмѣхнулась Лилли. – Но нѣмцы, какъ хочешь, – народъ честный, аккуратный…
– Это точно-съ; отъ нѣмцевъ y насъ на Руси все же больше порядку. Да бѣда-то въ томъ (Самсоновъ опасливо оглядѣлся), бѣда въ томъ-съ, не въ проносъ молвить, что власть надъ ними забралъ непомѣрную этотъ временщикъ герцогъ…
– Биронъ?
– Онъ самый. А ужъ намъ, русскимъ людямъ, отъ него просто житья не стало; въ лютости съ русскими никакихъ границъ себѣ не знаетъ. Только пикни, – мигомъ спровадитъ туда, куда воронъ костей не заносилъ.
– Кое-что и я объ этомъ слышала. Да мало ли что болтаютъ? Если государыня дала ему такую власть, то вѣрно онъ человѣкъ очень умный, достойный, и есть отъ него большая польза. Что же ты молчишь?
– Да какъ вамъ сказать? – отвѣчалъ съ запинкой Самсоновъ, понижая голосъ до чуть слышнаго шопота. – Объ умѣ его что-то не слыхать; дока онъ по одной лишь своей конюшенной части; а пользы отъ него только его землякамъ, остзейцамъ, а паче того ему самому: два года назадъ, вишь, пожалованъ въ герцоги курляндскіе! А супругу его, герцогиню, съ того часу такая ли ужъ гордыня обуяла…
– Она вѣдь тоже изъ старой курляндской семьи фонъ-деръ-Тротта-фонъ-Трейденъ.
– И состоитъ при государынѣ первой статсъ-дамой, досказалъ Самсоновъ, – шагу отъ нея не отходить. Такъ-то вотъ подъ курляндскую дудку всѣ y насъ пляшутъ!
– И русская партія?
– Не то, чтобы охотно, а пляшетъ. Противоборствуетъ герцогу открыто, можно сказать, одинъ всего человѣкъ – первый кабинетъ-министръ, Волынскій, Артемій Петровичъ. Вотъ, гдѣ ума палата! На три аршина въ землю видитъ. Дай Богъ ему здоровья!
– Но я все же не понимаю, Гриша, что же можетъ подѣлать этотъ Волынскій, коли Бирону дана государыней такая власть?
– Много, вѣстимо, не подѣлаетъ; подъ мышку близко, да не укусишь. А все же государыня его весьма даже цѣнитъ. Прежде, бывало, она всякое утро въ 9 часовъ принимаетъ доклады всѣхъ кабинетъ-министровъ; а вотъ теперь, какъ здоровье ея пошатнулось, докладываетъ ей, почитай, одинъ Волынскій. И Биронъ его, слышь, побаивается. Кто кого сможетъ, тотъ того и сгложетъ.
– Это что-жъ такое? – насторожилась Лилли когда тутъ изъ-за оконъ донесся звукъ ружейнаго выстрѣла. – Какъ-будто стрѣляютъ?
– Да, это вѣрно сама императрица, – объяснилъ Самсоновъ. – У ея величества двѣ страсти: лошади да стрѣльба. Съ тѣхъ поръ же, что доктора запретили ей садиться на лошадь, y нея осталась одна лишь стрѣльба. Зато вѣдь и бьетъ она птицъ безъ промаха на лету, – не только изъ ружья, но и стрѣлой съ лука.
– Но ты, Гриша, такъ и не досказалъ мнѣ еще, изъ-за чего хлопочетъ ваша русская партія?
– А изъ-за того, что доктора не даютъ государынѣ долгаго вѣку. Буде Господу угодно будетъ призвать ее къ себѣ, кому воспріять послѣ нея царскій вѣнецъ: принцессѣ ли Аннѣ Леопольдовнѣ, или нашей цесаревнѣ Елисаветѣ Петровнѣ?
– Вотъ что! Но y которой-нибудь изъ нихъ, вѣрно, больше правъ?
– То-то вотъ, что разобраться въ правахъ ихъ больно мудрено. Цесаревна – дочь царя Петра, а принцесса – внучка его старшаго братца, царя Іоанна Алексѣевича[1]. Но какъ сама-то нынѣшняя государыня – дочь того же царя Іоанна, и принцесса ей, стало быть, по плоти родной племянницей доводится, то, понятное дѣло, сердце ея клонитъ больше къ племянницѣ, какъ бы къ богоданной дочкѣ, хотя та по родителю своему и не русская царевна, а принцесса мекленбургская. Эхъ, Лизавета Романовна! кабы вамъ попасть въ фрейлины къ нашей цесаревнѣ…
– Нѣтъ, Гриша, покойная сестра моя была фрейлиной при принцессѣ…
– Да вѣдь вы сами-то душой больше русская, а въ лагерѣ вороговъ нашихъ, не дай Богъ, совсѣмъ еще онѣмечитесь!
– Принцесса вызвала меня къ себѣ въ память моей сестры, и я буду служить ей такъ же вѣрно, – рѣшительно заявила Лилли. – Довольно обо мнѣ! Поговоримъ теперь о тебѣ, Гриша. Отчего ты, скажи, y своихъ господъ не выкупишься на волю?
Наивный вопросъ вызвалъ y крѣпостного камердинера горькую усмѣшку.
– Да на какія деньги, помилуйте, мнѣ выкупиться? Будь я обученъ грамотѣ, цыфири, то этимъ хоть могъ бы еще выслужиться…
– Такъ обучись!
– Легко сказать, Лизавета Романовна. Кто меня въ науку возьметъ?
– Поговори съ своими господами. Поговоришь, да?
– Ужъ не знаю, право…
– Нѣтъ, пожалуйста, не отвертывайся! Скажи: "да".
– Извольте: "да".
– Ну, вотъ. Смотри же, не забудь своего обѣщанія!
Въ разгарѣ своей оживленной бесѣды друзья дѣтства такъ и не замѣтили, какъ гоффрейлина принцессы возвратилась въ пріемную. Только когда она подошла къ нимъ вплотную и заговорила, оба разомъ обернулись.
– Что это за человѣкъ, Лилли? – строго спросила Юліана по-нѣмецки.
Какъ облитая варомъ, дѣвочка вся раскраснѣлась и залепетала:
– Да это… это молочный братъ мой…
– Молочный братъ? – переспросила Юліана обмѣривая юношу въ ливреѣ недовѣрчивымъ взглядомъ. – Онъ много вѣдь тебя старше.
– Всего на три года.
– Такъ его мать не могла же быть твоей кормилицей?
– Кормила она собственно не меня, а Дези. Но такъ какъ Дези мнѣ родная сестра, то онъ и мнѣ тоже вродѣ молочнаго брата.
– Какой вздоръ! Съ той минуты, что ты попала сюда во дворецъ, этотъ человѣкъ для тебя уже не существуетъ; слышишь?
– Но онъ игралъ съ нами въ деревнѣ почти какъ братъ, научилъ меня ѣздить верхомъ… даже безъ сѣдла…
– Этого недоставало!
Фрейлина круто обернулась къ Самсонову и спросила по-русски, но съ сильнымъ нѣмецкимъ акцентомъ:
– Ты отъ кого присланъ?
– Отъ господина моего, Шувалова, Петра Иваныча, къ вашей милости. Вы изволили намедни кушать съ нимъ миндаль – Vielliebchen; такъ вотъ-съ его проигрышъ.
Нѣжно-розовыя щеки молодой баронессы зардѣлись болѣе яркимъ румянцемъ.
– Хорошо, – сухо проговорила она, принимая конфеты.
– А отвѣта не будетъ?
– Нѣтъ! Идемъ, Лилли; принцесса уже ждетъ тебя.