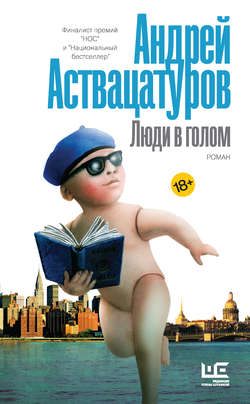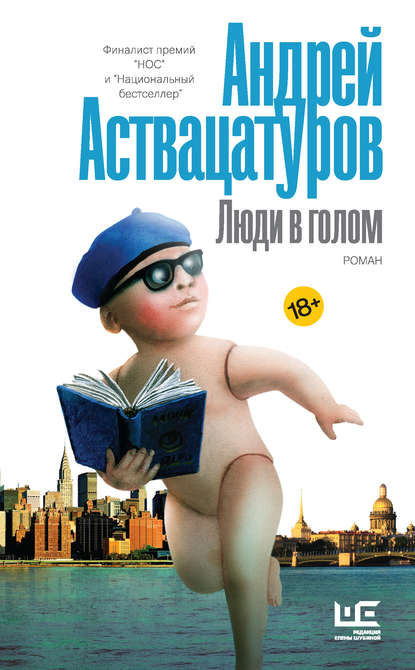На переплете иллюстрация Юлии Гуковой (передняя сторонка)
и фото автора Екатерины Ожигановой (задняя сторонка)
© Аствацатуров А. А.
© Бондаренко А. Л., художественное оформление
© Ожиганова Е. А., фото
© ООО “Издательство АСТ”
* * *
«Человек ведь тем и интересен, что он непредсказуем, что он уклоняется от всех стандартов и предписаний. Что он сам по себе. Что он одинокий, голый, бесприютный на голой земле, равный самому себе. И живущий без оглядки».
Андрей Аствацатуров
В этом герое главное, что он совсем не имеет отношения ни к чему, что традиционно связано с образом «интеллигента». Не, он, конечно, цитирует Розанова и умело управляется с русским языком, но в остальном он просто свой парень с некоторым запасом смешных историй, чтобы их рассказать.
Лиза Биргер, «Коммерсант»
Аствацатуров – филолог, и кому как не ему знать: «Прочитав книги, люди глупеют окончательно, и тогда с ними можно делать все что угодно». «Люди в голом» мешают людям глупеть.
Михаил Трофименков, «GQ»
Часть первая
Первая любовь
Как-то раз я заговорил со своей девушкой о том, что люди часто влюбляются в теле- и кинозвезд. В этом нет ничего удивительного: люди не могут жить без идеалов. Но в самой любви к звездам есть, как мне кажется, навязчивая логика. Один мой знакомый в пору своей юности был влюблен в итальянскую актрису Монику Витти. Он потом написал диссертацию о Чехове. Другой – в Мэрилин Монро. Теперь он руководит сетью торговых точек. Третий – в американскую порнозвезду. Он человек криминального склада, работает бандитом в небольшом провинциальном городе.
Я стал думать о себе и вспоминать. В закоулках памяти, наконец, обнаружил, что подобным образом был влюблен два раза. Первый раз – где-то в середине – конце семидесятых – в певицу Таисью Калинченко. Мне очень хотелось, чтобы она стала моей женой. Второй раз – в актрису Белохвостикову.
Это имело место уже в самом начале восьмидесятых, и моя влюбленность предполагала более легкомысленные отношения. Своей девушке я так и не смог объяснить, кто это такие.
Вспомнил, что Таисья Калинченко пела песню про лесного оленя, который должен был ее (Таисью) “умчать в страну оленью”.
Или, может, это Ведищева пела про лесного оленя?
Во всяком случае, Таисья Калинченко сыграла эпизодическую роль медсестры в длинном фильме “На всю оставшуюся жизнь”. И за это я ее полюбил. Полюбил больше, чем маму и дедушку, больше, чем самого себя, больше, чем Ленина.
В актрису Белохвостикову я влюбился, когда посмотрел фильм “Легенда о Тиле”.
И кто из меня получился?
А девушка вскоре после этого разговора меня бросила. Она уехала в Египет на Красное море работать аниматором.
Первые учителя
Мне с детства казалось, да и сейчас кажется, что я ненастоящий. Что я игрушка, в которую люди почему-то неправильно играют. Но это чувство пришло не сразу. Я с самого начала не доверял миру. Но, по правде говоря, он чаще привлекал меня, чем отталкивал. А потом мой одноклассник Витя Андреев случайно описался на уроке математики.
Этот Витя мне очень нравился. Не подумайте только ничего. Он мне виделся не в томас-манновском голубоватом свете (“дай карандаш, мальчик, меня дядя Густав зовут, а я тебе за это Венецию покажу”), а в общечеловеческом.
На групповой фотографии нашего первого класса “В” – двадцать пять круглых румяных физиономий. Карикатурные гномы из диснеевского мультика про Белоснежку. И только у Вити лицо вдохновенного романтического героя. Грустные глаза и черные кудри. Таким, наверное, было лицо Байрона, когда он сидел за партой в Хэрроу и, забыв об уроке, сочинял свои первые стихи. Рядом на фотографии – Валентина Степановна, наша первая учительница, женщина неопределенного возраста в голубом кримпленовом платье. Она укоризненно и назидательно смотрит в фотообъектив. На правой щеке большая родинка.
Вите не повезло. Он пошел в школу, предварительно не выучившись читать. Теперь, по прошествии стольких лет, неумение читать кажется мне безусловным преимуществом, великим даром, на который способны родители, действительно, по-настоящему любящие своих детей. В книгах нечего ловить и нечего искать. Их сочиняют для того, чтобы превратить неорганизованное людское стадо в организованное.
Прочитав книги, люди глупеют окончательно, и тогда с ними можно делать все что угодно.
Витя читать не умел и потому был гораздо сообразительнее всех нас.
Но в школе так не считали. Витя числился отстающим. Ему стоило огромных усилий заучить буквы. Он уставал, пытался передохнуть. И тут выяснялось, что запоминать буквы недостаточно. Их нужно соединять в слова и правильно записывать. Другие уроки Витю отвлекали. На них нужно было заучивать массу всего сложного, малопонятного и ненужного, цифры, например, и тут же с ними что-то делать: вычитать, складывать, разбирать, какая из них больше другой. От всего этого у Вити голова шла кругом. Он ничего не успевал. Валентина Степановна сердилась и ставила Вите двойки.
“Кто не успевает, Андреев, – тот бывает неуспевающим!” – назидательно говорила она всякий раз, когда заносила ручку над его дневником.
Помню, в ноябре к нам пришла завуч младших классов Галина Павловна. Сухая старушка. Лицом она мне напоминала полярную сову. Я таких сов видел по телевизору в передаче “В мире животных”. На кончике носа у Галины Павловны настороженно поблескивали очки в тоненькой золотой оправе – подарок каких-то благодарных родителей.
Мы сталкивались с Галиной Павловной в коридоре на переменах.
Она смотрела на нас с нескрываемой ненавистью. Если кто-то пытался бегать, она истошно кричала:
– Стой на месте! – и зловеще шипела: – Др-р-рянь такая! Зла не хватает!
Так вот эта Галина Павловна пришла проверять, с какой скоростью мы читаем и сколько слов сможем прочесть за минуту. Всех выгнали за дверь, а потом вызывали в класс по одному, совали в руки книжку и заставляли читать вслух. Мы стояли в коридоре и тряслись от страха. Некоторые то и дело бегали в туалет.
Меня вызвали одним из первых.
Я сел за парту, взял книжку и стал быстро читать сбивающимся от волнения голосом.
– Не части́! – перебила меня в какой-то момент Валентина Степановна. – Читай с чувством, с толком, с расстановкой!
– Чего? – не понял я.
– Чего-чего, – передразнила она. – Не “чего”, а “что”! Читай давай! Время-то идет!
Я читал до тех пор, пока Галина Павловна не сказала “стоп”.
– Теперь надо выяснить, – повернулась она к Валентине Степановне, – понял ли он, – тут она кивнула в мою сторону, – что прочел. – Вот… – она ткнула пальцем в книгу, – что это значит?
– Что? – испугался я.
– Вслух прочти! Горе луковое! – вмешалась Валентина Степановна.
– Царская Россия, – начал читать я, – была тюрьмой народов. Царь и помещики держали народы в невежестве и покорности.
– Стоп! – скомандовала Валентина Степановна. – Как ты это понял?
Я молчал.
– Как понял, я тебя спрашиваю?! – повысила она голос.
Я в страхе покосился на массивное обручальное кольцо у нее на пальце.
– Ну, царские помещики… того… всех обижали… особенно бедных, рабочих и кресть…
– При чем тут бедные?
Я замолчал.
– Аствацатуров! Объясни нам, что значит слово “невежество”!
Я молчал.
– Невежество – это ты! – выдохнула наконец Валентина Степановна. Прическа “тюльпан” в стиле пятидесятых, напоминавшая огромный кукиш, яростно закачалась у нее на голове. – Позор какой! Выйди и позови… кто там по списку… Настю Батурину.
Потом выяснилось, что я успел прочитать шестьдесят три слова.
Я забыл рассказать, что до меня такой же процедуре подвергли Витю Андреева. Бедный Витя за минуту сумел одолеть только четыре слова.
– Хулиганство! – кричала на него завуч. Нас всех уже закончили экзаменовать и запустили в класс, чтобы объявить результаты. – Лодырь! Немедленно родителей ко мне! Чтоб завтра же!
Валентина Степановна, стоя рядом с Галиной Павловной, буравила Витю взглядом, словно хотела его насквозь проткнуть.
После этого случая Витю окончательно записали в “отпетые”. Что бы Витя ни делал – его всегда ругали.
Прошел год. Витя по-прежнему отставал. Однажды на уроке математики он вдруг расплакался.
– В чем дело? – ледяным тоном спросила Валентина Степановна.
Оказалось, что Витя описался.
Об этом доверительным шепотом Валентине Степановна сообщила Оля Семичастных, отличница. Ее посадили рядом с Витей, чтобы она его “подтягивала” как отстающего.
Витя описался. Он тянул руку, чтобы попроситься выйти, тянул, тянул изо всех сил, но Валентина Степановна его не заметила.
И Витя описался.
Помню, как он стоял у доски слева от стола Валентины Степановны и плакал, растирая слезы по щекам.
А Валентина Степановна, красная от возмущения, кричала:
– И не жалоби меня! Сам виноват! Если б это произошло с хорошим учеником, я бы еще поняла и простила! Но это сделал ты, лодырь и двоечник! Иди с глаз моих!
Витя, рыдая, поплелся к двери.
Мы все смотрели на него с презрением и жалостью.
Когда я пришел домой, то первым делом рассказал папе, что Витя Андреев описался.
– Да? Вот как? – рассеянно ответил папа. Он читал газету, и ему явно не хотелось на меня отвлекаться. – А ваша эта, как ее, Валентина Степановна… что она?
– Очень сердилась. Сказала, что если б это произошло с хорошим учеником, то она бы его простила.
Папа вытаращил глаза. И помотал головой в недоумении.
– То есть как? Так и сказала?
– А что?.. – удивился я. – Что тут неправильного?
– Правильно, правильно, – сказал папа и как-то странно хохотнул. Я никогда прежде не слышал в его голосе таких интонаций. – Выходит так: если ты двоечник – веди себя тихо и писаться не смей! А если отличник, вроде вашего Лёши Петренко, то ссы и сри в штаны сколько душе угодно. Никто слова поперек не скажет!
Я испугался, услышав это. Мне захотелось, чтоб поскорее наступило лето и меня бы повезли на дачу в Комарово…
Одноклассники меня любили. Кажется, так. А может, и нет. Не помню. За что меня было любить? Наш класс боролся за какое-то там переходящее знамя, а я плохо учился, снижал все показатели и вдобавок был очкариком.
Меня называли “очкарик – в жопе шарик”, а Миша Старостин, когда мы в четвертом классе поссорились, придумал мне обидную кличку Очкастая Кобра.
Когда всех принимали в пионеры, меня приняли самого последнего.
Валентина Степановна сказала мне тогда при всех:
– У тебя, Аствацатуров, волосатое сердце.
А я оказался даже не в силах понять, что это она мне сказала…
Учитель физики по кличке Угрюмый, напротив, был не столь изысканно-метафоричен. Однажды он обдал меня прокуренным дыханием и назвал “умственным убожеством”.
Угрюмому было лет семьдесят. Он был стар и мудр. А я – молод и глуп. У него вообще-то была фамилия, я просто забыл. Такая дурацкая и угрюмая, под стать ему самому.
Угрюмый любил Есенина и Пушкина. Иногда на школьных вечерах он читал их стихи наизусть, и на глаза у него наворачивались слезы. Закончив стихотворение, он доставал из кармана брюк носовой платок и шумно чистил нос. А еще он любил нас всех воспитывать. Особенно меня. Все разговоры со мной у него почему-то сводились к одной формулировке: он умный, а я, соответственно, дурак. Я как-то поинтересовался, где это он приобрел такой запас мудрости, что его хватило на семьдесят лет. (Дерзить старшим я стал довольно поздно. И это была одна из первых попыток. Мне было пятнадцать.) Угрюмый посмотрел на меня с презрением. Но удостоил ответом.
Оказалось, он поумнел на фронте, в 1945 году, во время Балатонской операции. Угрюмый, тогда еще молодой и кудрявый, сидел в окопе вместе со своим другом. Друг ел кашу и радостно причмокивал. Угрюмый свою кашу уже доел. Но ему хотелось еще. Он с неприязнью смотрел на своего друга, который ловко орудовал алюминиевой ложкой. Внезапно послышался пронзительный свист, а затем чудовищный грохот. Угрюмый закрыл глаза и повалился на дно окопа. Когда он их открыл, друг сидел в той же позе, только у него теперь не было головы. Ее оторвало осколком снаряда. Зато обе руки были на месте. И они по-прежнему прижимали к груди миску с кашей. Угрюмый не растерялся. Он аккуратно разжал другу пальцы, забрал миску и спокойно доел кашу.
– Так я поумнел, – говорил мне Угрюмый. – Каша моему другу теперь была не нужна. Да и чем бы он ее смог есть?
История эта мне не понравилась. Роман Луи-Фердинанда Селина “Путешествие на край ночи”, где подобные сцены встречаются чуть ли не на каждой странице, я к тому моменту еще не успел прочитать. Я собрал свои вещи и вышел, не взглянув в его сторону и не попрощавшись. Потом мы два года враждовали. Я никогда с ним не здоровался и не отвечал на его вопросы. Я даже не реагировал, когда он пытался меня задевать. Я говорил с ним только тогда, когда он вызывал меня к доске, да и то с неохотой.
Вскоре после того как мы закончили школу, он умер. Мне даже позвонил кто-то из одноклассников и позвал на похороны. Но я не пошел.
Мои одноклассники очень уважали Угрюмого. И хорошо учились по его предмету. Тройки были только у меня и у одного мальчика из соседнего класса.
Хм…
Спи спокойно, дорогой учитель. Ты не зря страдал и боролся.
В наших супермаркетах можно найти кашу на любой вкус.
Бассейн
Кстати, мое поступление в школу доставило родителям много хлопот. Помню, они страшно суетились, куда-то бегали, кому-то звонили, подключали чьих-то родственников.
В итоге я поступил.
Школа, куда меня определили, считалась элитарной, с углубленным изучением английского языка. Родители были счастливы, но дали мне понять, что для такого оболтуса, как я, это большая честь.
– Обещай мне, что будешь получать только “пятерки”! – строго требовал папа.
Я обещал. И даже первое время старался изо всех сил. Но потом что-то произошло. И даже не потом, а почти сразу. С одноклассниками у меня вроде бы конфликтов не возникало. Дети как дети. Я никого не задирал по причине слабого здоровья. И меня, в свою очередь, никто не трогал.
Дело было в учителях. Они оказались совсем не похожими на тех взрослых, которые приходили в гости к моим родителям. Особенно учитель физкультуры Александр Палыч.
Я постепенно становился все более рассеянным. На уроках по математике “постоянно вертелся”, как говорила моей маме наша учительница Валентина Степановна.
В общем, отличника из меня не вышло. Пятерки иногда появлялись в моем дневнике. Но четверок и троек было больше. Иногда я даже получал двойки. Но они не расстраивали. В каждой я различал изящный изгиб лебединой шеи, который можно было подолгу разглядывать. У родителей на этот счет было другое мнение. Поначалу меня ругали, наказывали и даже пытались “серьезно поговорить”. Потом – просто махнули рукой.
В некоторых еврейских семьях подобные проблемы решаются просто. Ребенка начинают усиленно раскармливать.
– Мой Додик – не гений. Это ясно… Зато пусть будет толстый, – заявляет своей свекрови за обедом одесская мамаша. Тут же рядом сидит упитанный Додик и с аппетитом доедает котлету. Потом он встанет из-за стола (“Додик! Шо нужно скызать?” – “Спасибо!” – “Вот так!”), украдкой возьмет из вазочки в серванте конфеты, рассует их по карманам и радостно побежит играть во двор.
Я вырос не в Одессе, а в Ленинграде. Поэтому меня не стали раскармливать. Некоторое время я был предоставлен самому себе. Но потом за меня снова взялись и решили записать в бассейн. Мне эта идея почему-то сразу не понравилась. Вода была исключительно дачным развлечением, а в городе я и мой приятель Лёша Безенцов предпочитали гонять по двору резиновый мяч.
Родители не поощряли моей дружбы с Безенцовым. Они, видимо, подозревали, что его мнение для меня гораздо важнее их собственного.
– Безенцов этот, я погляжу, твой духовный вождь, – иронически говорил папа.
Выражение “духовный вождь” мне очень нравилось. Я его тогда часто повторял.
– А кто у тебя духовный вождь? – спросил я однажды папу.
– Иммануил Кант, – коротко бросил папа, и больше с подобными вопросами я к нему не приставал.
Бассейн политехнического института, серое уродливое здание, располагался напротив нашего дома, через дорогу. В холле было много народу: дети, их родители, дедушки, бабушки. Все толпились возле какой-то стеклянной двери. Оттуда время от времени высовывалась тетка в тренировочном костюме с бумажкой в руке и выкликала чью-нибудь фамилию. Наконец дошла очередь и до меня. Наверное, не стоит рассказывать, как внимательно тетка вглядывалась в бумажку и, спотыкаясь, пыталась воспроизвести то, что там было написано.
– Авцар… нет… Ацвара… бог ты мой… Астаравацуров! – выдавила она наконец, и я, услышав это сочетание звуков, догадался, что речь идет, по-видимому, обо мне.
Я протиснулся сквозь толпу детей к тетке, поднял голову и робко сказал:
– Аствацатуров…
– Что? – удивилась она.
– Меня зовут Андрей Аствацатуров.
– Астра… ладно, проходи, мальчик. Побыстрее. По лестнице на второй этаж. Тренер уже ждет. Плавки с собой?
– Да.
– Полотенце? Мыло?
– У него все есть! – подскочила мама. – Андрюша! У тебя все в пакете… в полиэтиленовом.
Тетка посторонилась, чтобы пропустить меня, а потом громко объявила:
– Так… приготовиться Баранову!
В бассейн меня так и не записали. Тренер Ангелина Пална сказала, что я болтун.
– Нам здесь таких болтунов не надо! – добавила она строго. – У нас своих болтунов хватает.
Я сидел на низенькой длинной скамейке и дрожал от холода. Мокрый и почти голый. На мне были только синие плавки и резиновая шапочка. Незадолго до этого меня попросили проплыть несколько метров. Я проплыл. Потом вылез из бассейна и, увидев на скамейке своего одноклассника Андрея Ложечникова, подсел к нему. Мы стали тихонько разговаривать.
– Болтун! – подытожила Ангелина Пална. Она сунула мне в руки листок бумаги. – На́ вот! Отдай маме.
Это было медицинское направление в бассейн. На другой стороне в правом верхнем углу крупным почерком значилось: “НЕ ПОДХОДИТ”.
– Как “не походит”?! Почему?! – закричала мама, когда я протянул ей листок. Я уже оделся, спустился вниз, и мы стояли в холле.
– Андрюша! – теребила меня мама. – Что значит “не подходит”? Ты спросил, почему?
Мне вдруг стало страшно и захотелось плакать.
– Почему?! – продолжала допытываться мама.
Я молчал.
– Андрюша! Я с тобой разговариваю или с кем? Что тебе сказали?
– Потому… что я… болтун… – выдавил я наконец.
– Что? – не поняла мама. – Глупости! Пойдем!
С этими словами она потащила меня за рукав к какому-то лысому мужчине-физкультурнику, который со скучающим видом сторожил все ту же стеклянную дверь.
– Да? Что у вас? – спросил он рассеянно.
– Вот! – сказала мама и сунула ему мою медицинскую справку. – Ребенок прекрасно плавает. С пяти лет. Мы каждый год ездим в Крым…
– Та-а-ак, – мужчина уткнулся в бумажку и прочитал вслух: – “Не подходит”. Гм… – Тут он на мгновение задумался, а потом вернул маме справку: – Да вы не волнуйтесь так, мамаша. Ничего страшного. Просто он нам не подошел. Видите, ребенок у вас слабенький, маленького роста. Нам такие не подходят. Ему надо побольше спортом заниматься, физкультурой…
– Но ведь… – тут мама наморщила лоб и заморгала. – Позвольте… Я ведь… собственно… его и привела сюда для этого… чтоб спортом заниматься.
Физкультурник улыбнулся и развел руками.
Так закончилась моя спортивная карьера. Едва успев начаться. Я остался слабым, худеньким, тщедушным. В восьмидесятые годы, когда в моде были бицепсы, трицепсы, а также Сталлоне и Шварценеггер в качестве убедительного приложения к ним, у меня появились серьезные комплексы. Одноклассники надо мной посмеивались. Потом мода изменилась. Но комплексы остались.
Недавно, проведя очередную пару в университете, я зашел в буфет. За крошечным столиком в углу сидели мои коллеги, Наталья Семеновна и Даша. Я кивнул им и встал в очередь.
– Андрей! – позвала меня Наталья Семеновна.
– Да, – повернулся я к ним.
– Мы с Дашей давно уже хотели сказать. Вам очень идет этот черный свитер. Вы в нем такой элегантный мужчина…
– Во мне мужского, Наталья Семеновна, – ответил я словами Розанова, – только брюки.
Наталья Семеновна улыбнулась.
– Андрей напрашивается на комплимент, – кивнула она Даше. – А мы вот назло не будем делать ему комплименты. Правда, Даша?
– Не будем, – согласилась Даша.
– Кстати, Андрей, – продолжила Наталья Семеновна, – кокетство, действительно… как бы вам сказать… не совсем мужское качество… Лучше берите кофе и подсаживайтесь к нам.
Игрушки и череп
В 1976 году я вряд ли кому-то мог показаться элегантным мужчиной. Разве что бабушке. Бабушки всегда умиляются своим внукам. Старики и дети ведь очень похожи. Например, и тем и другим требуются игрушки. Разница лишь в том, что дети играют пластмассовыми игрушками, а старики ничего такого позволить себе не могут. Иначе их отправят в дом для маразматиков. Но играть все равно хочется. Поэтому пожилых людей чаще, чем молодых, назначают руководителями, директорами заводов, премьер-министрами, школьными учителями. В результате получается даже лучше, чем у детей. Интереснее. Ведь игрушки пожилых людей живые. Они ходят, бегают, разговаривают, смеются, плачут. Почти как настоящие пластмассовые.
У меня, как и у всех, было две бабушки. Так вот одна действительно мною умилялась. И даже привезла мне в подарок иностранных пластмассовых индейцев. Другая, напротив, с самого начала была невысокого мнения о моих умственных способностях. Когда мне было восемнадцать лет и я уже учился в университете, она все еще сомневалась, есть ли смысл посылать меня в магазин за хлебом. Вдруг я не справлюсь…
– Ты такой несобранный, – сетовала бабушка. – Бери пример со своей двоюродной сестры.
Тут же рядом стояла моя двоюродная сестра. Круглая отличница. Она заканчивала школу. Ее лицо выражало готовность сразу же действовать, если старшие чего-нибудь попросят. В свою очередь, моя физиономия ничего подобного не выражала. А если что-то и выражала, то как раз ровно обратное: готовность послать всех, особенно старших, в задницу.
– Какой же ты все-таки несобранный! – продолжала вздыхать бабушка. Это было совершеннейшей неправдой. В университете я проявлял “собранность”, какой мог позавидовать любой самый занудный отличник. А вот в школе все было действительно по-другому. Почему, я и сам не знаю.
Школа меня раздражала. Уроки казались скучными и тянулись до бесконечности. На переменах мне тоже не нравилось. Было слишком шумно. Когда вокруг тебя на протяжении двадцати минут все вопят, прыгают и толкаются, это очень утомительно.
– А ты дружи с тихими ребятами, – посоветовал мне папа, – с теми, кто хорошо себя ведет и хорошо учится. И тогда тебе в школе будет интересно.
Сейчас, по прошествии стольких лет, мне кажется, что папа лелеял эту мысль – ну, чтобы его сын общался только с отличниками, – еще когда я ходил в детский сад. Папино воображение, наверное, рисовало такую картину: его сын, школьник младших классов – естественно, круглый отличник, возвращается домой, делает уроки. Потом, ближе к вечеру, к нему (то есть ко мне) приходят в гости друзья, тоже отличники. Каждый в белой рубашке, в выглаженной школьной форме, и обязательно в сопровождении родителей, очень интеллигентных и милых. Папа нас рассаживает полукругом возле старенького проигрывателя, и мы все вместе начинаем слушать мазурки Шопена или что-нибудь в том же духе. Музыку нужно подобрать правильно. Непременно чтобы классический репертуар, но на первых порах не слишком сложный. Тут главное не перегнуть палку. Не Скрябин, не Шёнберг – семилетним детям может показаться скучновато, а именно Шопен. Шопен – это то, что нужно. В самый раз. Затем взрослые пойдут на кухню пить чай и вести серьезные разговоры, а дети предадутся невинным развлечениям: поиграют в шахматы или в лото.
Когда у меня появлялся приятель и я сообщал об этом родителям, отец непременно спрашивал, как он учится. Я старался уклониться от прямого ответа. Если выяснялось, что приятель учится хорошо, то папа очень сердился и говорил:
– Вот видишь! Мальчик хорошо учится! И родители, наверное, им довольны. Только вот ты у нас такой оболтус.
А если новый приятель учился средне, то папа сердился еще больше и кричал маме:
– Видишь, Верочка! Нет чтобы дружить с хорошими мальчиками. Так ведь специально выбирает каких-то двоечников и лодырей.
Папа вообще часто бывал мною недоволен. Причем по самым неожиданным поводам. Помню, как-то раз меня оставили дома одного. Я сидел за столом и играл. Игрушек было немного. Набор бабушкиных пластмассовых индейцев и две шеренги революционных матросов со штыками наперевес. Их мне подарила мама. По сюжету мои индейцы сидели в крепости, сделанной из иностранных пивных банок. Такие пивные банки в семидесятых годах были большой редкостью, и выбрасывать их никому не приходило в голову. Революционные матросы почему-то выступали у меня в роли колонизаторов. У них была задача взять крепость штурмом. Вариантов развития сюжета было несколько. Но, как правило, полуголые индейцы побеждали. Папа, кстати, всегда злился, когда я играл в индейцев и матросов, и кричал:
– Опять ты своих чертей выложил! Лучше бы делом занялся! Книжку почитал или музыку послушал. Мазурки Шопена…
Поэтому играть в индейцев я мог только когда находился дома один. Но это, слава богу, случалось не так уж редко. Мама и папа много работали.
И вот я в очередной раз остался дома наедине с индейцами, революционными матросами и пивными банками. Я еще тогда хотел пустить в дело рыцарскую дружину из игрушечного набора “Ледовое побоище”, который мне только что подарили. И пытался определиться, за кого же все-таки будут сражаться рыцари: за индейцев или за революционных матросов. Наконец, я решил, что рыцари – русская и немецкая дружина – вероломно нападут на тех и других, а индейцы и матросы в условиях новой опасности объединятся. И в тот момент, когда я выстроил дружину на обеденном столе в боевом порядке, раздался телефонный звонок.
Я снял трубку и услышал пожилой мужской голос:
– Попросите, пожалуйста, Веру!
– Мамы дома нет. Она в магазине, – ответил я и тут же вспомнил фразу, которой меня выучили: – А что ей передать?
– Передайте, – сказали мне, – что звонил Балашов. Из Москвы. По важному делу.
Вскоре с работы вернулся папа. К тому моменту я закончил играть и успел спрятать своих “чертей” в нижний ящик письменного стола. Индейцы и матросы, как и предполагалось изначально, победили.
– Где мама? – спросил он меня.
– В магазин ушла. Сказала, что в магазине на Тореза обещали выбросить кур по рубль семьдесят пять.
Я тогда плохо представлял себе, что такое “куры по рубль семьдесят пять” и чем они отличаются от других. Но догадывался, что раз у них такое длинное название, значит, это не простые куры, а какие-то особенно хорошие и за ними нужно долго стоять в очереди.
– Понятно… – сказал папа. – А ты тут чем занимался?
– Домашнюю работу делал, – соврал я. – Нам примеры задали. А еще маме звонили из Москвы…
– Из Москвы? Кто? – удивился папа.
– Звонил… – тут я собрался с мыслями, – Башколов.
Папа почему-то очень рассердился:
– Звонил Балашов! Слышишь! БА-ЛА-ШОВ! Николай Иванович Балашов. Член-корреспондент Академии наук… Понятно?! А “башколов” – это ты!
С этими словами он ушел на кухню курить, и наш разговор прервался.
Вероятно, папа уже тогда начинал понимать, что ему все сложнее влиять на ситуацию. Осуществление проекта детского музыкального салона явно откладывалось на неопределенное время. И все же отец лелеял надежду ввести меня в круг приличных детей.
– Тебе надо побольше общаться с отличниками, – твердил он мне.
– Они все девчонки, – оправдывался я. – Не могу же я дружить с девчонками!
– Ну с Настей Донцовой ты почему-то общаешься, – резонно возражал папа, – а она ведь отпетая троечница.
В Настю Донцову я был влюблен. Она была похожа на актрису Белохвостикову. Тоненькая девочка. Круглое лицо. Большие испуганные глаза. Очень красивые, голубые. Прямые длинные волосы. Мы жили в соседних домах, часто возвращались из школы вместе и ходили друг к другу в гости. На дне рождения Насти из всех гостей я был единственным мальчиком. Остальные были девочки. Привели еще какого-то Вадика. Но он был сыном знакомых Настиной мамы. Когда мы маленькие, такие вот “вадики” неизбежны на наших днях рождения. Вадик сидел на противоположном от меня конце стола и исподлобья на всех смотрел. Внешность его я не запомнил. Помню только белёсые редкие брови на круглом лице. В какой-то момент он подсел ко мне и стал хвастаться, что родители купили ему новый велосипед. Я ему в ответ сказал, что у меня тоже есть велосипед. Вадик задумался и стал ковыряться в носу указательным пальцем. Я на всякий случай от него отодвинулся. Вообще тот день рождения был скучным. Настины родители затеяли детский концерт и заставляли нас читать вслух школьные стихи. Я застеснялся и стал упрямо отказываться. Настины родители мне не нравились. Они явно не одобряли нашей с Настей дружбы. Видимо, им казалось, что их дочь достойна мальчика, у которого успеваемость по основным предметом выше, чем у меня. Мой папа, кстати, тоже не был в восторге. Но он понимал, что сердцу не прикажешь и давить на меня не стоит. Настя… ну и бог с ней. В конце концов, с годами найдет себе девочку поумнее, из профессорской семьи. Будут вместе в филармонию ходить. Шопена слушать. А товарищи – дело другое. Тут следует проявить твердость.
– Ты бы очень порадовал отца, – сказал он мне как-то раз за обедом, – если бы подружился с Алёшей Петренко. Верочка! – повернулся он к маме. – Они тут с Алёшей листики собирали на остановке. Я наглядеться не мог! Два таких чудных мальчика!
Лёша Петренко был круглым отличником, и с первого класса его фотография висела на школьной доске почета. “Собирали листики…” Эти дурацкие “листики” папа вспоминал потом целый год. В тот день он забирал меня из школы. На трамвайной остановке мы встретили Лёшу Петренко и его маму, пожилую даму в демисезонном пальто и с выражением вдохновенной скуки на лице. Стоял теплый октябрь. Трамвая долго не было. Взрослые завели о чем-то разговор, а нас с Лёшей предоставили друг другу.
Лёшина мама сказала:
– Пока трамвая вроде не видно, идите, дети, вон к тем деревьям и поиграйте.
– Во что поиграть? – с готовностью спросил Лёша.
– Ну, листики пособирайте. Вон они какие красивые – желтенькие, красные. Помнишь, Алёша, мы стихотворение наизусть учили про золотую осень? Бегите, ребятки, посоревнуйтесь, кто первый соберет самый красивый букет.
Если бы в тот момент рядом был Витя Андреев или Вадик Кириллов из моего класса, мы бы нашли чем заняться. Мы бы в пятнашки поиграли или желудями покидались. Но Лёша сразу же направился туда, куда сказали. Мне пришлось к нему присоединиться. И тоже подбирать с земли дурацкие желтые листья, чтобы порадовать папу. До сих пор вспоминаю выражение полнейшего счастья и безмятежности на его лице.